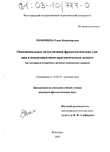Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Жанровая «память» христианского видения в рассказах Е.И. Замятина 1910-х гг 21
I. Модель жанра христианского видения 25
II. Жанровые трансформации видения в русской литературе 43
III. Актуализация жанровой «памяти» христианского видения в новеллистике Е.И. Замятина 52
1. «Сказки» (1914-1920) Е.Замятина 52
1.1. Рассказ-притча «Херувимы» (1917) 54
1.2. Рассказ-притча «Дьячок» (1915) 62
2. Видение как «вставной» жанр в новеллистике Е. Замятина 73
3. Анекдот и христианское видение: «Сподручница грешных» (1918) 75
4. Авторский солярный миф, антиутопия и христианское наваждение: «О том, как исцелен был инокЕразм» (1920) 82
Выводы 94
Глава II. Жанровая «память» древнерусского жития в рассказах Е.И. Замятина 1910-х гг 99
I. Модель жанра древнерусского жития 99
II. Жанровые трансформации жития в русской литературе 121
III. Актуализация жанровой «памяти» древнерусского жития в новеллистике Е.И. Замятина 127
1. Народная баллада и житие-биос в рассказе «Чрево» (1913) 129
2. Житие, легенда об исчезнувшем граде и христианское чудо: «Знамение» (1918) 139
3. Патериковая новелла, анекдот и житие-мартирий: «Сподручница грешных» (1918) 164
Выводы 174
Заключение 177
Библиография 183
- Жанровые трансформации видения в русской литературе
- Анекдот и христианское видение: «Сподручница грешных» (1918)
- Жанровые трансформации жития в русской литературе
- Житие, легенда об исчезнувшем граде и христианское чудо: «Знамение» (1918)
Введение к работе
Актуальность исследования.
Несмотря на большую степень изученности творчества Е.И. Замятина 1910-х гг., до сих пор нет целостного представления о жанровом репертуаре и специфике литературных экспериментов писателя в области жанрового синтеза. В частности, недостаточно изучена проблема диалога Е. Замятина с сакральными жанрами библейской и древнерусской словесности. Открытым остается вопрос о значимости этих поисков Замятина для историко-литературного процесса 1910-х гг. и дальнейшего развития русской литературы.
Для творческой манеры Е. Замятина характерно активное экспериментирование в области жанра. В 1910-е годы писатель осваивает поэтику жанрового синтеза: в своих произведениях он объединяет такие жанры, как фельетон, повесть, литературная баллада, анекдот, исторические мемуары и др. Важная составляющая экспериментов писателя – поиск путей художественного синтеза жанров светских и сакрально-архаических. В 1910-е гг. наиболее плодотворно подобные опыты Замятин проводит на материале современного ему рассказа. Наряду с этим, в литературоведении недостаточно разработаны как общая теория жанрового синтеза, так и механизмы взаимодействия типологических разновидностей жанра в новеллистике Е. Замятина 1910-х гг.. Кроме того, хотя поэтика сакральных жанров библейской и древнерусской словесности основательно изучена, в научной литературе представлен только их жанровый состав (совокупность устойчивых компонентов жанра), системная же организация этих жанров не рассмотрена.
Степень изученности проблемы:
Поэтика жанрового синтеза в рассказах Е. Замятина изучена Т.Т. Давыдовой, В.Н. Евсеевым, А. Гилднер, Н.Н. Комлик, Н.Ю. Желтовой, С.Ю. Николаевой, С.И. Красовская, О.Н. Кудрявцева. Поэтика сакральных архаических жанров видения и жития изучена в работах таких исследователей как В.О. Ключевский, А.Н. Веселовский, Н.И. Прокофьев, Д.С. Лихачев, А.Я. Гуревич, С.С. Аверинцев, А.Н. Робинсон, М.Л. Гаспаров, Е.К. Ромодановская, Н.А. Криничная, Р. Пиккио, У.А. Элуэлл и Ф.В. Камфорт и др.
Объект исследования – рассказы Е. Замятина, в которых писатель осовременивает жанры библейской и древнерусской литературы: библейская притча, христианское видение, наваждение, молитва, топонимическое предание старообрядцев, древнерусское житие, акафист и религиозная проповедь. Наиболее активно Е. Замятин обращается к христианскому видению и древнерусскому житию, поэтому анализу этих жанров мы уделяем особое внимание.
Предмет исследования – новеллистика Замятина 1910-х годов в аспекте жанрового синтеза с произведениями библейской и древнерусской христианской литературы.
Цель работы - путем анализа произведений, в которых писатель обращается к сакральным архаическим жанрам библейской и древнерусской литературы, выяснить, какой вклад Е.И. Замятин внес в развитие жанра рассказа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
– составить типологию рассказов Е. Замятина 1910-х гг., в которых актуализируются сакральные жанры библейской и древнерусской словесности;
- разработать жанровые модели христианского видения и древнерусского жития;
– изучить механизмы взаимодействия сакральных архаических жанров и жанра рассказа у Е. Замятина и определить семантику такого жанрового синтеза (выяснить, какое смысловое приращение при этом происходит);
– охарактеризовать значение жанровых экспериментов и открытий Е.И. Замятина для развития русского рассказа 1920-1930-х гг.
Методологические принципы исследования.
Исследование опирается на системно-структурный, историко-генетический и сравнительно-исторический подходы. Методика исследования: новеллистика Замятина рассматривается в свете генезиса жанров; разрабатываются их теоретические модели и изучаются конкретные способы взаимодействия жанров жития, видения с жанровой структурой рассказа при создании художественного целого.
Методологическую и теоретическую базу исследования составили работы А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, Б.В. Казанского, О.М. Фрейденберг, В.Я. Проппа, Н. Фрая, М.М. Бахтина, Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого.
Жанровая поэтика новеллы рассматривается с опорой на работы М.А. Петровского, В.П. Скобелева, В.В. Кожинова, Г.Н. Поспелова, Б.В. Томашевского, С.И. Кормилова, А.В. Михайлова, М.Н. Эпштейна, В.И. Тюпы, М.И. Бента, Е.В.Пономаревой.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что мы углубляем представление о такой категории как жанр через проблему синтеза, диалога жанровых структур в художественном произведении.
Научная новизна исследования определяется тем, что впервые в отечественном литературоведении жанры христианского видения и древнерусского жития мы рассматриваем как миромоделирующие системы.
Проблема жанрового синтеза новеллистики Замятина с данными жанрами
также впервые становятся объектом специального исследования.
Научная значимость работы состоит в том, что мы определили механизмы создания Замятиным художественного произведения как индивидуальной жанровой формы, образуемой взаимодействием миромоделирующей структуры рассказа со структурами видения и жития.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы могут быть использованы в преподавании вузовских курсов ”История древнерусской литературы”, ”История русской литературы ХХ века”, а также на спецкурсах по жанровой поэтике литературного произведения.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Через диалог с сакральным архаическим каноном Е.И. Замятин выявляет семантическую первооснову христианского видения и древнерусского жития, которая сохраняется в их жанровой ”памяти”.
2. Актуализируя в новеллистике 1910-х гг. жанровую ”память” видения и древнерусского жития, Е. Замятин частично или полностью релятивизирует воплощенные в них этико-эстетические мифологемы. Частичная релятивизация таких мифологем нетождественна поэтике пародии в рассказах Е. Замятина.
3. Писатель разрабатывает следующие механизмы взаимодействия (взаимопроникновения) жанровой структуры рассказа со структурами архаических сакральных жанров (видения, жития):
- Обращаясь в рамках одного произведения к религиозным жанрам, писатель объединяет их с беллетристическими жанрами; все эти структуры могут дополнять друг друга или же находиться в полемических отношениях.
- Монологическую субъектную организацию, характерную для сакральных жанров, писатель усложняет, используя возможности субъектной организации новеллы начала XX века (сказовое слово, рассеянное разноречие и др.).
- Базовую для хронотопа библейских (христианских) жанров оппозицию ”горнее” – ”дольнее” писатель интерпретирует как в пародийном, серьезно-смеховом, так и непародийном аспектах.
- Ключевой для сакральной литературы, ее эмоционального тона, мотив религиозного умиления автор десакрализует иронией, серьезно-смеховой интонацией или же, наоборот, сохраняет его священный смысл.
- Проповеднический пафос, свойственный сакрально-архаической литературе, Замятин ”прячет” в подтексте своей новеллы. Лишаясь открытого, дидактического звучания, этот пафос не только релятивизируется писателем, но и демонстрирует жизнестойкость в условиях самых активных трансформаций.
4. Жанровые эксперименты Замятина, рассмотренные в данной работе, соответствуют тенденции онтологизации поэтики русской литературы конца XIX – начала ХХ вв., при этом все свои рассказы с актуализированной «памятью» сакральных жанров Замятин ориентирует на современный ему социально-исторический контекст.
Апробация работы.
Жанровые трансформации видения в русской литературе
Опираясь на традиции Византийской сакральной словесности, древнерусская литература осваивает поэтику христианского видения; менее существенным оказалось влияние Западной Европы. В свою очередь, византийская и западноевропейская литература испытала влияние раннехристианской словесности и иудейских и христианских апокрифов 09. Жанр видения представлен такими древнерусскими текстами, как «Житие Феодосия Печерского» (80-е гг. XI в.) Нестора, «Киево-Печерский патерик» (XI в.) - один из первых и наиболее значимых сакрально-беллетристических памятников на Руси, а также «Повесть о Новгородском белом клобуке» и «Слово о видении Иоасафа» из «Повести о Варлааме и Иоасафе». Большое внимание христианскому видению и его непародийному антижанру уделяет «Волоколамский патерик» (XVI в.). Сюда же следует отнести такие тексты как «Повесть о Ефросине Псковском», «Повесть о Мартирие, основателе Зеленой пустыни», «Повесть о видении от старчества к пастырям», лирика Ивана Хворостина: «Егда вознесся Бог на небеса...» (1-я Vi XVII в.) и др. Параллельно сакральной линии, в древнерусской словесности набирает силу светская литература — обе эти тенденции взаимодействуют. Так, в «Повести о путешествии Иоанна Новгородского на бесе» (XV в.) жанр наваждения сочетает в себе религиозный дидактизм и занимательный сюжет. Наконец, Симеон Полоцкий беллетризует сакральный жанр через поэтическую традицию виршей: образы библейского видения используются в поздравительном послании («От царевича») или же бесовское наваждение и христианское чудо травестируются в бытовом контексте («Пиянство»).
Начиная с XVIII века, христианское видение ассимилируется в светской литературе. В первую очередь, это касается классицистической традиции духовных од - в поэзии М. Ломоносова («Духовные оды», 1743-1751), А. Сумарокова («Духовные оды», 1759-1773,), Г. Державина («Духовные оды», 1775-1816). Сюда же следует отнести «Россияду» (1779) М. Хераскова. Русский классицизм переосмысляет библейский жанр в русле рационалистических идей. Так, в «Утреннем размышлении» М. Ломоносова монументальный пейзаж наводит лирического героя на размышление «о божьем величии», но мистицизм Откровения здесь опосредован в естественнонаучной картине мира. Визионера теперь сменяет просвещенный человек, который созерцает вселенную при помощи своего воображения. Между тем именно в этот период развития отечественной словесности становятся популярными такие синтетические жанры как подражание и переложение библейских тестов - это псалмодическая лирика М. Ломоносова, переложения книг пророков Иеремии и Варуха, выполненные А. Сумароковым, духовные оды В. Капниста и др110.
Опираясь и во многом уже отталкиваясь от традиций литературного классицизма, А. Радищев актуализирует жанр христианского видения в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790, глава «Спасская полесть»). А. Мерзляков обращается к видению в таких текстах как «Слава» (1799-1801), «Тень Кукова на острове Овги-ги» (1804), «К неизвестной певице» (1808); сакральный жанр осовременивает В. Капнист в «Видении плачущего над Москвой россиянина» (1812).
Промежуточное звено в осмыслении христианского видения классицистической и романтической литературой представляет стихотворение Н. Гнедича «Глас благодарности» (1805). Отталкиваясь, от традиции М. Ломоносова, автор объединяет естественнонаучную картину мира с образом всевышнего, но включает в такое соотношение новый компонент - образ лирического героя. Такой герой еще не романтическая личность, с ее неповторимым внутренним миром - это, скорее, человеческий индивид, но именно его мучительные переживания становятся смысловым центром текста п. С жанром видения поэт делает интересный эксперимент: Божье Откровение перестает быть для героя проповедью — оно опосредуется через весть о спасительной «руке состраждущих» и последующей счастливой судьбе, так в душе лирического героя возрождается любовь к жизни (суть Откровения). Однако "горний" мир христианского видения становится уже меньшей частью от целого. Явление «гения кроткого» напоминает больше метафору, фантазию, о которой осчастливленный герой тут же забывает; к тому же он и не думает возлюбить любого ближнего, а отдает свою любовь лишь друзьям. С выражением «гласа благодарности» «состраждущим» друзьям и связаны «пророчество», самоумаление визионера: он теряет «кисть», «арфу» и не находит слов. В стихотворении «К Провидению» (1819) Н. Гнедич акцентирует метафорическую условность Откровения, а вместо христианского «горнего» мира изображает социальную утопию будущего («суд необольстимого потомства»).
В гражданском романтизме поэтов-декабристов жанр видения также распространен. Однако поэтов интересовал не столько сакральный характер, сколько пафос, экспрессия жанра, воспитательно-проповедническая сила и онтологизм, которые озаряли образ новых просветителей общественности светом вечного, вписывали их идеи в первоосновы мирового порядка. Сюда следует отнести «Видение императрицы Анны» (1822), поэму «Наливайко» (1824, глава «Сон Жолковского») К. Рылеева; «Опыты священной поэзии» (1825) Ф. Глинки; «Тень Рылеева» (1827) и «Духовные стихотворения» (1829-35) В. Кюхельбекера, «Колыбельная песнь» (1832) А. Одоевского. Декабристы актуализируют жанр видения и в более опосредованной форме -когда мистический образ «горнего» мира становится метафорой: «М.Н. Болконской» (1829), «Дева 1610 года» (1827-30), «Неведомая странница»
Анекдот и христианское видение: «Сподручница грешных» (1918)
Рассказ «Сподручница грешных» был опубликован в 1922 году в альманахе «Пересвет». Противоречивая реакция критики была связана не только с предполагаемой в рассказе анти-болыпевистской подоплекой174 -сомнения вызывала гротескная поэтика «Сподручницы», основанная на противоречивом жанровом синтезе: христианское видение, древнерусское житие и анекдот.
Согласно сюжету «Сподручницы грешных», от села Манаенки к близлежащему женскому монастырю направляется делегация из трёх человек с целью изъятия («согласно постановлению») церковного имущества. После короткой беседы с игуменом - матерью Нафанаилой - делегация покидает монастырь, так и не добившись своей цели. Встрече с манаенскими мужиками предшествует короткий сон игуменьи в ее покоях.
Видение в «Сподручнице» переживает не библейский пророк, а русский православный церковнослужитель, поэтому Е. Замятин обращается к древнерусскому изводу библейского видения. Как отмечает Вадим Полонский, «С образованием института монашества центр христианской святости перемещается в ... иноческую обитель»175. В соответствии с этим, для древнерусского христианского видения более характерны не образы пустыни, моря, гор и ночной степи (как в библейском видении), а локальные топосы: православный храм , монашеская келья , пещера . Субъектная организация в анализируемом фрагменте рассказа представлена речевой зоной Нафанаилы. Замятин объединяет здесь безличное повествование с повествованием от лица визионера (используя форму прямой речи и рассеянное разноречие): «Радостно, а все-таки уходилась Нафанаила с гостями. И как уйти — Катерину-казначею отпустила, штору задернула и на диван прилегла... А только глаза завела — все девять дочерей тут тоже - на именины, веселые такие. - А музыка-то у вас есть там, милые вы мои? - Ну как лее, обязательно... - и пойти притопывать, и все громче, сапоги-то у них там носят какие здоровые, вот не думала!»119. Библейское и архаическое христианское видение не знает такой двусторонней организации повествования. Речевая зона матери Нафанаилы стилистически оформлена в виде сказа (народно-поэтическое и разговорное слово).
Интонации религиозного умиления сопутствуют в тексте камерной (а не эпически монументальной) поэтике видения - Божьими посланниками оказались дочери игуменьи. Замятин использует и фигуру умолчания: мать Нафанаила встретилась с покойницами — она давно уже потеряла своих дочерей (об этом читатель узнает из предшествующего видению жизнеописания игуменьи). Религиозное умиление визионера связано, тем самым, не только с общехристианской идеей великой скорби, но и с драмой всей его жизни.
Организация повествования в этом видении во многом определяет его пространственно-временные координаты. Исключительную значимость видения библейские и древнехристианские авторы акцентируют через мотив потрясения, мистического трепета визионера, описываемым событиям также сопутствует авторитетный комментарий (религиозная проповедь) от лица повествователя. Но замятинская игуменья, соприкасаясь с «горним» миром через Божьих вестников, просто не понимает, что с ней произошло, и никто ей этого не разъяснит. Устраняя из видения матери Нафанаилы авторитетный образ повествователя, открыто несущего читателю христианские истины, Замятин отчасти релятивирует сакрально-мистическую семантику этого жанра. В рассказе начинает работать логика «завуалированной фантастики» - согласно которой Откровение, полученное матерью Нафанаилой, может быть приравнено к нелепице задремавшего человека.
Писатель подвергает хронотоп христианского видения еще одной метаморфозе: портреты Божьих вестников не только опираются на «узнаваемые» реалии "дольнего" мира (антропо- либо зооморфные черты), но и постепенно подменяются ими. Громкими сапожками дочерей, пляшущих во сне игуменьи, оказались сапоги и кулаки, которыми застучали в дверь пришедшие в монастырь мучители: «...и пошли [дочери] притопывать, и все громче, сапоги-то у них там носят какие здоровые, вот не думала! Раскрыла Нафанаила глаза: у притолки мужиков трое топчутся» . Однако Замятин сохраняет в рассказе глубочайший религиозный смысл пережитого Нафанаилой видения, и вышеприведенный коллаж здесь неслучаен.
Писатель трансформирует систему характеров, распространенную в библейском видении (Божий вестник или сам Господь как носитель Откровения - Пророк как адресат и медиатор Откровения - Люди на земле как адресат пророчества). Адресатами пережитого визионером Откровения оказались пришедшие к игуменье мучители. Е. Замятин, тем самым, до предела драматизирует конфликт «Сподручницы»: на мать Нафанаилу возлагается задача спасти от греха убиения всех людей, оказавшихся в манаенском монастыре - и праведников («девяносто дочерей») и самих убийц. Такой поворот оказался возможен, благодаря синтезу в «Сподручнице грешных» жанров видения и древнерусского жития (сакральной биографии) — в первую очередь, их систем персонажей. Христианское видение (наваждение), с характерным для него противопоставлением «Божий посланник - Сатана», совмещается и постепенно подменяется в рассказе «дольней» житийной антитезой: «праведник - грешник». Если бес в христианском сознании - изначальный враг рода людского, то грешник воспринимается, как человек, которого нужно спасти: «так что вам лучше уже простить его и утешить... чтобы не сделал нам ущерба сатана» (2 Кор. 2:7-11). В связи с такой разницей в восприятии беса и грешников, и традиционный мотив «прозорливости» - как залога победы праведника над бесами - получает в «Сподручнице» новое осмысление. Согласно традиции древнерусского наваждения, инок должен суметь отличить зло от мнимого блага, разглядеть беса даже в ближнем своём или под ангельской личиной - в противном случае инок может погубить своё тело и душу: «Василий убо послань бываеть игуменом на нъкое ДЬло, и ... врагъ [дьявол] ... преобразився в того брата подобие... Не разумьв же Феодоръ ... глаголеть, к нему ... : "...аще что велиши, с радостью сътворю...". ... И глагола ему бісь...» . В «Сподручнице грешных» мы видим уже обратный случай. Манаенцы, пришедшие разорить монастырь оказались озарены (в видении Нафанаилы) светом «горнего», и потому мать Нафанаила, смогла разглядеть в них людей — приняла их в свое сердце и встретила с радушием.
Жанровые трансформации жития в русской литературе
Для отечественной словесности XVIII века характерна радикальная секуляризация в купе с рационалистическими представлениями о человеке и окружающем его мире. В таких новых условиях агиографию вытесняет эстетика литературного классицизма. Житийный жанр остается в конфессиональных рамках или переходит в фольклорное бытование314.
Первое «открытие» древнерусской агиографии происходит в начале XIX века. Однако эстетические принципы русских романтиков существенно отличаются от идейного пафоса и поэтики средневековой сакральной биографии. Поэты-декабристы, как правило, осмысляют тему христианской аскезы и святомученичества в социальном, историко-патриотическом контексте: «Волынский» (1822), «Михаил Тверской» (1822), «Иван Сусанин» (1823) «Наливайко» (1824, глава «Сон Жолковского») К. Рылеева; «Переложение псалма 136-го» (1823), «Блаженство праведного» (1824), «Из псалма 43-го» (после 1825) Ф. Глинки; «Тень Рылеева» (1827), «Участь русских поэтов» (1845) В. Кюхельбекера; «Колыбельная песнь» (1832) А. Одоевского и др. Показателен пример дум К. Рылеева: в этих поэтических биографиях возникает высокий образ Гражданина — мыслящей личности, которая живет по общечеловеческим законам разума и гуманизма.
Актуализация житийного жанра русским классическим романтизмом предполагает новое осмысление образов праведника, проходящего земной путь, и мира «горнего» в целом. Поэзия романтиков создает образ одинокой личности с ее неповторимым внутренним миром и поисками запредельного. Романтический герой возникает в тексте по законам генерализации: он легко узнаваем в своей «неповторимости», его индивидуальность психологически не окрашена. Такой образ опирается на богатую экзотическую атрибутику: подобно актеру, герой может облачиться в доспехи пилигрима («Последним сияньем за лесом...», 1815, А. Пушкина), поднять Веселого Роджера («Корсар», 1828, М. Лермонтова), оказаться людским «изгнанником» во вражьем стане («Пленный», 1814, К. Батюшкова), искушаемым («Умолкший поэт», 1836, А. Кольцова), изгоняемым пророком («Проклятье», 1822; «Участь поэтов», 1823, В. Кюхельбекера) и, в том числе, облачиться в монашескую рясу, одежды христианского подвижника («Снегирь», 1809, Н. Гнедича; «Русалка», 1819, А. Пушкина; «Могила», 1836, В. Бенедиктова) и с той же легкостью избавиться от нее («Пустынник», 1813, В. Жуковского); в философской лирике декабристов это метафорический образ библейского «праведника» (переложения псалмов в «Духовных стихотворениях», 1829-35 В. Кюхельбекера), «страдальца правоты» (переложения псалмов в «Опытах священной поэзии», 1825 Ф. Глинки) . Легкость метаморфоз, которые претерпевает такой герой, недопустима в агиографии - здесь возможен только один переход: из грешников в праведники — или наоборот316. Все это свидетельствует о беллетризации романтиками сакрального жанра.
Философия романтического конфликта эстетически преломляется таким образом, что литература романтиков чаще оппозиционна предшествующим ей литературным традициям. Тем самым, актуализируя древнерусское житие, романтизм использует довольно ограниченный набор механизмов жанрового синтеза — агиография не является здесь полноправной составляющей жанрового диалога. Житие интересует романтиков, скорее, как тема для вольного размышления и агиографическая структура здесь ассимилируется в другом жанре: это литературная стилизация предания — «Покаяние» (1831) В. Жуковского - и исторической песни - «Зосима» (1829) А. Одоевского; романтическая баллада — «Громобой» из поэмы «Двенадцать спящих дев» (1810); «Баллада, в которой описывается как одна старушка...» (1814) В. Жуковского; «Русалка» (1819) и «Жил на свете рыцарь бедный» (1829) А. Пушкина; «Умолкший поэт» (1836) А. Кольцова и др. Художественный диалог здесь подразумевает также создание образа героя путем взаимоналожения сакрально-архаического и романтического принципов генерализации, с преобладанием последнего. Наряду с этим, механизмы жанрового синтеза писатели и поэты осваивают через эксперименты по созданию не только беллетризованных, но и антижанровых (в т.ч. пародийных) форм жития - показательный пример тому - «Монах» (1813) А. Пушкина.
Как отмечает СИ. Красовская, «новый всплеск интереса к агиографии литература пережила во второй половине XIX столетия. Именно в это время начинается активная демократизация литературы, повлекшая усиление внимания к фольклору и древнерусской письменности. Житие теперь уже в виде жанрового архетипа, определяющего иногда самостоятельно, иногда на равных правах с иными архетипами жанровую модель новых произведений, вновь становится частью большой литературы - начинается новый культурный цикл»317.
Русская реалистическая литература активно включается в диалог с сакральными жанрами, развивает и совершенствует механизмы жанрового синтеза с древнерусским житием. Классический реализм осваивает новый тип художественной образности - созданной по законам типизации. Принципиальная открытость нового искусства к окружающей действительности начинает способствовать взаимодействию литературы с предшествующей ей традицией. Древнерусское житие постепенно становится полноправной составляющей жанрового диалога. Так, противостояние жанровой семантики христианского мартирия и его карнавальной антижанровой ипостаси получает философское осмысление в «Пире во время чумы» (1830) А. Пушкина. Сложный синтез агиографической традиции, клише рыцарской, ренессансной и романтической литературы представляет стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829): произведение объединяет в себе сентиментальную, трагическую и одновременно комическую основы.
Романтическое искусство, обогащаемое опытом реализма, также начинает взаимодействовать с агиографической жанровой традицией. М. Лермонтов в поэме «Мцыри» (1840) актуализирует антижитийный образ, однако герой не только «реабилитируется» автором, но и получает право судить этот мир.
Житие, легенда об исчезнувшем граде и христианское чудо: «Знамение» (1918)
В рассказ повествуется о жизни монастыря, Ларивоновой пустыни, стоявшем на берегу озера, и о подвиге веры, о чуде, которое совершил пришедший в те края монах Селиверст, а затем предал себя смерти в водах озера. В «Знамении» Е.И. Замятин вступает в активный диалог как с архаическими, так и беллетристическими литературными жанрами, кроме того, писатель соотносит жанры двух оппозиционных друг к другу религиозных культур: древнерусское житие и старообрядческая версия легенды об исчезнувшем граде (Китеже).
Патериковая новелла, как беллетризованная разновидность агиографии, разрабатывает поэтику непародийного антижития. Это история о падшем человеке (чаще всего бывшем праведнике), который представляет для читателя пример недостойного поведения. В древнерусской словесности есть произведение, близкое по сюжету, системе характеров и другим особенностям рассказу Замятина — это новелла Киево-Печерского патерика:
Слово 25 «О Ниюгґь Затворници, иже по семь бысть епископ Новуграду»369. Из патерика мы узнаем о монахе Никите, который ушел от братии в затвор, чтобы пережить Откровение Божие — «Жалаа славгшъ быти от человъкъ, дъло велие не Бога ради замысливъ и нача просити у игумена, да в затворь внидет ... Никита же никакоже внять глаголемым от игумена, но... заздавъ о собі двіри и пребыстъ не исходя... Не по мнозехъ же дьнехъ прелщен бысть от Диавола» . Затворничество Никиты повторяет и герой Замятина: придя в Ларивонову пустынь, Селиверст селится в отдаленную келью, где вскоре становится «бледен лицом и руками — как бледен бывает овощной росток, проросший в погребе» . Алчущий знамения Селиверст, в отличие от Никиты, не имеет тщеславных помыслов. Однако герой следует по стопам усомнившегося Фомы, который говорит о воскресшем Христе: «если... не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25). Истовое взыскание Селиверстом Откровения лишено кротости и долготерпения (важнейшие составляющие христианского смирения372): «Чудно молился монах: стиснуты губы, стиснуты брови и руки, впился в пресветлый лик, в упор, глазами в глаза». Это сразу замечает «прозорливый» вратарь монастыря, старец Арсюша: «Попомни, брат, на Страстной-то поется: несытая душа» .
И древнерусский текст и рассказ Е. Замятина изображают человека, который претендует на исключительный характер своей судьбы: способность пережить Откровение - а значит - обрести дар пророчества. Но Селиверст и Никита лишены одного из главных для героя-пророка качеств -богоизбранности, поэтому оба монаха — это христианские антигерои: «И у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» [2 Пет.2:1] . Опираясь на труды сирийского святого Аввы Дорофея, древнерусские книжники называют такое поведение «самосмышлением — началом и корнем тщеславия» и осуждают его как грех: «Многообразна вселукавый Сатана тщится на погубление человеку ... и тако удобъ погибает чъловек; не точию злым прилежа, но и блага творя, - самосмьппления погибаеть»375. Поведение Селиверста тоже подвергается открытой оценке самого авторитетного характера — через иконописную аллегорию: «Потом взял [игумен Веденей] Селиверста за руку и подвел к написанной на стене картине. - Вот - смотри и сам найди здесь себя. Был на стене изображен Змеевидный Блуд... И среди прочих - увидал Селиверст грешника тощего... Змий ввергал в рот ему огненную реку, и все шире тощий разиналрот, без конца поглощая огонь, и была подпись: "алчба"... - Так, отче, алчу я. Огонь меня снедает, невозможного алчу, знамения молю - чтобы поверить, знамения требую...» . Потом Селиверст слышит от игумена христианскую проповедь: «Сверху сурово говорил Селиверсту о его непомерном дерзании, о разоренной тишине, о соблазне малым, грозил сослать в хутор коровником»377. Важно, что и сам Иисус, сотворивший многие чудеса, осуждает фарисеев, требующих от него знамения, осуждает их как людей, лишенных Веры: «Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему» (Мф. 12:39).
Патериковый герой и замятинский персонаж, по-своему, добиваются того, к чему изначально стремились: Никита, прельщаемый бесом, «нача пророчьствовати, и бысть о нем слава велика»; Селиверст творит чудо без Божьей помощи (с иконой в руках он усмирил пламя — остановил пожар и спас от него церковь ). Оба монаха наказываются за грех «самосмышления»: исцелившись от беса, Никита теряет память и становится неграмотным, а Селиверст навсегда теряет веру в Бога. По сравнению с древнерусским текстом, финал замятинского рассказа более драматичен: Селиверст совершает самоубийство. Библия рассматривает самоубийство как признак моральной, духовной слабости человека379; еще важнее, что христианская церковь расценивает этот поступок уже как смертный грех .
Тем самым, Замятин подвергает своего героя — бунтаря-богоискателя — строгому суду от лица русской православной культурной традиции: писатель обращается к образу житийного антигероя, сбившегося с духовного пути праведника, который не может найти дороги ни к Богу, ни к людям