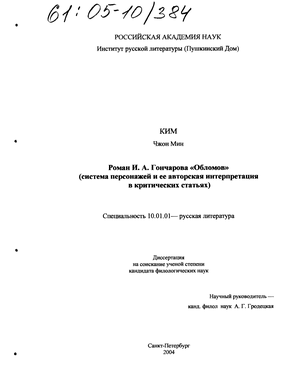Содержание к диссертации
Введение
Глава 1: Специфика интерпретации текста в литературно-критических статьях Гончарова и гончаровская концепция «типа»
1.1. Романные конфликты в зеркале гончаровской критики. Концепция «типа» 9
1.2. « Свое» в «чужом» тексте: «типы» и «идеалы» в статьях Гончарова «Мильон терзаний» и «Опять "Гамлет" на русской сцене» 27
1.3. Тип «лишнего человека» в статьях Гончарова (к полемике об Обломове как «лишнем человеке») 48
Глава 2: Поэтика парных конструкций в романе «Обломов» 64
2.1. «Сердце» и «ум»: Обломов и Штольц 65
2.2. «Умное сердце»: Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына 87
2.3. Спутники Обломова: Захар, Тарантьев 101
2.4. Поэтика парных конструкций и объективность
автора 106
Заключение 122
Библиография 126
- Романные конфликты в зеркале гончаровской критики. Концепция «типа»
- Свое» в «чужом» тексте: «типы» и «идеалы» в статьях Гончарова «Мильон терзаний» и «Опять "Гамлет" на русской сцене»
- «Сердце» и «ум»: Обломов и Штольц
- «Умное сердце»: Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына
Введение к работе
В последние полтора-два десятилетия интерес к творчеству Гончарова заметно возрос — как в России, так и у западных славистов. При этом все чаще высказывается мнение о загадочности и закрытости художественного мира писателя, о недопонимании особенностей этого мира как критикой, так и позднейшей филологической наукой. Большинство исследователей вынуждены признать, что творческое наследие Гончарова нуждается в более адекватном и современном прочтении и осмыслении. За последние годы изменилась методика и в целом направленность исследований, посвященных Гончарову. От многократно повторенного в работах 1950—1980-х годов исследования «творческого пути» писателя от романтизма к реалгому (работы А. П. Рыбасова, А. Г. Цейтлина, Н. И. Пруцкова, Л. М. Лотман и др.), от анализа гончаровских «характеров» научный интерес переключается в другие области. Благодаря исследованиям последних лет углубилось и усложнилось представление о творческой эволюции писателя, о влиянии на него не только Карамзина, Пушкина, Белинского, Гоголя (что составляет заслугу предшествующих десятилетий и ни в коей мере не оспаривается), но и эстетики Винкельмана, Н. И. Надеждина (его университетского педагога), круга Майковых (Вал. Майкова в особенности), идеологии и поэтики «натуральной школы». Появился ряд обобщающих монографий и статей об эстетике и миросозерцании Гончарова (работы В. И. Мельника, В. А. Недзвецкого, Е. А. Краснощековой, Л. С. Гейро, В. А. Котельникова, О. Г. Постнова, В. Н. Криволапова1 и др.), о художественном методе писателя, поэтике и стилистике, об отдельных компонентах его художественной системы — принципах типизации, структуре конфликта, временной организации текста, цитатное™, «идиллическом» хронотопе и проч. (работы М. В. Отрадина, П. Е. Бухаркина, Е. И. Ляпушкиной, Л. Л. Фаустова, Т. Б. Ильинской, Г. Димент1 и др.). Более широко публикуется и исследуется литературно-критическое наследие писателя. Вышли в свет 7 томов Академического Полного собрания сочинений и писем Гончарова с обширными комментариями.3
Центром научного внимания по-прежнему остается роман «Обломов», проблематика которого с течением времени приобретает новую актуальность. Однако нельзя не признать справедливым мнение О. Г. Постнова, писавшего о том, что в новейших работах о Гончарове присутствует «пестрота мнений», но отсутствуют споры и научные дискуссии, н в целом «изучение Гончарова как-то с трудом складывается в единый процесс».4 Очевиден, кроме того, дефицит исследований, сопрягающих воедино эстетические принципы Гончарова-романиста и критика.
Необходимый материал для исследования этой проблемы дают критические статьи Гончарова. Именно в соотношении с этими статьями, и в первую очередь в соотнесенности с фигурами Чацкого и Гамлета, — учитывая гончаровскую интерпретацию данных характеров в статьях «Мильон терзаний» (1872) и «Опять "Гамлет" на русской сцене» (1875), эта проблема и рассматривается в диссертации.
Мы исходим го положения о единой структурной организации «художественного мира» Гончарова, определяющей общую для его романного и нероманного творчества типологию конфликтов и характеров, четко выраженную «системность» в построении персонажной сферы. Данное положение опирается на ряд убедительно обоснованных научных концепций — Е. М. Таборисской,1 Н. Л. Гузь (типологическая общность «сквозных» в творчестве писателя «характеров»), Е. Л. Краснощековой (реализация «сверхзамысла» в каждом го гончаровских «замыслов»), Л. А. Фаустова («свое»/«чужое», идиллия/история) в общей структуре «художественного мира» Гончарова) и других. В критических статьях писателя выстраиваются те же, что и в романах, конфликты и та же, что и в романах, синтезирующая и примиряющая противоположные крайности концепция «нормального» человека (т. е. соответствующего искомой автором «норме» и его «артистическому идеалу»). Кроме того, мы разделяем неоднократно высказывавшееся в научной литературе (от Е. А. Ляцкого до М. Эре, Г. Димент и др.) мнение о принципиальной идентичности «художественного мира» и «жизненного мира» писателя.
Романные конфликты в зеркале гончаровской критики. Концепция «типа»
В роли истолкователя собственных и чужих произведений Гончаров не чувствовал себя уверенно. «Редко, — писал он в статье «Лучше поздно, чем никогда», — в лице самого автора соединяются и сильный, объективный художник и вполне сознательный критик» (8, 105). И завершая эту программную для него статью, Гончаров признавался, что он «не публицист, не присяжный критик», что все когда-либо заказанные ему статьи и рецензии выходили «бледны» (8, 148).
Критическое наследие Гончарова исповедально, даже когда его статьи посвящены другим авторам, это самовыражение художника, попытка прокомментировать и объяснить читателю и критикам собственные «намерения, идеи и задачи». Полемичность и противоречивость характерна для Гончарова-критика. С одной стороны, в свойственной ему «объективной» повествовательной манере, он стремится уйти от резких суждений, с другой — именно в статьях он бывает резко, до парадоксальности субъективен, непоследователен и несправедлив. «От автора романа "Обломов", — пишет Е. А. Краснощекова, — можно было бы ожидать эпичности, повествовательности, напротив — статьи его конфликтны, драматичны» (8, 490).1
Гончаров, во многом оставаясь верным эстетике Белинского и Добролюбова, разделяет и противопоставляет творчество сознательное и бессознательное. Он не снимает, не преодолевает, таким образом, а, напротив, заостряет те конфликты, которые актуальны для его романов, — конфликты «ума» и «сердца»,2 «идеи» и «фантазии», т. е. рационально-аналитического и художественно-интуитивного методов познания мира. В собственной его эстетике, таким образом, актуализируется его романная проблематика.
«Я думаю, — писал Гончаров, — и так и этак: смотря по тому, что преобладает в художнике, ум или фантазия и так называемое сердце. Он работает сознательно, если ум его тонок, наблюдателен и превозмогает фантазию и сердце. Тогда идея нередко высказывается помимо образа. И если талант не силен, она заслоняет образ и является тенденциею.
У таких сознательных писателей ум досказывает, чего не договаривает образ - и их создания бывают нередко сухи, бледны, неполны; они говорят уму читателя, мало говоря воображению и чувству. Они убеждают, учат, уверяют, так сказать, мало трогая.
И наоборот - при избытке фантазии и при - относительно меньшем против таланта - уме образ поглощает в себе значение, идею; картина говорит за себя, и художник часто сам увидит смысл - с помощью тонкого критического истолкователя, какими, например, были Белинский и Добролюбов» (8, 104—105).
Себя Гончаров относит к бессознательным художникам, которые «пишут инстинктом», фантазией, более сердцем, чем умом: «Обращаюсь к любопытному процессу сознательного и бессознательного творчества. Я о себе прежде всего скажу, что я принадлежу к последней категории, то есть увлекаюсь больше всего (как это заметил обо мне Белинский) "своею способностью рисовать"» (8, 105).
Соотношения «идеи» и «образа» («ума» и «фантазии») в трактовке Гончарова весьма противоречивы. По условию первого типа художника, тот факт, что ум побеждает фантазию, означает, что он не способствует созданию образа, однако Гончаров определяет, что ум — «это уменье создать образ» («Что такое ум в искусстве? Это уменье создать образ. Следовательно, в художественном произведении один образ умен...» — 8, 141). Отстаивая, оправдывая, поясняя свою «бессознателыгую» «способность рисовать», писатель с недоверием относится к уму: «Писать художественные произведения только умом — всё равно, что требовать от солнца, чтобы оно давало лишь свет, но не играло лучами ... Разве это реально?» (8, 141). С одной стороны, Гончаров объединяет «ум» именно с «идеей» («...если ум тонок ... тогда идея ... высказывается помимо образа»). С другой — «идея» есть производное не ума, но образа: «У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив: он-то и ведет меня вперед — и по дороге я нечаянно захватываю, что попадется под руку, то есть что блшко относится к нему...» (8, 105).
Стоит обратить внимание на то, как Гончаров определяет «идею». «Только когда я закончил свои работы, — читаем в его статье, — отошел от них на некоторое расстояние и время, — тогда стал понятен мне вполне и скрытый в них смысл, их значение - идея. Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое? Но этого не было. Мог бы это сделать и сделал бы Белинский, но его не было»
Свое» в «чужом» тексте: «типы» и «идеалы» в статьях Гончарова «Мильон терзаний» и «Опять "Гамлет" на русской сцене»
«Тонкие натуры, — писал Гончаров о Гамлете, — наделенные гибельным избытком сердца, неумолимою логикою и чуткими нервами, более или менее носят в себе частицы гамлетовской страстной, нежной, глубокой и раздражительной натуры» (8, 57). Как отмечает Е. Л. Краснощекова, «в этих строках сформулированы коренные признаки гончаровской модели идеальной человеческой личности (натуры), показать каковую в искусстве он стремился на протяжении всей своей деятельности, включая и критическую. Из этой модели исходил он, рисуя Чацкого, Гамлета, наконец, Белинского, который в своей психической конструкции столь неожиданно сближается с этими литературными героями» (8, 496; имеется в виду мемуарный очерк Гончарова «Заметки о личности Белинского»).
Не потому ли Гончаров так настойчиво отрицает то, что Гамлет и Чацкий - «типы», что в его интерпретации они гораздо больше, представляя собой то, что в швестном письме к И. И. Льховскому он определил как «идеал» и чему, так же, как гончаровской категории «тип», очень трудно найти точные оіфеделения? Гончаров писал своему корреспонденту 2 августа 1857 г.: «Меня иногда пугает, что у меня нет ни одного тина, а всё идеалы: годится ли это? Между тем для выражения моей идеи мне типов не нужно, они бы вели меня в сторону от цели. Или, наконец, надобен огромный, гоголевский талант, чтоб овладеть и тем и другим» (8, 244).
Бросается в глаза тот факт, что в «Мильоне терзаний» Чацкий, в целом, является предметом искренних и безоговорчных симпатий Гончарова.
Поиск Гончаровым идеальной человеческой личности всегда подразумевал гармонию «аналитического» и «артистического», «ума» її «сердца». И в критическом этюде «МІІЛЬОІІ терзаний» важной темой становится противопоставление «ума» и «сердца».
С первых страниц статьи Гончаров вступает в открытую полемику с Пушкиным, с его известным высказыванием, ставящим под сомнение ум Чацкого. Пушкин в письме 1825 года к Л. Л. Бестужеву писал: «В комедии "Горе от ума" кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. Л знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Всё, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый иршнак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело и не метать бисера перед Ренетиловыми и тому подобными».1
Гончаров, возражая Пушкину, дважды ссылается на него: «Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме». И далее: «Но Чацкий, не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом — это человек, не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он "чувствителен н весел, и остер". Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме» (8,24).
«Пушкин, отказывая Чацкому в уме, вероятно, всего более имел в виду последнюю сцену 4-го акта, в сенях, при разъезде. Конечно, ни Онегин, ни Печорин, эти франты, не сделали бы того, что проделал в сенях Чацкий. Те были слишком дрессированы "в науке страсти нежной", а Чацкий отличается и, между прочим, искренностью и простотой, и не умеет, и не хочет рисоваться. Он не франт, не лев. Здесь изменяет ему не только ум, но и здравый смысл, даже простое приличие. Таких пустяков наделал он!» (8, 34— 35). Для Гончарова «Чацкий как личность несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина» (8,24).
Весь «критический этюд» выстраивается на этом неожиданном и парадоксальном противопоставлении любимого героя Гончарова намеренно, тенденщіозно и несправедливо «сниженным» персонажам не менее любимых и почитаемых Гончаровым Пушкина и Лермонтова. Статус Чацкого по сравнению с «липшими людьми» Онегиным и Печориным таким образом намеренно «повышается».
Отношение к пушкинскому наследию в «Мильоне терзаний» противоречиво. Гончаров признает, что «у Пушкина гораздо более прав на долговечность, нежели у Грибоедова. Их нельзя блгако и ставить одного с другим. Пушкин громаден, плодотворен, силен, богат. Он для русского искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения вообще. Пушкин занял собою всю свою эпоху, сам создал другую, породил школы художников, — взял себе в эпохе все». Однако, как пишет Гончаров, «несмотря на гений Пушкина передовые его герои, как герои его века, уже бледнеют и уходят в прошлое. Гениальные создания его, продолжая служить образцами и источником искусству — сами становятся историей. Мы изучили Онегина, его время и его среду, взвесили, определили значение этого типа, но не находим уже живых следов этой личности в современном веке, хотя создание этого типа останется неизгладимым в литературе. Даже позднейшие герои века, например, лермонтовский Печорин, представляя, как и Онегин, свою эпоху, каменеют, однако, в неподвижности, как статуи на могилах» (8, 18—19).
«Сердце» и «ум»: Обломов и Штольц
В посвященной роману критике, да и в авторских характеристиках зафиксировалось мнение, что образ Обломова более психологически достоверен, чем образ его оппонента - Штольца. Образ Штольца более схематичен и более жестко очерчен, Обломов — полнее, объемнее, словом — реальнее и убедительнее.
Обломов — центральный персонаж, как о том заявляет уже название романа, — занимает гораздо большее романное пространство, чем Штольц. В частности, вся первая часть романа, вводящая читателя в пространство главного героя, с его предысторией («Сон Обломова») и «парадом гостей» служит лишь «увертюрой» к появлению Штольца. Автор, отмечает Л. Г. Цейтлин, развивая конструктивный принцип «Обыкновенной истории», «продолжает централизацию действия вокруг героя... От первых строк романа и до последнего вопроса литератора — все в романе посвящено
Обломову...». «В "Обломове" Гончаров впервые в русской художественной литературе рассказал о всей жизни человека, от колыбели до мопшы».2 «Ни к одному из русских романов, — пишет Е. Л. Краснощекова, — термин "монография" неириложим вернее всего, с таким основанием, как к "Обломову". ... Илья Ильич Обломов — средоточие идеи этого романа...».1
Заслуживает внимания сам принцип сопоставления двух персонажей — 1) с точки зрения отведенного каждому из них романного пространства; 2) «ракурса» изображения (ближний/дальний план); 3) сюжетной реализации обоих персонажей; 4) речевой реализации (соотношение повествовательно-дескриптивного текста с диалогом и внутренним монологом); 5) присутствие/ отсутствие (мера участия) повествовательной иронии по отношению к каждому їв персонажей.
Очевидно, что юобразительный метод Гончарова при создании образа Ильи Ильича (как и Агафьи Пшеницыной) богаче и разнообразнее, органичнее для его «увлечения» «своею способностью рисовать». Штольц же «нарисован»: читателю трудно представить его внешность, тогда как в облике, обстановке, речи, поведении Обломова каждая деталь и мелочь является «говорящей», предметный и бытовой мир оживает в авторском рисунке. В характеристиках Штольца преобладает не юобразительный, но аналитический элемент, повествователь не «рисует», но объясняет его. Персонажи по-разному воплощены в романе — пластически и аналитически, а если что-то можно недосказать, то недорисовать — невозможно.
То, что образ Штольца заметно уступает образу Обломова в психологической достоверности, многократно подчеркивалось в критической и исследовательской литературе. Добролюбов пишет о схематичности образа Штольца, его оторванности от реальности: «Штольц — человек деятельный, все о чем-то хлопочет, бегает, приобретает, говорит, что жить — значит трудиться, и пр. Но что он делает, и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать, — это для нас остается тайной».2 По мнению Н. Д. Лхшарумова, Штольц — «не более как проект человека в современном вкусе, теоретический скелет»,3 а Л. П. Милюков усматривал в этом образе «искусственное сближение идеализма и положительности». Современный исследователь Икуо Описи пишет, что «хотя несколько неловким образом, но Гончаров старается исправіггь этот недостаток, введя в образ Штольца материнское влияние, то есть поэзию и музыку».5 Но сам Гончаров вполне признавал справедливость подобных упреков, говоря: «...я молча слушал ... порицания, соглашаясь вполне с тем, что образ Штольца бледен, не реален, не живой, а просто идея» (8, 115).
«Сопоставление, лежащее в основе романа, определяющее его структуру, — пишет М. В. Отрадин, — явно не сводится к сравнению двух любовных историй. Это сопоставление двух типов жшни, в одном ю которых главное — цикличность, повторяемость событий, "пребывание", а в другом — направленное, необратимое движение, ... изменение, "становление", то есть сопоставление двух миров, центрами которых являются носители резко противопоставленных сознаний — Обломов и Штольц».6
Идеал Обломова — гармония покоя,7 идеал Штольца — движение. Подобное противопоставление жизненных позиций характерно для всего творчества Гончарова. Размышляя о романе «Обрыв», О. Г. Постнов, ссылаясь на Гончарова, употребляет по отношению к Обломову выражение «дилетант в жшни». Такими «дилетантами» являются многие ш главных героев Гончарова, помимо Обломова, можно назвать Александра Адуева и Райского.
Основной конфликт всех романов Гончарова, таким образом, заключается в столкновении «дилетантов» с «профессионалами в жизни», это и Петр Адуев, и Штольц, и Тушин. И всегда судьба «дилетантов», далеких от практической жизни, оказывается предрешена.
Идеал Обломова безыскусен и непротиворечив — он мечтает о покое «от полноты удовлетворенных желаний». Апатическое состояние, в котором пребывает Обломов, есть, но сути, бегство от жизни, которая все же его «трогает». Некогда и Обломов «готовился к поприщу», думал сыграть свою роль в жизни общества. В юности, внимая призывам Штольца, он даже мечтал отдать себя служению труду, готов был «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников» (4, 180). По в дальнейшем мы видим Обломова как будто разочарованным тщетностью человеческих усилий: «несчастлив человек; вот собирается с силами, работает, гомозится, страшно терпит и трудится, всё готовит ясные дни. Вот настали они — тут бы хоть сама история отдохнула: нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться...» (4, 61— 62). Поэтому, размышляя о людях, захваченных суетой жизни, Илья Ильич искренне радуется, «что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой» (4, 21). В этих признаниях героя авторская ирония очевидна: под определение «суета» подпадает любая форма человеческой деятельности.
«Умное сердце»: Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына
Выстраивая типологию женских характеров в романах Гончарова, Н. Л. Гузь справедливо отметила, что в их создании Гончаров исходил из пушкинского опыта, полагая, что женский литературный характер обусловлен «началом» одной из героинь «Евгения Онегина»: Ольги или Татьяны. «В соответствии с этим в романах писателя выделяются два женских типа: пассивный и активный. Для первого характерны полная подчиненность законам внешней среды, понимаемой и в узком и в широком смысле, ограниченность интересов, удовлетворенность окружающим и своей жівнью, отсутствием волевых начал, обусловленность всего комплекса поведения нормами "старой" жизни. ... Активный тип — Ольга Ильинская и Вера Бережкова1 — характеризуется ярко выраженными волевыми качествами, сознательным началом личности, доминантой духовного над бытовым, смутной неудовлетворенностью окружающим и стремлением выйти за рамки семейно-бытового начала, осознать свое место в жизни».2
В романах Гончарова женским образам всегда отводится наиважнейшая роль. Более того, во всех произведеїшях писателя встречаются парные персонажи, олицетворяющие различные аспекты женского идеала. Как и мужские персонажи-антиподы, женщины у Гончарова исповедуют собственные взгляды, имеют свою «философию любви». Именно с этой точки зрения мы хотели бы сопоставить образы Ольги Ильинской и Лгафьи Матвеевны Пшеницыной в романе «Обломов».
С точки зрения их роли в жизни Ильи Ильича, Ольга и Пшеницына — это антиподы и одновременно двойники. Многие исследователи неоднократно подчеркивали родство двух героинь. В частности, Е. А. Ляцкий пишет: «...отнимите у Ольги ее сознательность, делающую ее человеком своего века, да опустите классом пониже, и вы получите ... ни больше пи меньше, Лгафью Матвеевну Пшеницыну»1. Это мнение кажется не таким парадоксальным, если принять во внимание, что сущность каждой из героинь раскрывается через любовь к Обломову. Они обе наделены чертами женского идеала, такими как сердечность, заботливость, чуткость. К тому же для каждой из них любовь к Илье Ильичу становится дорогой прозрения: как Ольга, так и Пшеницына обретают благодаря посетившему их чувству отчетливое сознание своего долга и идеала. Е. А. Краснощекова полагает, что «обе женщины (Ольга и Пшеницына) ... после его (Обломова) ухода выглядят во многом равными».2
Характеризуя Образ Ольги, сам писатель сравнивает ее с героиней своего предыдущего произведения — Наденькой. В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров утверждает, что Наденька и Ольга - «одно лицо в разных моментах». Поэтому прежде, чем перейти к непосредственному анализу образа Ольги на материале романа «Обломов» мы считаем необходимым коротко рассмотреть конфигурацию женских образов в «Обыкновенной истории». Система персонажей этого произведения интересна тем, что герои-мужчины, дядя и племянник, изображены как антиподы, тогда как отношения между четырьмя героинями не строятся по принципу оппозиции или сходства. Трое — Наденька, Юлия и Ліва — завершенные характеры (или «типы»), достаточно независимые друг от друга. Функционально они определяют этапы эволюции любовного чувства младшего Адуева — чувства во всех трех случаях «литературного», определяемого той или иной культурной моделью или схемой.1 Особая роль отводится Люавете Александровне, в образе которой воплощен искомый Гончаровым (и обоими его героями, и дядей и племянником) синтез: гармония рассудка и сердца, независимости (эмансипированности) и покорности (традиционности).
Гончаров высоко ценил независимость женского характера, способность к самостоятельным сознательным поступкам, не зависящим от мнения окружающих. Именно это качество является общим для Наденьки и Ольги Ильинской. В Наденьке, но словам Гончарова, совершилась «безмолвная эмансипация», она свободна в своем чувстве и заявляет протест против власти родительского авторитета. «От неведения Наденьки — естественный переход к сознательному замужеству Ольги со Штольцем, представителем труда, знания, энергии, словом, силы» (8, 113).
Писатель оговаривает, что «рисовал не Наденьку, а русскую девушку известного круга той эпохи, в известный момент», а «как до личности» ему до нее «не было дела» (8, ПО). В «Обломове» отразилась уже другая эпоха, и между Ольгой и Наденькой мы обнаруживаем не столько сходство, сколько различие. Отношения Наденьки и Адуева разрушаются вследствие появления третьего лица (графа), ради которого Наденька покидает Адуева, следуя влечению темперамента. Ольга же, разочаровавшись в Обломове, сознательно выбирает. Штольца как человека, более соответствующего ее духовным запросам. Наденька пассивно следует голосу своих эмоций, Ольга принимает зрелое решение.
Почему Гончаров упомянул в статье «Лучше поздно, чем никогда» Падиньку и «забыл» Лизавету Александровну? Образ Лизаветы Александровны, раскрывающийся в отношениях с Адуевыми, старшим и младшим, гораздо более других привлекает в «Обыкновенной истории». Отношения с мужем принесли ей немало страданий, и это придает образу Лизаветы Александровны особую ценность, поскольку именно страдания помогли ей понять и оценить жизнь. Сильные переживания, выпавшие на долю героини, позволяют раскрыться ее глубокой личности и дают импульс чувствам и действиям других людей. Если бы не было переживаний Адуева-племянника, то не было бы и страданий Лизаветы Александровны, а без них не было бы и колебаний Петра Ивановича. Этот женский образ более, чем Надинька, сходен с образом Ольги, выполняющей такую же функцию чуткого посредника между Обломовым и Штольцем. Заботливая и человечная, умная и сердечная Лизавета Александровна в наибольшей степени напоминает Ольгу в финале романа «Обломов».