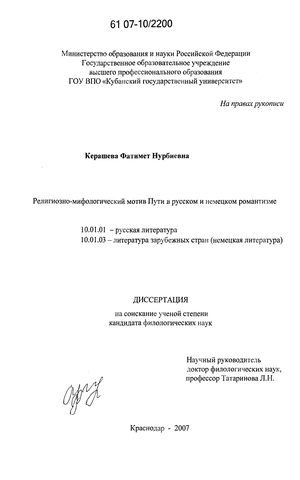Содержание к диссертации
Введение
Глава I Путь как категория мифологического и религиозно-философского сознания 10
1.1. Художественное творчество - форма коллективного и индивидуального бессознательного 10
1.2. Методология изучения архетипических мотивов 14
1.3. Движение как философская категория 20
1.4. Роль движения в истории, науке и философии Германии (конец XVIII - начало XIX вв.) 22
1.5. Роль движения в истории, науке и философии России первой половины 19 века 29
1.6. Путь как частный вариант идеи «движения». Понимание концепта «дороги» в работах М.М. Бахтина 33
1.7. Путь в мифологическом и религиозном дискурсе 40
1.8. Путь в иудео-христианской традиции 47
Выводы I главы 64
Глава II Интерес к мифологии и идея движения в эстетике немецких романтиков 65
2.1. Интерес к мифологии и движению в теоретических работах романтиков 65
2.2. Идея движения в философско-эстетических работах Новалиса 90
Выводы II главы 107
Глава III Движение, путь, становление в художественном творчестве Новалиса 108
3.1 «Генрих» как роман путешествие 10
3.2 «Генрих» в контексте романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» 121
3.3 «Генрих» - романтический роман воспитания 125
Выводы III главы 127
Глава IV Жанр сказки в творчестве А.С.Пушкина и Новалиса 128
4.1 Путь в сказках Пушкина 128
4.2 Сказка об Эросе и ее интерпретации 131
4.3 Сравнительный анализ 140
Выводы IV главы 142
Глава V Мифологема ПУТИ в русском романтизме 143
5.1 Путь» - центральная мифологема романтических поэм Пушкина 143
5.2 Статика и динамика в поэзии Лермонтова 159
5.3 Нравственные подтексты русской поэзии 178
5.4 Катарсис и катастрофа в дискурсе русской романтической поэзии... 181
Выводы V главы 183
Заключение 184
Библиография 187
Приложение 199
- Художественное творчество - форма коллективного и индивидуального бессознательного
- Интерес к мифологии и движению в теоретических работах романтиков
- «Генрих» в контексте романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»
- Сказка об Эросе и ее интерпретации
Введение к работе
Общая характеристика работы. Еще совсем недавно романтизм казался традиционной и чуть ли не вполне исчерпанной темой в культуре. Однако более глубокое и пристальное изучение модернизма и постмодернизма -эстетических феноменов XX века - показало, что многое в этих новейших направлениях создано на основе романтических моделей. В частности, глобализация иронии в постмодерне, скорее всего, имеет истоки в романтической иронии, что потребовало более глубокого ее изучения: принципы универсализма, также во многом восходит к литературе конца XVIII
- начала XX вв.; символика и эстетизм культуры XX в. сходны романтическим
принципам.
Одна из актуальных проблем современной культурологии и философии -проблема художественного мифологизма и архетипичности - также потребовала обращения к романтизму, так как именно в нем зарождается тяга к универсальным, символическим решениям частных проблем. Именно романтизм привлек внимание к мифам и фольклору, мотивам игры, сна, сказочного вымысла, ввел в литературную традицию гротеск и парадокс как метод создания психологических неповторимых индивидуальных образов, как способ изображения диалектики жизни, переплетение в ней добра и зла, красоты и уродства.
Невозможно в одной работе исчерпать все актуальные (на сегодняшний день) аспекты романтизма. Поэтому в данном исследовании представлен лишь один момент, как нам кажется, наиболее востребованный современной наукой: особенности мотивной структуры и углубленное изучение одного - ключевого
- мотива романтической поэтики - мотива пути. Именно этот мотив дает нам
возможность показать мифологические и религиозные истоки романтизма, его
связь с историей и философской мыслью своего времени. Можно сказать, что в
этом лейтмотиве романтизма, который напоминает музыкальную тему,
реализовалась как мифологема многих древних сказаний, легенд, библейских и
богословских текстов, так и философема «движение», характерная для эпохи XVIII века.
Выбор авторов для исследования определен темой работы. Хотя мотив ПУТИ встречается в произведениях очень многих романтиков, а традиционно наиболее близким немецким романтикам считается Жуковский, нам представляется, что именно Ноеалис в немецкой, А.Пушкин и МЛермоптое в русской наиболее репрезентативны, так как:
1) соответствуют друг другу уровнем классичности проверенной
временем;
ярко представляет мотив ПУТИ в своем творчестве;
являют синтез прозаического и поэтического слова.
Кроме того, данный контекст (Новалис - Пушкин - Лермонтов) позволяет выявить национальные особенности в эстетическом решении мотива ПУТИ у трех авторов.
Подчеркнем, что в данной работе осуществляется типологический анализ, а не проблема близости или взаимовлияния.
Актуальность. В последние десятилетия литературоведение все чаще выходит за свои пределы. В этом смысле данная диссертация вполне актуальна, т.к. в ней предпринята попытка исследования мифологических, религиозных и философских истоков романтизма.
Изучение художественных произведений с точки зрения мифов, архетипов и мотивов является в данное время одним из самых актуальных направлений в науке, о чем свидетельствует, например, издание таких авторитетных фундаментальных книг (одна из них создана коллективом авторов МГУ, другая ИМЛИ), как «Зарубежная литература второго тысячелетия 1000-2000». (М: «Высшая школа», 2001) и «Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века». (М.: ИМЛИ РАН, 2002), где эти аспекты находятся в центре внимания.
Научная новизна. Типологическое сопоставление русского и западноевропейского романтизма в целом следует отнести не к новаторским, а, скорее к традиционным подходам.
Ставя в центр нашей работы творчество Новалиса, мы выстраиваем новые контексты, которые дают возможность акцентировать некоторые общие сущностные особенности романтизма как метода: а именно - идеалистическую модель мира, диалектику взаимоотношений объекта и субъекта; а также понять индивидуальные и национальные варианты их реализации.
Кроме того, мы сравниваем не отдельные произведения романтиков, не их творчество в целом, а сосредотачиваем свое внимание лишь на одном моменте усиленном внимании романтиков к идее и состоянию движения, частным случаем которого является мотив Пути.
Несмотря на всю широту изученности темы «романтизм», углубленный и целенаправленный анализ его с данной точки зрения не осуществлялся.
Новизна данного исследования также заключается в рассмотрении идеи движения сразу в трех аспектах - религиозно-философском, теоретико-эстетическом и собственно художественном - и их взаимодействии.
Теоретическая значимость. Данная работа вносит свой скромный вклад в теорию романтизма как метода, тесно связанного с философским мышлением: в ней показано, как философская категория «движение» осваивается эстетическим сознанием. Кроме того, на примере одного мотива предпринята попытка выявить глубинные связи эстетического сознания с мифологическим и религиозным.
Конкретные разработки, предложенные в настоящем исследовании, могут быть использованы для дальнейшего исследования в области теории мотивов, мотивнои структуры и мотивнои поэтики в художественной литературе, а также роли архетипов и мифологии в искусстве.
Положения, выносимые на защиту. > Отличительной особенностью науки, философии и литературы Европы и
России второй половины XVIII века является диалектика.
Мысль и искусство буквально вынашивают идею движения. Отсюда преобладание в художественной литературе этого времени (и особенно романтизма), мотива пути, который является одним из вариантов движения как такового.
> Реализация мотива пути в литературе осуществляется (сознательно или
бессознательно) с опорой на мифологические и религиозные источники -
это древние мифологии, фольклор, а также евангельские сюжеты и
образы.
В русской литературе мотив ПУТИ наиболее ярко представлен в романтических произведениях Пушкина и Лермонтова.
У Пушкина мотив ПУТИ имеет фольклорную (сказки) или евангельскую основу (поздняя лирика).
У Лермонтова интерес к мотивам бегства, странничества, узничества больше связан с самой природой романтического метода.
Новалис дает художественное решение мотива Пути в соответствии со своим - мистическим восприятия мира. В его творчестве неразрывно взаимосвязаны -путь, любовь, познание и смерть. Методология исследования. Учитывая опыт ученых, которые
занимались теорией мотива (А. Веселовского. В Проппа, М. Бахтина, Б. Гаспарова, Н. Фрая, Фрезера, К. Юнга и др.), мы не следуем принципам постструктуралистской школы мотивного анализа (Б. Гаспаров, В. Руднев), так как мотив для нас не является, прежде всего, лишь элементом структуры. Ведь главная задача работы - не столько определить место мотива ПУТИ в мотивной структуре, сколько показать религиозно-мифологические истоки романтизма.
Поэтому нам близки методологические принципы русских религиозных философов начала XX в. (Евг. Трубецкого, П.Флоренского, Н.Бердяева, Б.Вышеславцева), также работы М. Бахтина, А. Карельского, О. Вайнштейн, Ю. Манна, В. Хализева, Н. Берковского, которые объединияет интерес к авторской философии.
Объектом исследования являются публицистические и художественные произведения Новалиса, сказки и романтические поэмы Пушкина, романтические поэмы Лермонтова («Ангел смерти», «Джюлио», «Мцыри», «Корсар», «Демон» и др.).
Необходимо специально оговорить терминологию: ПУТЬ предстает в данной работе то как мотив, то как мифологема, то как концепт. И в этом нет никакого противоречия или путаницы, т.к. он, действительно, может быть представлен в разных аспектах. Когда речь идет о древних решениях и верованиях, то ПУТЬ выступает в качестве мифологемы, в философских трудах - это концепт или философема, а в художественном произведении, особенно когда речь идет о тематике и композиционных особенностях, он представлен в качестве мотива. Взаимосвязь всех трех сторон данного понятия очевидна, но и конкретное раскрытие и соотношение каждый раз неповторимо и индивидуально.
Целью данной работы и является изучение этого взаимодействия на примере трех авторов.
Предметом анализа стала мифологема движения в западно-европейском и русском романтизме, которая находит свое эстетическое воплощение в мотиве пути.
Методы. В исследовании представлены методы: сравнительно -исторический, структурного анализа художественного текста, сравнительно-типологический, методы мифологической и неомифологической школ в культурологи.
Целью данной работы является исследование поэтики романтического произведения как эстетики текучего, движущегося, становящегося, что, в частности, нашло отражение в выдвижении мотива пути, дороги, странничества как ключевого и определяющего в произведениях Новалиса, А.Пушкина, М.Лермонтова.
Задачи. Поставлены задачи:
1) исследования конкретных форм реализации архетипического мотива Пути, уходящего своими корнями в фольклор, мифологию, религию на примере творчества немецких и русских романтиков XIX века;
2) объяснения причин актуализации мифологемы Пути у романтиков, а также выявления национальной специфики ее решения в немецкой и русской литературах.
Практическая значимость. Исследуемые писатели являются программными в школьных (Пушкин, Лермонтов) и вузовских (Новалис) курсах литературы.
Данная работа может оказать помощь учителям и преподавателям вузов в информационном расширении (в диссертации исследуются малоизвестные произведения классиков) и углублении своих учебных занятий.
Кроме того, материал диссертации может помочь при подготовке актуального сейчас курса мировой художественной литературы, так как в ней (кроме прочего) дан образ эпохи XVIII начала XIX века как периода необычайно динамичного и диалектического.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав. Заключения и Приложения. Объясним, почему исследование творчества Новалиса предваряет русские главы: теория и философия романтизма зарождались в Германии, поэтому логичнее после 2 главы, где речь идет о немецкой философии идеализма, говорить о Новалисе, чем о А.Пушкине и М.Лермонтове.
Художественное творчество - форма коллективного и индивидуального бессознательного
Одним из фундаментальных открытий науки и философии 20 века стала проблема бессознательного и ее всестороннее изучение. Ф. Ницше вслед за Шопенгауэром подвергает сомнению абсолютный авторитет разума и интеллекта, выдвигая свою концепцию «дионисийского начала» - стихийного, музыкального и трагического. А. Бергсон главным источником познания объявляет «интуицию». Категории «памяти» и «восприятия» в его работах вытесняют традиционные понятия «материя» и «сознание». 3. Фрейд всю свою жизнь посвящает изучению подсознательных импульсов (ОНО), отождествляя их в основном с сексуальным началом. К. Юнг в полемике с З.Фрейдом предлагает иное (более широкое) понимание бессознательного, развивает свое учение о коллективном бессознательном и архетипах.
Большой вклад в изучение этой проблемы внесли русские религиозные философы начала ХХв. - В. Розанов, Б. Вышеславцев, П. Флоренский, Н. Трубецкой, С. Булгаков, С. Франк и другие. Их роль в изучении проблемы бессознательного до сих пор еще недостаточно оценена.
П. А.Флоренский в книге «Иконостас», размышляя о смысле иконы, утверждает, что изображение ликов восходит к некоему первообразу, который живет как бы в дремлющем состоянии в сознании воспринимающего и пробуждает в нем духовное видение, являясь окном в вечность.
Иконописец видит внутренним взором - «духовными глазами», как пишет П.А. Флоренский. В творчестве происходит не выдумывание несуществующего, а постижение объективной истины, которая проходит по каналам индивидуального восприятия и принимает глубоко своеобразные формы, оставаясь постоянной и неизменной. Канонические формы не только не являются, по мнению П.Флоренского, препятствием к свободе, но, напротив, становятся необходимым условием для ее реализации.
Не употребляя термин «архетип», П. Флоренский по существу ставит ту же проблему, что и К. Юнг, однако, в отличие от швейцарского философа, не ограничивается исключительно психологическим ее рассмотрением, выходя в сферы духовного.
К. Юнг никак не объясняет существование архетипов в коллективном бессознательном, они для него - лишь факт психологической реальности (то есть образы в подсознании). Для П. Флоренского же они - отражение высшей реальности, причем именно отражение, а не полное совпадение. «Образ не должен быть совершенно чуждым истине - иначе он не будет образом; но с другой стороны он не должен быть и равным истине - иначе он будет самою истиною, а должен оставаться в своих пределах, и не иметь всего, и не быть лишенным всего, что имеет истина»,1 - пишет П. Флоренский. Нет ничего внешнего, что не было бы отражением внутреннего - этот общефилософский закон по мнению автора «Иконостаса», является основанием для доказательства мысли о том, что первообразы не являются лишь плодом воображения.
Сергей Булгаков в статье «Труп красоты» (по поводу картин П. Пикассо) рассматривает художественное творчество П. Пикассо как плод мистической демонической одержимости больного, но благородного духа, который открывает такие глубины сознания, которые не могут быть познаны рационально. В этом смысле, по мнению С. Булгакова, искусство П. Пикассо -религиозно и гораздо более духовно, чем натуралистический поверхностный реализм.
В книге «Трагедия философии» С. Булгаков, размышляя о природе мысли (первая глава так и называется «О природе мысли»), приходит к выводу о невозможности с помощью одного лишь разума решить философские вопросы бытия - «... разум не может сам из себя начинаться и сам из себя порождать мысль, ибо она рождается тоже в сущем и относительно сущего, в самооткровении последнего»1.
Разум имеет религиозную основу - «...разум отправляется не от пустого места и не начинает свою нить из самого себя как паук, но исходит из мистических фактов и метафизических данностей. Иначе говоря, всякая философия есть философия откровения - откровения Божества в мире» . С. Булгаков считает, что «вера в истину, которая глубже разума и ему запредельна, отнюдь не ослабляет и не парализует взлетов к этой истине» .
Б. Вышеславцев в книге «Этика преображенного Эроса» вступает в прямую полемику с 3. Фрейдом. Понятие «сублимации» у Б. Вышеславцева занимает такое же важное место, как и у 3. Фрейда, но оно наполняется иным смыслом: русский философ убежден, что без возведения низшего к высшему не может быть никакой сублимации. З.Фрейд же рассматривает ее просто как замещение, перевод деятельности из одной области в другую. Не согласен Б. Вышеславцев и с тем, что эрос имеет исключительно сексуальную (физиологическую) природу (либидо у 3. Фрейда).
В бессознательном, иррациональном у человека скрывается неистребимая жажда Абсолюта, считает Б. Вышеславцев, она-то и делает возможным процесс преображения Эроса.
Таким образом, русская школа по-иному, чем западная, подошла к проблеме иррационального, тесно связав ее с религиозным началом, прежде всего христианством.
Показательно, что большинство из вышеназванных философов разрабатывали свои теории или обращались в поисках конкретных примеров не только к индивидуальному или историческому опыту, к снам и видениям, сознанию душевнобольных, но и к искусству и, прежде всего, художественной литературе; в биографиях писателей и их творениях они находили подтверждение мысли о том, что бессознательное является основой всей человеческой жизни и истории общества. На базе психоанализа и аналитической психологии сложились две школы литературоведения, которые заняли лидирующее место в науке XX века - фрейдизм и мифологическая школа, которые, несмотря на все их недостатки и крайности, предложили новаторский подход к произведениям словесности, потеснив традиционное и уже пришедшее в упадок культурно-историческое направление.
Интерес к мифологии и движению в теоретических работах романтиков
Вопросы мифологии занимали одно из важных мест в эстетической теории немецких романтиков. Именно в период романтизма родился интерес к мифологии как самостоятельной области философских, историко-литературных и фольклорных исследований. Романтизм дал мощный толчок широкому и всестороннему изучению мифов разных времен и народов, в том числе и мифов германской древности.
Занимаясь мифологическими изысканиями, немецкие романтики преодолевали пренебрежительное отношение к мифу, которое сложилось в предшествующую эпоху Просвещения. Просветители трактовали миф как «сознательный вымысел, как басни и россказни, распространявшиеся жрецами и гораздыми на выдумку поэтами».
Правда, занимаясь мифами, романтики впадали в другую крайность и видели в мифах таинственное и совершенное воплощение народной мудрости, граничащее с откровением.
Всем, кто публиковал свои первые работы по мифологии, приходилось идти не только вразрез с утвердившимся безразличным, а то и пренебрежительным отношением к мифам, но и преодолевать противодействие в ученом мире. Немецкой мифологии пришлось очень нелегко - «лишь с большим трудом отвоевала она себе доступ в круг научных исследований» -говорил Якоб Гримм в своей лекции «О двух найденных мной стихотворениях времен немецкого язычества» (1842).
Реконструкция немецкой мифологии усугублялась рядом обстоятельств связанных с христианизацией Германии. Смена язычества христианством проходила далеко не гладко.
Христианство организовывало свои богослужения на латинском языке, непонятном простому народу. Совершать привычные обряды, верить в местных германских богов объявилось преступлением. Эта борьба ставила целью уничтожение языческой культуры.
В связи с этим в ходе восстановления древнегерманской мифологии от исследователя требовалось, помимо хорошего знания истории, умение различать те элементы верований и обрядности, которые сохранились в неизменном виде еще со времен язычества и христианства.
Немецкий романтизм как литературное направление прошел различные этапы в своем развитии, имел свои взлеты и падения. Со второй половины 90-ых годов XVIII века и до начала 1800-ых годов складывается и определяется так называемый ранний романтизм, преимущественно в рамках деятельности немецкой школы, куда входили и литераторы - основатели и главные теоретики этой группы братья Шлегели Фридрих и Август Вильгельм, Новалис, Л. Тик, В.Г. Вакенродер, Шлейермахер, Ф.В. Шеллинг.
Иеенские романтики, переосмысляя идеи просветительства, немецкой классической философии и французской революции, стремились к духовному раскрепощению человека. Они верили в чувство и творческое начало человека, предпочитали интуицию гениально одаренной личности. Путь к высшей ступени человеческого совершенства они видели в развитии художественного дарования. «Придет прекрасная пора, - писал Новалис, - и люди ничего читать другого не будут, как только прекрасные произведения, создания художественной литературы. Все остальные книги суть только средства, и их забывают, лишь только они уже более не являются пригодными средствами - а в этом качестве книги сохраняются недолго»1. Историзм романтиков обусловил активное внимание к отдельным нациям, к особенностям национальной истории, национального уклада, быта, одежды, и, прежде всего к национальному прошлому своей родины. В этом прошлом их как литераторов интересовали сокровища народного творчества. В их произведениях ожили легенды, предания, сказки, песни седой национальной старины, опираясь на которые они не только влили светскую струю в собственно художественную литературу, но в ряде случаев дали новую жизнь самому литературному языку своего народа.
Фридрих Шлегель прежде других создал теоретическую концепцию раннего романтизма.
В начале своей деятельности, находясь под сильным влиянием Французской революции, Ф. Шлегель выступил с публикациями, опиравшимися на идеи просветительства и классицизма. Этим объясняется его интерес к античности. Так, в работе «О значении изучения греков и римлян» Ф. Шлегель пишет: «... Обращение к античности порождено бегством от удручающих обстоятельств века. (...) В современной науке распространены две крайности: обожествление древних в ущерб новым и отказ от изучения древней культуры в пользу новой. (...) Древняя история необходима для объяснения совре-менности...» К концу столетия Ф.Шлегель все больше склоняется к пересмотру своих прежних теоретических взглядов: «Мой опыт «об изучении греческой поэзии» -манерный гимн в прозе объективному в поэзии. Худшим в нем представляется полное отсутствие совершенно необходимой иронии, а лучшим - твердая предпосылка бесконечной ценности поэзии, как если бы это было чем-то бесспорным»2.
«Генрих» в контексте романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»
Многие исследователи рассматривают "Генриха фон Офтердингена" как вариант роман воспитания и отмечают ту немалую роль, которую сыграла в становлении этого жанра книга Гете "Годы учения Вильгельма Мейстера". Новалис читал роман Гете и сначала отозвался о нем с восхищением, но затем высказывался и довольно резко. Новалис называет "Вильгельма Мейстера" "вздорной и пошлой книгой, насквозь прозаической и современной, в которой речь идет лишь об обычных человеческих вещах, а природа и мистицизм полностью преданы забвению".
Те возвышенные речи о поэзии, которые произносит Вильгельм перед Вернером в начале 1 части дилогии Гете (о том, что поэт, как бог, возвышается над обыкновенными людьми, о том, что он преодолевает время и в сердце его "расцветает божественный цветок мудрости"), очень напоминают монологи Генриха у Новалиса, но у Гете они не лишены иронии и в конце концов выглядят наивными иллюзиями молодого человека, преодоленными в процессе роста.
Критика поэзии и театра как вещей не самых значительных в жизни людей (ведь во второй части дилогии - "Странствования Вильгельма Мейстера" - Гете приводит своего героя к осознанию необходимости общественной деятельности и полезного труда - мысли, созвучные трагедии "Фауст", которая создавалась в это же время), конечно, не могли импонировать Новалису, написавшего роман "Генрих фон Офтердинген" как прославление Поэта.
Дмитриев А.С., автор статьи о Новалисе в "Истории немецкой литературы", даже считает, что "Генрих фон Офтердинген" является явной и намеренной антитезой к роману Гете "Вильгельм Мейстер". Новалис стремится здесь противопоставить роману Гете свое решение жанра, и, прежде всего, его философской основы. Просветительскому пониманию задач искусства он противопоставляет философско-эстетические принципы Иенского романтизма"1.
Разницу мировосприятий Гете и Новалиса можно хорошо почувствовать, сравнив описание ночного неба у двух писателей. Новалис слагает гимны ночи; мы уже отмечали, что свет ночи у Новалиса - окно в бессмертие, в запредельные миры, возможность соединения с умершей возлюбленной. У Гете во второй части "Вильгельма Мейстера" есть сцена, где астроном выводит Вильгельма на площадку высокой башни обсерватории, где они созерцают небосвод. У Гете также как и у Новалиса, рисуется величественная картина. Герой восхищается великолепием вселенной, чувствуя свою ничтожность и в то же время взаимосвязь в глубинах своего существа с окружающим миром. Однако очень быстро Вильгельм переходит к практическим размышлениям: "Спроси себя, чем ты занял этот день, этот час?". И с гордостью отвечает на этот вопрос: "Мне нет причины стыдится того, чем я сейчас занят: мое намеренье - вновь сплотить подобающим образом всех членов благородного семейства, мой путь предначертан". И хотя мысли героя, действительно, чисты и намерения добродетельны, речь идет о слишком частной ситуации (помирить членов семьи, которая его приютила) по сравнению с открывшейся картиной.
У Новалиса поэзия является абсолютной реальностью, и чем поэтичнее произведение, тем оно правдивее. Сказка - самый реалистический, по Новалису, жанр литературы. У Гете же, как отмечает Г. Брандес "поэзия подчиняется действительности. С точки зрения Новалиса это позорнее всего, это преступление против священного духа поэзии"3.
Вместе с тем "Генрих фон Офтердинген" внешне очень во многих моментах похож на "Годы учения Вильгельма Мейстера". И в том и в другом романах молодые герои путешествуют в поисках своего призвания, и в том и в другом большую роль играет любовная линия, причем ее решение также похоже: оба героя обретают любовь через ряд ступеней - у Вильгельма -сначала Марианна, потом Тереза, графиня, и, наконец Наталия; у Генриха -явление образа возлюбленной во сне, затем Матильда, Циана - и все это один образ. И у Гете, и у Новалиса композиция довольно свободна, фрагментарна, содержит множество второстепенных героев (встречающихся в пути), вставных рассказов и новелл. И в том, и в другом романе в прозу вмонтирована поэзия: это песни, стихи, которые поют, сочиняют, исполняют те или иные герои (здесь обратим внимание на интересное замечание Н. Берковского, который подчеркивает разную функцию песен у двух авторов: у Гете они просто вложены в уста персонажей, у Новалиса - они полностью характеризуют персонаж, исчерпывают его до дна).
Но это сходство - не случайное совпадение и не результат влияния Гете на Новалиса, но элемент полемики, ведь известно, что Новалис даже шрифт "Генриха" старается сделать похожим на произведение Гете. Гете совершенно практический поэт - заявляет Новалис. Его произведения похожи по своим достоинствам на английские товары: они в высшей степени просты, изящны, удобны и прочны. - У него, как и у англичан, врожденный расчетливый "благодаря разуму облагороженный вкус"1. О "Вильгельме Мейстере" Новалис говорит еще следующее: "Это опоэтизированная мещанская и домашняя история, чудесное в ней трактуется, как поэзия и мечтательность. Художественный атеизм - дух книги... "Вильгельм Мейстер" собственно "Кандид", направленный против поэзии"2.
Вместе с тем нельзя не отметить, что Новалис очень высоко ценил роль Гете в немецкой литературе, и именно Гете стал основным прототипом поэта Клингзора, которому отданы самые важные мысли романа. Основную разницу Гете и Новалиса очень отчетливо определил сам Новалис в цитируемом выше отрывке ("Художественный атеизм - дух книги"): не совпадали религиозные взгляды двух великих писателей - Гете тяготел к язычеству, Новалис всей душой был связан с христианской мистикой.
Отсюда и разница в пути двух героев - Вильгельма и Генриха. Путь Вильгельма проходит в горизонтальном земном пространстве, вперед и дальше, через ошибки и заблуждения к личной истине (но не эгоизму). Путь Генриха -внутренний путь души, путь мистических откровений, внутрь, вглубь, вверх (преобладает вертикальный вектор), путь к Небу, к Запредельному. Это скорее движение во времени, чем в пространстве. Этот путь (откровения, интуиции) преодолевает земное пространство и выходит в мистические уровни (влияние и созвучие с Данте и здесь проявились). Отсюда два типа эстетики: реалистическая у Гете, романтическая у Новалиса. Новалис создает романтический жанр романа воспитания.
Сказка об Эросе и ее интерпретации
Сказка об Эросе входит в роман "Генрих фон Офтердинген", но она намного сложнее. Она является своеобразной иллюстрацией к речам Клингзора. Действие сказки начинается ночью (она названа "нескончаемой") в ледяном царстве короля Арктура. Город короля стоит на горе у берега моря, кристаллы льда и снега причудливо сияют голубоватым цветом среди святящихся копий, мечей и щитов. Хрустальный сад из самоцветов и бриллиантов охраняется древним витязем. Пейзаж у Новалиса не просто фантастический и сказочный, он носит философский и аллегорический характер. Замороженное царство - это образное решение темы "хаоса", который означает у Новалиса не беспорядок, а стихию неоформленной материи, ждущей своего воплощения. Принцесса Фрейя, лежащая на шелковых подушках, символизирует пассивное женственное начало, прислужницы окутывают ее тенью небесной голубизны. По Новалису, хаос должен быть разбужен Эросом, что и происходит в конце сказки, а в самом начале об этом уже предсказано в песне чудесной птицы (такова поэтика Новалиса: конец помещен в начало как предвкушение и ожидание):
Нас посетит прекрасный странник вскоре, Мир будет вскоре вечностью согрет; Земля растает, и оттает море, Проснется королева, будет свет; Ночь ледяная минет, минет горе, Вновь муза восстановит свой завет; И в лоне Фрейи мир воспламенится, Разрозненное вновь соединится. Nicht lange wird der schone Fremde saumen. Die Warme naht, die Ewigkeit beginnt. Die Konigin erwacht aus langen Traumen, Wenn Meer und Land in Liebesglut zerrinnt. Die kalte Nacht wird diese Statte raf umen, Wenn Fabel erst das alte Recht gewinnt In Freyas SchoP wird sich die Welt entziinden Und jede Sehnsucht ihre Sehnsucht fmden.
Обратим внимание на то, что Эрос назван "прекрасным странником". Действительно, дальше рассказывается о странствиях Эроса (и путешествие Генриха получает здесь чудесное мифологическое обоснование - в Эросе Генрих обретает свой архетип), которые заканчиваются соединением с Фрейей: любовь приобретает и гармонизирует мир. Таков путь Эроса, таков и путь Генриха. Это - путь к любви и истине через познание и опыт, ошибки и страдания.
Однако этот лишь самый общий (и не единственный) вывод вставной притчи, весьма причудливой и сложной с огромным количеством персонажей -символов. Молочной сестрой Эроса является Муза, у них общая кормилица Джиннистан, которая, возможно, олицетворяет природное начало.
Переписчик - явно негативное начало, символизирующее рационализм и прагматизм (главный враг романтиков). Королева брызгает из чаши водой, когда брызги попадают на Джиннистан и детей, то струится голубая дымка, и когда они задевают Переписчика - градом сыпятся цифры и геометрические фигуры. Эрос чудесно растет не по дням, а по часам и, подобно мифологическому Геркулесу, уже в люльке способен задушить змею (здесь это спица, которая превратилась в змею после того, как на нее дохнула Джиннистан). Атмосфера метаморфоз, чудесных и неожиданных превращений и преображений - следствие не только самого жанра сказки, но и философии Новалиса, в которой важное место занимает концепт "движение".
Если природа - Джиннистан - кормилица Эроса и Музы (любви и искусства), то их матерью является София (Мудрость и Женственность). С благословения Софии Эрос отправляется путешествовать с Джиннистан, которая принимает образ матери. В песне Джиннистан, которую она поет перед дорогой, отчетливо и по-новалисовски своеобразно звучат мотивы странствия:
Душою движет смутный жар, И сквозь ночную мглу Ее влечет грядущий дар В таинственном пылу. Es hob sich ihre voille Brust In wuderbarem Mut; Ein Vorgefuhl der kunf gen Lust Besprach die wilde Glut.
У путешествия нет конкретных целей, это лишь "смутный жар души", "Любовь идет ночным путем", т.е. таинственным, невидимым, облачена она "в голубизну с каймою золотой" (голубой и золотой цвет у Новалиса становятся символом мечты, чистоты, духовности, возвышенности; романтики предвосхитили символистов в своей эмблематизации цвета). Во время своих странствий Эрос и Джиннистан (также как и Генрих со своей матерью) встречают различных людей, которые им что-то рассказывают или показывают. Так некий Старец представляет перед Эросом целую космическую мистерию -землетрясения, вихри, королевские дворцы, сражения, гроза, пламя, красавица в гробу и т.п. "Любовь", "Поэзия" и "Смерть" становятся лейтмотивами детства. Картины без конца преображаются и переходят одна в другую.
Все заканчивается явлением млечно-голубых вод, которые смывают всю нечистоту, земля и небо растворяются "в отрадной музыке" и остается лишь чудо-цветок, а над ним София со своей чашей. Чашечка цветка осенена листком лилии, и на этом листе сидит маленькая Муза и поет под звуки арфы чудесную песнь. В лепестках цветка находится и Эрос, который обнимает спящую красавицу. Т.е. Эрос, так же, как Генрих в книге Старца (во внешнем сюжете) видит самого себя и свое будущее. Цветок (правда, он здесь не назван голубым) объединяет внешний и внутренний рассказы, т.е. повествование о Генрихе и сказку об Эросе.
Чашечка цветка и священная чаша Софии повторяют один образ -святой любви. Образы и мотивы романа перекликаются, переливаются друг в друга, отзываются друг в друге: все в романе движется и течет. Текучей становится сама поэтика текста.