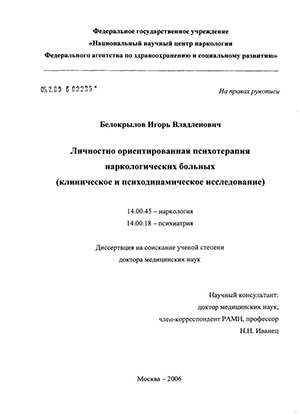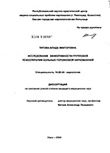Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Обзор литературы 11
Глава 2. Материалы и методы исследования 66
Глава 3. Систематика расстройств личности у наркологических больных 95
Глава 4. Общие характеристики личностного предрасположения к зависимости от психоактивных веществ 157
Глава 5. Психодинамическое исследование расстройств личности у наркологических больных 228
Глава 6. Личностно ориентированная психотерапия в наркологическом стационаре 260
Заключение 294
Выводы 311
Список литературы 328
- Систематика расстройств личности у наркологических больных
- Общие характеристики личностного предрасположения к зависимости от психоактивных веществ
- Психодинамическое исследование расстройств личности у наркологических больных
- Личностно ориентированная психотерапия в наркологическом стационаре
Систематика расстройств личности у наркологических больных
Диагностика эмоционально неустойчивого типа личностной патологии (МКБ-10) применительно к пациентам, составляющих казуистику настоящего исследования, вполне соотносится с критериями DSM-IV: рубрика «пограничное расстройство личности». Однако, следуя рекомендациям О. Кернберга и ряда других психоаналитически ориентированных авторов, в само понятие «пограничное расстройство» было решено вкладывать психодинамический смысл и обозначать им особый уровень дисфункциональное психической структуры, ее «зрелостные характеристики», но не относить его к типологической дискриминации личностных девиаций. Поэтому применительно к описываемому типу используется соответствующий термин МКБ-10.
Если сопоставить эмоционально неустойчивый тип с традиционно выделяемыми в отечественной наркологии вариантами акцентуаций характера и психопатий, то складывается картина «поглощения» им большинства случаев возбудимого, эпилептоидного, дистимического, гипертимного, а также определенной части неустойчивого и истерического (гистрионного) расстройств личности, в патологической структуре которых выявляются радикалы аффективной лабильности и мотивационно-побудительной импульсивности. Неустойчивость в качестве «осевого» свойства характеризует не только аффекты, но и другие сферы личности этих пациентов, прежде всего, самосознание и межличностные отношения, что определяет их квалификацию как «стабильно нестабильных» (N. МсWilliams, 1998).
Аффективные нарушения у пациентов с эмоционально неустойчивым расстройством личности на клиническом уровне выражаются склонностью к развитию стертых, преимущественно субсиндромального уровня эндоформных фазовых состояний. Амплитуда колебаний настроения и активности, степень выраженности витальных проявлений, а также продолжительность отдельных фаз относительно невелики по сравнению с собственно аффективными расстройствами (циркулярный психоз, циклотимия, дистимия). Кроме того, при дифференциальной диагностике фазовых состояний, формирующихся в рамках динамики расстройства личности у наркологических больных, следует иметь в виду их преимущественно провоцируемый характер. В качестве триггерных механизмов чаще выступают психогенные моменты: аффективные расстройства развиваются вслед как за драматическими, так и формально индифферентными и даже радостными событиями, имеющими индивидуальное значение «ключевого переживания». Отмечаются и другие факторы экзогенной «провокации» - сезонно-климатические, соматические (телесные болезни, переутомление). Специфику собственно эмоциональных проявлений таких фаз нередко определяет амфитимия (А.Б. Смулевич, 2003) - аффективная двойственность, либо выражающаяся признаками смешанного аффекта (например, гипотимия на фоне речедвигательного возбуждения), либо имеющая форму «быстрых циклов» с частой сменой полюса настроения. В структуре таких состояний нередко выявляются другие, частично выходящие за рамки собственно аффективной патологии эндоформные расстройства: деперсонализация, сенситивные идеи отношения, сенестопатии; также могут наблюдаться гипопаранойяльные образования. Последние, как свидетельствуют результаты наблюдения, чаще представляют собой кататимно окрашенные идеи любовного содержания: сверхценные идеи ревности, «небредовая эротомания» (А.В.Андрющенко с соавт., 1999), реже - сутяжничество, идеи ущерба. Несмотря на транзиторный и фрагментарный характер, эти расстройства в некоторых случаях могут вызывать подозрение в наличии у больного шизотипического либо паранойяльного расстройства личности. При этом в отличие от патологии шизофренического спектра, эмоционально неустойчивое расстройство личности не сопровождается признаками эксцентричности, нелепостью поведения, внешнего облика и странностями суждений; одновременно феноменология нарушений аффективного круга значительно многообразнее: наблюдается чередование астено-субдепрессивных, эксплозивно-дисфорических и гипоманиакальных расстройств. В сравнении с паранойяльными психопатами, сверхценные образования у эмоционально неустойчивых лиц не стойки, а их содержание легко изменчиво и тесно связано с характером аффективного статуса.
Актуальные межличностные отношения пациентов данной группы получили по итогам настоящей работы определение «амбивалентно зависимых». Вводимый термин отражает полярность чувств, которые эмоционально неустойчивые личности испытывают к объектам наибольшего индивидуального значения. Последние одновременно выступают в качестве орудия реализации собственных мотивов и как источник их ограничений. Соответственно, они наделяются диаметрально противоположными качествами и поочередно то идеализируются, то обесцениваются. Неизменным, «осевым» свойством данного образца отношений является манипулирование объектом амбивалентной зависимости (созависимости): даже на этапах усиления тенденций к «девальвации» его любой ценой пытаются удержать рядом, сохранить над ним власть. В качестве инструмента подобного манипулирования нередко используются различные виды шантажа, в том числе - суицидальный. По мере формирования основных синдромов наркологического заболевания, такие объекты становятся невольными «посредниками» в отношениях больного с алкоголем либо наркотиком, приобретая в его субъективных представлениях дополнительные противоречивые черты «узурпатора» - «спасителя» и т.п..
Феномен расщепления (амбитендентности) в структуре интерактивного поведения лиц эмоционально неустойчивого склада также серьезно сказывается на вариабельности пропорции между их «гиперсоциальностью» и индивидуализмом. Смолоду таких людей «тянет в общество», где они обнаруживают конформистские тенденции, а некоторые из них даже проявляют лидерские качества. Но наряду с этим в их переживаниях периодически либо постоянно присутствует разочарование обществом со стремлением к изоляции. Последняя постепенно приводит к нарастанию чувства невыносимого одиночества, при этом вновь начинают возобладать стремление к общению, желание быть «в гуще событий».
Деление эмоционально неустойчивых на два подтипа, как известно, предусматривается в МКБ-10: «импульсивные» и «пограничные». Анализ материала настоящего исследования подтверждает фактическую обоснованность данной модели. При этом к первому - эксплозивному (импульсивному) подтипу отошли лица гипертимического, возбудимого (эпилептоидного) склада, а также стенический вариант истероформных психопатов («гистрионный» по А.О. Фильцу, 1983). Их выделяет наиболее выраженная среди всех наркологических пациентов тенденция решать возникающие жизненные проблемы немедленными действиями без достаточного внутреннего анализа и рефлексии, склонность к импульсивным поступкам (не следует смешивать их с «импульсивными влечениями», относящимися к расстройствам отдельного класса). Для них свойственны резкие перемены семейного и профессионального статуса, их жизненный путь - это всегда «ломаная», но не прямая линия. На фоне чередования описанных выше фаз часто выявляются кратковременные (продолжительностью не более 1-2 суток) эксплозивно-агрессивные реакции с брутальными действиями. В спектре аффективных проявлений импульсивных превалирует повышенная речедвигательная активность, стремление к деятельности, высокая интенция влечений; уже до начала формирования наркологического заболевания, помимо периодического злоупотребления психоактивными веществами, как правило, наблюдаются явления гиперсексуальности.
Примечательно, что у лиц, относящихся к данному подтипу расстройства личности эмоционально неустойчивого типа, особенно, обладающих гипертимическим радикалом, в рамках психогенных образований нередко наблюдаются маниоформные состояния. Свойственная психопатологическому статусу этих пациентов «фоновая» аффективная приподнятость с идео-моторной оживленностью в ситуациях психотравмирующего стрессового воздействия приобретает парадоксальную (в контексте неприятного, тягостного события) тенденцию к усилению вплоть до гипомании. Психогенно провоцированные фазы гипотимического профиля протекают у них, как правило, по дисфорическому либо гневливо-раздражительному типу.
Общие характеристики личностного предрасположения к зависимости от психоактивных веществ
Из анализа клинического материала вытекает, что наиболее постоянной характеристикой эмоциональной сферы личности наркологических больных является не какой-то определенный тип лабильности (аутохтонная, психогенная), не тот или иной доминирующий регистр (голотимный, кататимный, соматовегетативный) либо полюс (гипотимия - гипертимия) аффекта, но преобладание явлений «негативной аффективности». Признаки гиперестетического (позитивного) аффекта выявляются у этих пациентов только в рамках состояний декомпенсации - реакций и фаз, в то время как разнообразные проявления эмоционального отчуждения носят базисный характер и наблюдаются как постоянное, «осевое» свойство, в том числе, в пределах периодов компенсации.
Феноменология негативной аффективности у больных с зависимостью от ПАВ тесно связана с преморбидными расстройствами самосознания, определяющими механизмы и формы отчуждения эмоций. Обследование показывает, что расстройства самосознания у наркологических пациентов затрагивают все три основные сферы психического функционирования, задействованные в формировании аффектов: витальную, когнитивную (эго-психическую) и телесную; отчуждение преимущественно того или иного компонента эмоциональности определяет типологию преморбидных аффективных нарушений. При этом расстройства самосознания также имеют самостоятельное (не связанное с аффектом) клиническое значение для установления особенностей преморбидной личностной организации «аддиктов» и в целом ряде конкретных случаев требуют отдельного диагностического учета.
Наиболее характерными, причем в равной степени свойственными больным с обеими клиническими формами зависимости от ПАВ оказались аффективные нарушения, ассоциированные с преморбидными расстройствами самосознания витальности (распространенность феноменов данного круга приближается к 100%). Последние выявляются склонностью к диффузным, беспредметным нарушениям общего чувства со снижением физического тонуса, дефицитом побуждений и положительных эмоций. Такие переживания нередко сопровождаются изменением субъективного восприятия времени: оно течет то слишком быстро, то «невыносимо медленно». В ряде случаев наблюдаются транзиторные явления дереализации с переживанием блеклости, «декоративности» окружающего мира.
При генерализации симптомов отчуждения формируется фрагментарная картина витальной деперсонализации с ощущениями автоматичности, бессмысленности совершаемых действий, трудно вербализируемым снижением восприятия собственной жизненности и активности. Такие состояния определяются среди больных опийной наркоманией, а также в наблюдениях манифестирующего в молодом возрасте и тяжело протекающего алкоголизма (соответственно у 53 - 32,1% и 31 - 14,6% пациентов); в остальных случаях нарушения когнитивного самосознания в динамике расстройств личности у наркологических больных определяются только на субклиническом уровне. В спектре оттенков настроения преобладают безразличие и аффект типа Unlust. Эти состояния сопровождаются или перемежаются с эпизодами безотчетного напряжения, беспокойства; наблюдается диссомния с повторяющимися тревожными снами. У 42 больных опийной наркоманией (25,2%) и 17 -алкоголизмом (8,0%) преморбидная аффективная симптоматика, протекающая с преобладанием витальных нарушений, сопровождается идеями о бесперспективности жизни, отсутствии ее смысла и мыслями о самоубийстве.
В сфере когнитивного (эго-психического) самосознания пациентов уже задолго до выявления клинических признаков зависимости от ПАВ в той или иной пропорции обнаруживаются два вида нарушений - идентичности Я с искажением восприятия непрерывности континуума личной биографии, а также - границ Я с отсутствием дифференцированной оценки собственных возможностей (распространенность феноменов данного психопатологического класса среди пациентов обеих клинических групп также приближается к 100%) .
О типичном для наркологических больных дискретном, но не континуальном самовосприятии уже подчеркивалось в ряде исследований (А.Ш. Тхостов с соавт., 2001; Ю.В. Валентик, 2000; В. Вгоп, 1975). Данные нарушения наиболее ярко иллюстрируют особенности картины самооценки пациентов с зависимостью от ПАВ - она имеет противоречивый, «расщепленный» характер. Более детальный анализ эго-психической сферы наркологических больных показывает, что самооценка у них слабо аргументирована реальными фактами прошлого, сильно зависит от сиюминутного положения «здесь и сейчас»; наконец, наблюдается выраженное несоответствие ретроспективной самооценки проспективной. Независимо от нозологического диагноза зависимости актуальная внутренняя картина Я определяется набором множественных, неопределенных, зачастую полярных и взаимоисключающих характеристик.
Наибольшей выраженности нарушения самосознания идентичности Я достигают в структуре личностного статуса больных опийной наркомании4. У них изначально отсутствуют «ядерные», независимые от времени составляющие самооценки, а внутренние картины прошлого, настоящего и будущего изолированы друг от друга. При этом реально существует лишь настоящее, «здесь и сейчас»; прошлое и, особенно, будущее «фантастичны», нереальны и с этим «здесь и сейчас» никак не связаны. Такой человек, например, описывая череду своих деструктивных поступков в прошлом и даже вынося им формально негативную оценку, тут же превозносит себя в будущем, рисует ничем не обоснованную радужную картину предстоящей метаморфозы (освобождение от всех отрицательных качеств, стремительный социальный рост, завоевание уважения окружающих и т.п.).
У больных алкоголизмом, в сравнении с «наркоманами», самооценка отличается большей устойчивостью во времени, а собственный жизненный путь воспринимается более целостно. Их актуальная оценка себя (в настоящем) также более адекватна реальным фактам биографии; однако она в значительно большей степени, нежели у больных наркоманией, зависит от ситуационного контекста - в основном, от мнения и оценки окружающих, характера отношений со значимыми лицами на текущий момент. При этом экспериментально-психологическое обследование выявляет у больных алкоголизмом очень высокий уровень полезависимости5, достоверно превышающий показатель у наркоманов, не говоря уже о норме (более чем в 2 раза и в 5 раз соответственно), что свидетельствует о преобладании среди пациентов этой клинической группы феноменов неустойчивости границ Я над расстройствами идентичности; последние более свойственны группе опийной наркомании.
В состояниях декомпенсации описанные девиации трансформируются во фрагментарные явления аутопсихической (когнитивной) деперсонализации (44 случая - 20,7% - среди больных алкоголизмом, 76 - 46,0% - в группе опийной наркомании). В отличие от развернутого психопатологического синдрома, в содержании переживаний у аддиктивных пациентов крайне редко фигурирует отчуждение «высших» эмоций и нравственных качеств; для них не характерны явления психической анестезии. Преобладают мысли об отсутствии самореализации, о безвременно «упущенных возможностях», о «застое» с дефицитом удовольствий, утратой легкости «движения по жизни», удачливости, привлекательности для самого себя и окружающих. Отмечается ощущение «притупления» мыслительных процессов с падением творческого потенциала, обеднением воображения, фантазий. Описанным явлениям соответствует дисфорический и/или ангедонический «фон» настроения со стойким чувством скуки. На этом фоне наблюдается усиление психопатического поведения с демонстративностью, требованиями особого внимания и отношения к себе.
Важно подчеркнуть, что у больных с зависимостью от ПАВ явления негативной аффективности, протекающие с признаками витального и эго-психического (когнитивного) отчуждения, также представлены среди преморбидных личностных особенностей лиц, обладающих гипертимическими свойствами (38 наблюдений - 17,8% в группе алкоголизма, 12 — 7,3% среди больных опийной наркоманией). Нарушения в указанном регистре самосознания у них обычно складываются в картину особо выраженной, гротескной некритичности с полным «размыванием» границ между желаемым и реальным. Симптомы нарушения идентичности Я здесь сопровождаются явлениями псевдологии, при которой те или иные фрагменты субъективной истории заполняются различными вымыслами и фантазиями, формирующими ложную, искаженную, но при этом субъективно «выгодную» само-репрезентацию. Признаки отчуждения в эмоциональной сфере «гипертимиков» выражаются в том, что обычно превалирующее у них приподнятое, оживленное настроение с повышенным витально-энергетическим тонусом, речедвигательным возбуждением, обилием юмора сопровождается переживаниями неполноты чувств, неясности смысла существования, отсутствия «истинных» жизненных удовольствий, «подлинной» радости. Подобно тому, как это наблюдается при гипотимических «профилях» преморбида, у этих пациентов в анамнезе регистрируются эпизоды флоттирующей, бессодержательной тревоги с ощущениями диффузного напряжения и безотчетной взвинченности.
Психодинамическое исследование расстройств личности у наркологических больных
Итак, преморбидные нарушения раннего личностного развития приобретают непосредственное патогенетическое значение в обстоятельствах столкновения с теми или иными «ключевыми» интрасубъективными переживаниями, несущими в себе угрозу дестабилизации либо разрушения их незрелой, неустойчивой душевной организации. При этом, употребляя психоактивные вещества, субъект как бы частично «переключает» психические процессы в режим внешней химической модуляции, а то и вовсе «отключает» их посредством токсического оглушения при неудовлетворительном эффекте опьянения легкой и средней степени («фармакотимия» по определению S. Rado, 1933). В силу обладания соответствующим спектром психотропной активности и относительно легкой доступности алкоголь либо наркотик выступают эффективным и быстродействующим коррегирующим средством в отношении тех или иных субъктивно тягостных когнитивных и аффективных феноменов, свойственных преморбидному личностному складу. По мнению ряда авторов, именно соответствие характера психопатологических расстройств преморбида фармакологическим свойствам психоактивного вещества (анксиолитическим, тимо- и нейролептическим) определяет известное наркологам явление «предпочтительности использования» (Н. Milkman, W.A. Frosch, 1973) химического вещества, выступающего в качестве «наркотика выбора» (Н. Wieder, Е. Kaplan, 1969), «наркотика наибольшего доверия» (J.V. Spotts, F.C. Shontz, 1987).
Подобное «комплиментарное» отношение к свойствам психоактивного вещества имеют описанные выше особенности личностного функционирования лиц, предрасположенных к аддикции, согласующиеся со структурой свойственных им объектных отношений. Будучи неодушевленным предметом, но, при этом, обладая мощным психоактивным действием, наркотик/алкоголь фактически воссоздают в психопатологической картине зависимостей аномальную, но «псевдокомпенсированную» структуру ранних объектных отношений. Так, алкоголь успокаивает, улучшает настроение, повышает самооценку и одновременно служит «карающей, наказующей» инстанцией, побуждающей к самообвинениям и просто приносящей физические страдания. Наркотик опийного ряда, помимо непосредственного психофармакологического (седативного либо эйфоризирующего) эффекта, также порождает и наслаждение, и страдания («ломка», депрессия, суицидальные мысли и др.). При этом и то, и другое психоактивные вещества обладают уникальным для аддиктов свойством, «перевешивающим» все сопутствующие страдания: они делают тягостный для трезвого осознания факт «неспособности субъекта найти в реальности то, что ему требуется» терпимым и даже приемлемым (П. Куттер, 1989). Оно устраняют у лиц, предрасположенных к зависимости, овладевающие чувства «пустоты», скуки и создает крайне привлекательную иллюзию наполненности смыслом, оживления и собственной нужности (L.M. Dodes, 1991). Не случайно, что за такие эффекты аддикты «прощают» наркотику и алкоголю их вредоносное действие, игнорируют его, с чем согласуется хорошо знакомый наркологам факт «некритичности» пациентов к болезни (гипонозогнозия).
Многие функции и символические значения психоактивных веществ описаны в ранее опубликованных психоаналитических работах. ПАВ — это особый объект, как правило, парциальный, содержащий аспекты плохой и хорошей матери, он может служить и проектом, и интроектом (Е. Glover, 1968). Кроме того, ПАВ имеет значение всегда доступного фетиша, и в то же время является переходным объектом (D.W. Winnicott, 1971). ПАВ — это парциальный объект с садистскими свойствами, который может существовать как во внешнем мире, так и внутри тела, но проявлять свои вредоностные свойства он может только внутри тела. Согласно Е. Glover y, 1968), существуют формула, по которой чувства ненависти индивида, происходящие вследствие его идентификации с амбивалентным объектом любви, переживаются не просто как состояние психической угрозы, но фактически как интроецированное чужеродное тело. От него в качестве «противоядия» принимается ПАВ, которое, разрушая, исцеляет. Так же, как когда-то в развитии наркомана/алкоголика не доставало хорошего объекта, подобно тому, как в его фантазии, согласно М. Кляйн (1932), материнское молоко было отравлено, а грудь была злой, так и теперь — он вынужден постоянно носить в себе злой объект и уничтожать злые интроекты и аспекты этого объекта и, тем самым, частицы самого себя. Параллельно формируется регрессивное садистское Сверх-Я. Уничтожение злых интроектов объекта возможно только через саморазрушение. Поэтому патологическое влечение к наркотизации/алкоголизации содержит наряду со стремлением к «дообъектному» слиянию тенденцию к постепенному самоубийству. Другой, нормальный путь совладания с «плохими» интроектами через утомительную «работу печали» для аддиктов невозможен.
На фоне достижений в понимании общих психодинамических механизмов химической аддикции до сих пор в психоаналитической литературе мало изученными остаются различия между отдельными ее видами, в частности -алкоголизмом и опийной наркоманией. S. Rado (1934) утверждал, что все виды химической зависимости надо рассматривать как вариации одной болезни, и, хотя психоактивных веществ много, «наркомания» одна. Аналогичной точке зрения придерживался Е. Simmel (1948), указывая, что в преобладающей части случаев структура и динамика личности алкоголика и наркомана практически не различимы.
Личностно ориентированная психотерапия в наркологическом стационаре
Психодинамический метод ориентирован на вскрытие бессознательных личностных структур и расширение диапазона доступных для осознания и анализа интрапсихических конфликтов, ответственных за формирование аддикции. В процессе терапии внимание больного смещается от «периферийных» проблем, концентрирующихся в циклах зависимости, и фокусируется на глубинных переживаниях. Терапевтическая тактика согласуется с особенностями психического развития индивида. Терапевт руководствуется в своих лечебных действиях, прежде всего, оценкой глубины (уровня) личностных дисфункций, затем - заключением о типологической квалификации расстройства личности у больного, а также оценкой клинического своеобразия синдромов и симптомов. Последние, согласно психоаналитической концепции, подвергаются обратному развитию по мере вскрытия, проработки и разрешения (хотя бы частичного) лежащих в основе их психогенеза глубинных психических конфликтов; в этом, собственно, и заключается лечебный эффект психоаналитически ориентированного подхода. Если же внимание пациентов ориентировать непосредственно на симптом, то это не способствует, а, напротив, препятствует достижению лечебного результата. Однако в рамках краткосрочной групповой терапии, в отличие от классической долгосрочной, анализ симптомов болезни постоянно находится в фокусе внимания группы, и его практически не удается избежать. В такой ситуации от терапевта требуется искусство «перевода» работы с симптомами в работу с конфликтами, объектными отношениями, защитами и другими базисными процессами, лежащими в их основе. Взамен эго-дистонного отношения к патологическому влечению и к другой симптоматике зависимости от ПАВ больным предлагается рассмотреть эти феномены в качестве символического выражения их внутри- и межличностных проблем, понять их как «продолжение» своего Я. Только тогда эти феномены становятся хотя бы частично подконтрольными Я, доступными саморегуляции и постепенно утрачивают самодовлеющий, компульсивный характер болезненного «наваждения».
Психоанализ был создан как метод терапии неврозов. Впоследствии психоаналитический подход был перенесен на психозы; на современном этапе развития оформились теория и техника лечения пограничных состояний. Однако наиболее «сильной» стороной психоанализа как терапевтического метода остается лечение неврозов. Данное обстоятельство дало основание некоторым аналитикам критиковать концепцию пограничного расстройства личности как «диагностически бессмысленную и терапевтически бесполезную» (Д.М. Херст, 2000). Когда психотерапевт, вооруженный этим методом, берется за лечение этих расстройств, то он, с одной стороны, невольно рассматривает лежащую в их основе проблематику через призму концепции неврозов. С другой стороны, постулируется необходимость учета не только концептуальных, но и технологических особенностей лечебного процесса применительно к личностным расстройствам пограничного класса.
При проведении краткосрочной групп-аналитической психотерапии с наркологическими больными в рамках настоящего исследования основные параметры психотерапевта отвечали стандартным для психоаналитической ситуации (setting) требованиям: нейтральность, анонимность, абстинентность. Однако в результате обобщения данных литературы и собственного опыта оформилась особая тактика проведения групповой работы, близкая к экспрессивной форме психоаналитической психотерапии (О. Kernberg, 1975). Традиционная пассивность, «раскрывающие» техники, «белый экран» и строгая интерпретация - все эти атрибуты классического подхода не использовались для трансформации проблем зависимого больного.
Винникот (D. Winnicott, 1965) подчеркивал, что оптимальная функция терапевта в условиях работы с пограничными пациентами - быть кем-то вроде матери, осуществлять «холдинг», согласно его терминологии. Автор полагал, что интуитивное, эмпатически-понимающее присутствие аналитика важнее, чем воспринимаемая как враждебное вмешательство вербальная интерпретация. Такой подход имеет много общего с идеей Биона (W.R. Bion, 1967) о том, что интуиция матери является «контейнером», который организует рассеянные и фрагментированные примитивные переживания ребенка в момент фрустрации, интегрирует их. Подобным образом, разбросанные, искаженные, патологические элементы переживаний регрессирующего пациента проецируются на аналитика, так что пациент использует терапевта как контейнер для организации тех переживаний, которые он сам по себе не может вынести. Обеспечивая функции защиты и поддержки, аналитик облегчает преодоление личностью проблем сепарации-индивидуации и переход к автономии.
При классически организованной психоаналитической терапии пациенты непроизвольно опосредствуют эти отношения в терапевтической ситуации: переносят на аналитика полярные чувства надежды и неверия, сверхзначимости и ненужности, склонны либо идеализировать, либо обесценивать его. В свою очередь, в отношении себя они поочередно актуализируют стремления то к самостоятельности, то к зависимости, охвачены ощущениями то собственной значительности, то ничтожности. Аддиктивная личность отчаянно сопротивляется установлению партнерского, ответственного отношения, невольно стремится либо пассивно подчиняться, провоцируя терапевта на патерналистско-директивное поведение, либо эксплуатировать его, требуя предоставления «готовых формул» помощи. Поэтому формирование «нормального» невроза переноса с активацией зрелых механизмов психологической защиты относится, скорее, к области виртуальной реальности, к сверхзадачам психодинамической терапии наркологических больных.
В психотерапевтических подходах к реабилитации наркологических больных вообще и в психодинамических - в частности просматривается два полярно противоположные направления. В рамках первого больной алкоголизмом или наркоманией выступает «виновником» собственного аддиктивного поведения, ему «инкреминируется» необузданный гедонизм с недостаточностью волевого регулирования изначально гипертрофированных влечений. Второй рассматривает того же больного в основном как «жертву» ранних детских психотравм, не сформировавшей в результате способностей к совладанию с саморазрушительными тенденциями и использующую психоактивные вещества как вредоносное лекарство от депрессии и страха. Алкоголь и наркотик — это самый простой и действенный способ немедленного преодоления всех страданий и получения наслаждения, но одновременно их употребление - это постыдная, унизительная слабость, заслуживающая расплаты5.