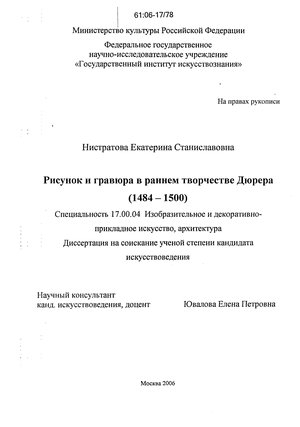Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Место и роль интеллектуальной собственности в системе рыночных отношений 10
1.1. Эволюция частной собственности и факторы её определяющие 10
1.2. Условия и предпосылки формирования и развития отношений интеллектуальной собственности 27
1.3. Взаимосвязь интеллектуальной собственности с другими формами собственности 40
ГЛАВА II. Социально-экономические формы интеллектуальной собственности и свойства её объектов 55
2.1. Социально-экономические свойства интеллектуального продукта 55
2.2. Виды интеллектуального продукта 71
ГЛАВА III. Реализация и защита интеллектуальной собственности 87
3.1. Особенности рынка интеллектуального продукта 87
3.2. Экономические и правовые формы использования интеллектуальной собственности 100
Заключение 130
Список литературы 140
Приложение 155
- Эволюция частной собственности и факторы её определяющие
- Условия и предпосылки формирования и развития отношений интеллектуальной собственности
- Социально-экономические свойства интеллектуального продукта
- Особенности рынка интеллектуального продукта
Введение к работе
Ранний период творчества Альбрехта Дюрера (1471-1526) охватывает годы с 1484 по 1500. Первая дата определяется по датировке первого - и достаточно знаменитого - рисунка Дюрера (Автопортрет серебряным карандашом, Вена, Альбертина), поскольку рисунок свидетельствует о первых навыках рисования, приобретенных в мастерской его отца, ювелира Альбрехта Дюрера. Дата конца периода является традиционной и общепризнанной: в начале столетия в стиле Дюрера произошел перелом, связанный с активными штудиями пропорций и перспективы, определившими его дальнейший поворот в сторону итальянского искусства. В эти годы сложилась особая изобразительная манера художника, со всей полнотой проявившаяся в рисунках и особенно в печатной графике, созданной в его мастерской. На характерных чертах этой ранней манеры немецкого художника и будет сосредоточено наше внимание на протяжении диссертационной работы, в которой предполагается рассмотреть основные особенности раннего стиля Дюрера в их связи с индивидуализмом Северного Ренессанса, проявившемся в религиозной сфере, а также и процесс формирования его более поздней стилистики, так или иначе обозначившейся в графических работах изучаемого периода.
История изучения творчества А. Дюрера и немецкого искусства в целом насчитывает несколько веков.1 В XVII столетии появился внушительный труд «Немецкая Академия благородного искусства зодчества, скульптуры и живописи», автор которого Иоахим фон Зандрарт рассматривает Дюрера в качестве наиболее выдающегося художника Германии, чье величие заключается в обращении к итальянскому искусству и, через него, к античным образцам.2 Иоахим фон Зандрарт заложил основы итальянизирующей тенденции в оценке творчества немецких мастеров; с этой точки зрения немецкое искусство до Дюрера вообще недостойно внимания, и единственным значительным предшественником Дюрера следует считать Яна Ван Эйка.
Философы и писатели романтизма (И. Гердер, И.-Г. Мерк, В. Вакенро-дер, братья А.-В. и Ф. Шлегели) первыми отметили самобытность немецкого искусства, под их влиянием на рубеже XVIII и XIX веков начинается увлечение изучением и коллекционированием работ старонемецких и нидерландских мастеров. Согласно искусствоведческой теории романтиков, немецкое искусство развивалось, опираясь на собственные традиции, и влияние античного и итальянского искусств оказывалось вредоносным для глубоко религиозного духа Германии, поскольку итальянское искусство стремилось лишь к внешним эффектам и лишено подлинной глубины.
Вопрос о самобытности немецкого искусства и о значении влияния на его развитие итальянского искусства быстро перерос в проблему типологии немецкого искусства XV и XVI веков: следует ли считать его Ренессансом и на каком основании? Большое значение для методологии изучения немецкого искусства сыграли труды Я. Буркхардта, работавшего на рубеже XIX и XX вв. 4 По мнению Я. Буркхардта, базисом культуры Возрождения в Италии было не увлечение античностью, а развитие индивидуализма и «открытие мира и человека», проявившееся в реалистической тенденции изобразительного искусства. Идеи Я. Буркхардта дали возможность применять понятие Ренессанса к культуре и искусству других стран, причем большинство ученых XIX века предпочитало считать началом Ренессанса в Германии период творчества Дюрера.
Другой проблемой при изучении немецкого искусства стало его отношение к Реформации: является ли Реформация типично северным явлением, параллельным развитию ренессансной культуры, или она заменяет Ренессанс в Северной Европе? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор не суще ствует, и хотя исследователь итальянского кватроченто располагает, несомненно, огромным количеством свидетельств светскости и секуляризованного характера искусства к югу от Альп, тем не менее можно указать и некоторое количество параллельных религиозных явлений, объединяющих культуру Италии и Германии XV столетия в единое целое. Самым характерным из них представляется реакция художников и гуманистов Италии на проповедь Джироламо Савонаролы: чувство раскаяния, которым был движим бросающий свои картины в костер Боттичелли, вполне можно сравнить с иконоборческими выступлениями немецких протестантов, уничтожающих алтарные картины в городских соборах. Оба эти действия основывались на укоренившейся с эпохи средневековья оппозиции духовной и телесной красоты, в которой первая оказывалась предпочтительней с точки зрения религиозной. Наличие в умах и мировоззрении трансальпийских современников Дюрера религиозных представлений несомненно, поэтому наиболее интересными представляются нам компромиссные точки зрения на взаимоотношения Ренессанса и Реформации, предлагающие, с одной стороны, различать эти культурные явления, а с другой - учитывать большое значение религиозной проблематики в северном Ренессансе.
Проблема Северного Ренессанса была рассмотрена О. Бенешем, полагавшим, что, при всем своеобразии искусства Северной Европы, в нем проявился новый ренессансный эмпиризм. Немного раньше М. Дворжак писал о сочетании в искусстве Севера нового натурализма и средневекового видения мира. Э. Панофский указал на коренную особенность перспективы как принципа построения пространства ренессансной картины: с одной стороны, ее возможность объективировать мир (которой воспользовалось итальянское Возрождение), с другой - ее способность ставить изображаемый мир в зави Q симость от изображающего его индивида. В субъективистском истолковании перспективы проявилась специфика северного искусства, тяготевшего к религиозному визионерству. С этой точки зрения вопрос о сущности Ренессанса приобретает более сложную трактовку, и тем самым становится не совсем корректным оценивать то или иное художественное явление эпохи, располагая его на прямолинейной шкале «ренессансное - готическое». Добавим, что, по нашему мнению, представление о неоднозначности таких художественных принципов как перспектива позволяет исследовать специфику ее применения в творчестве Дюрера, в связи с проблемой выражения религиозных смыслов, а также личностной позиции художника. Как нам кажется, и то, и другое имело равно важное значение для творчества Дюрера.
В отечественной историографии большое значение религиозной проблематике в Северном Ренессансе придавали В.В. Лазарев, рассуждавший о христианских основах немецкого гуманизма, и В.Н. Немил ов, указавший на мистико-религиозные аспекты творчества М. Грюневальда. А.Ф. Лосев находил глубинную взаимосвязь между готической и ренессанснои эстетикой в немецком искусстве, особенно сильно проявившуюся у А. Дюрера и М. Грюневальда.11 По мнению Н.М. Гершензон-Чегодаевой, Возрождение проявилось в нескольких национальных вариантах, и наиболее полноценной и законченной формой обладает художественный стиль нидерландской живописи XV века. На севере Европы Возрождение было сильнее связано с национальной готической традицией, чем в Италии, и эта связь была «крайне усложненной».
В более поздних исследованиях за Северным Ренессансом сохранялось значение самобытного художественного феномена, причем проблема сопос тавления с итальянским искусством отступила на второй план.13 В этом смысле интересна одна из недавних работ о ренессансной гравюре Д. Ландау и П. Паршалла: характерной чертой расцвета графики в последние три десятилетия XV века авторы считают появление индивидуальных стилей у мастеров по обе стороны Альп.14 Более того, как считает П. Паршалл, одной из особенностей графики той эпохи явилось ее стремление к регистрации факта, что способствовало, с одной стороны, развитию ренессансного эмпиризма, а с другой, позволяло рассматривать гравюру как свидетельство очевидца, в том числе и очевидца чудесного события.15
Между тем творчество Дюрера - это одно из тех явлений, которые стоят на перепутье между готическим и ренессансным, и поэтому оценка и характеристика его искусства во многом зависела от того, на какой принципиальной позиции находился тот или иной исследователь. Например, для таких ученых как В. Пиндер и Ф. Винклер Ренессанс является чисто итальянским явлением, поэтому при рассмотрении искусства Дюрера они выделяли прежде всего его самобытные, немецкие черты, которые резко отличались от итальянских принципов пространственного решения картины и объемного моделирования.16 На сходной позиции стоит и В. Ветцольд, называя искусство Дюрера искусством времени Реформации, и находя, что оно «родилось из духа нового благочестия» и «появляется в период религиозного обновления».17 Эти исследователи были склонны считать художественную систему Дюрера в большой степени независимой от итальянских способов решения проблем искусства.
Более широкого взгляда на искусство А. Дюрера придерживается Г. Вёльфлин. Доказывая, что искусство XV века в Германии нельзя назвать позднеготическим, поскольку оно проявляет новый интерес к человеку и вещному миру, Г. Вёльфлин в то же время подчеркивает национальные черты немецкого искусства, его существенные отличия от искусства итальянцев. Для немецкого ученого непреложным является представление о схожести мировоззренческих позиций разных национальных культур в пределах единой эпохи и, в то же время, о различии в изобразительных формах, зависящих от национальных художественных традиций. Рассматривая компоненты композиционного решения картины, такие как соотношение фигуры и контура, симметрию, масштаб, принципы изображения предметов и тел, распределение масс в пространстве, Г. Вёльфлин отмечает разницу между итальянским и немецким подходами к решению этих художественных задач.18 Однако он далек от того, чтобы воздвигать непроходимую стену между изобразительными принципами Севера и Юга. Поэтому, находя в творческом наследии А. Дюрера глубоко самобытные и национально-особенные черты, он не исключает его из общеевропейского процесса эволюции искусства.19
Близость к идеям Г. Вёльфлина обнаруживают взгляды Т. Хетцера, который в качестве основания стиля Дюрера рассматривает особенность изображения им предметного мира: стремление к поиску формы сближает нюрнбергского художника с итальянским искусством, однако Дюрер находит собственную, несхожую с итальянской, форму, появляющуюся благодаря особой напряженности линейной структуры. Взгляды Т. Хетцера представляются нам весьма интересными и продуктивными, поскольку играют большую роль для обоснования нашей собственной позиции. Изображение тел и предметов с опорой на эмоциональную, порой острохарактерную линию является, по нашему мнению, одной из существенных черт ранней манеры Дюрера, тем стилистическим нюансом, который имеет многообразные художественные последствия, напрямую связанные с передачей особенностей мировоззренческого строя немецкой культуры, находящейся, в свою очередь, под влиянием религиозных идей. В этой связи особое значение приобрели исследования, посвященные заимствованиям Дюрера у итальянских мастеров,21 его копиям с итальянских гравюр, а также его взаимосвязи с графикой предшественников.23
Особое место в изучении творчества А. Дюрера принадлежит Э. Па-нофскому, который придерживался мнения, что после второй поездки в Италию (1505-1506 гг.) в художественной позиции мастера произошел перелом, обусловленный влиянием итальянского искусства. Дюрер, по мнению Э. Па-нофского, осуществил синтез итальянской и немецкой традиций, но при этом его эстетика не достигла гармонической легкости итальянского искусства: «охваченная противоречием между идеей Ренессанса и своим собственным, совершенно неренессансным мироощущением», эстетика Дюрера «становится особенным образом расколотой и проблематичной».24
В более поздней работе Э. Панофский предложил особую концепцию исследования графической техники А. Дюрера периода 1495-1500 годов. Он предположил, что основной целью Дюрера было объединение контура и моделирующей штриховки ради превращения всей изобразительной плоскости гравюры в игру светотени, появляющейся благодаря расширению диапазона серого тона. Тем самым Э. Панофский указал на фундаментальную особенность графики немецкого художника, на которой, с одной стороны, базируется ее отличие от итальянских принципов графического изображения. С другой стороны, перевод линейной структуры на уровень светотеневого моделирования существенным образом сближает немецкую и итальянскую гравюру. Иначе говоря, проблемы сходства и различия изобразительных систем Италии и Германии, или проблема «ренессансности» искусства Дюрера, приоб ретает совершенно иное измерение и, до некоторой степени, перестает быть определяющей в оценке его творчества.
В связи с проблемой типологии немецкого искусства XV и XVI столетий интересно отметить разницу крайних рецепций творчества А. Дюрера в искусствоведении ФРГ и ГДР в 50-е - 70-е годы XX века. В то время как многие западногерманские искусствоведы склонялись к тому, чтобы считать А. Дюрера исключительно немецким художником, а его творчество - не имеющим отношения к ренессансной проблематике Италии (вплоть до шо-винистических мнений ), искусствоведение ГДР рассматривало Дюрера как немецкого представителя Ренессанса - эпохи, которая, в свою очередь, осмыслялась как победа реализма и гуманизма в изобразительном искусстве. Включение творчества Дюрера в комплекс национального культурного наследия повлекло за собой необходимость позиционировать его в качестве народного художника, представителя угнетенного класса эпохи раннебуржуаз-ной революции. Основными произведениями художника, содержащими идеи социальной борьбы, считались серия гравюр «Апокалипсис», картина «Четыре апостола» (1526, Мюнхен, Государственное собрание живописи) и проект памятника побежденному крестьянину, появляющийся в качестве иллюстрации к книге «Руководство к измерению с помощью циркуля и линейки» (1525).28
Отечественное искусствоведение оставалось в этом смысле на умеренных позициях, рассматривая искусство Дюрера как проявление ренессансной тенденции на немецкой почве. М.Я. Либман, отмечая несомненно большой вклад Дюрера в развитие всего немецкого искусства, рассматривает в качестве его истоков как самобытно-немецкие традиции, в том числе и религиозно-мистические настроения эпохи, так и итальянские влияния, воспринятые и переработанные художником. Ц.Г. Несселышраус придерживается мнения, что в начале XVI столетия произошел расцвет Возрождения в Германии, и основным представителем его был Дюрер; исследовательница во многом разделяет точку зрения Э. Панофского о переломе в искусстве Дюрера, произошедшем после 1500 года, и ориентации позднего Дюрера на итальянские художественные теории, глубоко переосмысленные и переработанные.29
Во второй половине XX века появляются работы, стоящие на новых концептуальных позициях. В их основе лежат историко-антропологический, иконологический и другие методы гуманитарной науки. Можно отметить исследование Р. Хадрабы, ставящее своей задачей включение символики и сю-жетов гравюр Дюрера в исторический контекст. Р. Хадраба обнаружил соответствия образам «Апокалипсиса» Дюрера в реальной обстановке предре-формационной Германии и попытался истолковать гравюры как отражения политических битв, или символическое изображение этих битв. В то же время классическая иконологическая традиция занималась поиском реминисценций образов Дюрера в широком культурном поле Ренессанса31 либо в сфере немецкого гуманизма. Сюда же относится изучение символики вымышленных существ и их ренессансной интерпретации в гравюрах Дюрера.33 Другое направление представляют работы, изучающие роль автопортрета в творчестве Дюрера как признака ренессансного самосознания,34 а также исследования степени причастности Дюрера к гуманистическому и научному интеллектуализму эпохи.35
В XX столетии происходит перелом в гуманитарных науках, связанный с развитием социо-психологических исследований, что делает возможным использовать гравюры Дюрера в качестве исторического источника по изучению сути и структуры религиозных переживаний его эпохи, как, например, поступает Д. Прайс. По его мнению, в серии гравюр «Апокалипсис» в качестве основных выступают темы почитания и веры в священное спасение, и композиционная структура гравюр может дать представление об особенно-стях мирского благочестия. В противоположность ему М. Мэдоу, используя развернутый искусствоведческий анализ, обнаруживает в, казалось бы, светском сюжете гравюры Дюрера «Прогулка» многочисленные отсылки к религиозным смыслам, что позволяет ему представить гравюру как индивидуализированную интерпретацию «Плясок смерти».37 Анализ М. Мэдоу показывает скрытый потенциал графики как искусства намека, знака, метатек-стуальных отсылок, а таюке акцентирует в качестве одного из важнейших намерений гравюры Дюрера перевод всеобщего (и, тем самым, абстрактного) Откровения в сферу интимного, субъективного восприятия и переживания.
В современном западном искусствознании популярны исследования отдельных изобразительных мотивов у Дюрера, в том числе имеющие тендерную направленность.39 В то же время появляются работы, поднимающие фундаментальные проблемы творчества художника, например, вопрос о степени его зависимости от итальянского искусства.4 Многочисленные выставки работ Дюрера свидетельствуют о наличии интереса к творчеству этого художника за рубежом (среди последних: Музей Дж. Р. Гетти, Лос-Анджелес, июль-сентябрь 2000 г.; Музей искусств, Сент-Луис, ноябрь-январь 2000 г.; Музей изящных искусств, Монтгомери, Алабама, сентябрь-октябрь 2002 г.; Музей Альбертина, Вена, октябрь-декабрь 2003 г.; Национальный музей, Варшава, февраль 2004 г.; Музей Метрополитан, Нью-Йорк, январь-март 2005 г.).
Между тем с конца 80-х годов XX столетия в отечественной науке, к сожалению, не появилось ни одного крупного исследования, посвященного творчеству А. Дюрера, в то время как концептуальные позиции науки претерпели за это время существенные изменения. За истекшие десятилетия, особенно с 90-х годов прошедшего века, появились (и продолжают появляться) многочисленные публикации на русском языке ранее труднодоступных работ зарубежных авторов в самых разнообразных сферах гуманитарной науки. Кроме того, для отечественного исследователя стали более доступны научные тексты на языках оригинала. Общеизвестен и не требует дальнейших пояснений тот факт, что введение в оборот столь большого количества новых научных идей оказало большое влияние на некоторые позиции российской науки. Например, для настоящего исследования имеет существенное значение то, что в современном искусствознании религиозная культура больше не рассматривается как ограниченная, довольно замкнутая часть средневековой и ренессансной культуры, так что художественные произведения, появившиеся именно в сфере религии, могут быть изучены в аспекте специфики выражения в них религиозных смыслов.
Проблема типологии творчества Дюрера, являвшаяся центральным пунктом предшествующего искусствоведения, становится для нашего исследования до некоторой степени факультативной. Нас интересуют прежде всего элементы художественного стиля Дюрера, или, точнее - особенности и нюансы работы с ними, нюансы, позволяющие сделать пространственное решение, объемность или организацию плоскости выразителями специфического мироощущения Северного Ренессанса. Иначе говоря, мы предлагаем рассматривать искусство Дюрера в контексте возрастающего индивидуализма, имевшего в немецкой культуре эпохи Ренессанса религиозную окраску. Нам представляется наиболее важным исследовать конкретные приемы и методы А. Дюрера в трактовке пространства, объема и плоскости картины, и указать, как они отвечали потребностям эпохи, как в них проявилось новое, индивидуально-религиозное видение мира. С этой позиции проблематичность и раздвоенность эстетики Дюрера, отмеченная Э. Панофским, перестает казаться трагедией творчества художника, поскольку становится очевидным, что художественные методы итальянского искусства преобразуются Дюрером в некоторое гармоническое целое, соответствующее новым запросам немецкого зрителя с его новым переживанием мира и своего места в нем. Как нам представляется, этот подход к исследованию графики А. Дюрера никогда не применялся в отечественном искусствознании и является новым исследовательским методом.
Таким образом, главной целью настоящей работы является анализ рисунков и гравюр А. Дюрера 1484-1500 годов и новая их интерпретация с точки зрения индивидуализма Северного Ренессанса, связанного с религиозными и мистическими компонентами немецкой культуры.
В соответствии с поставленной целью определяются и стоящие перед нами задачи:
? раскрыть значение для Дюрера индивидуалистического мировосприятия, появившегося в зоне распространения художественных практик Ренессанса, сосредоточив внимание на религиозном и мистическом компонентах североренессансного индивидуализма;
? изучить эволюцию графического творчества А. Дюрера 1484-1500 годов с точки зрения проявления в нем религиозно-мистической направленности; интерпретировать основные изобразительные приемы (пространственную и плоскостную композиции, объемное моделирование, линейную структуру) в новом ключе как возможности для художественного выражения религиозно-индивидуалистических смыслов Ренессанса;
? показать, что художественные новации Дюрера выражали его намерение придать изображению мира новые черты, порожденные активизацией роли зрителя (художника), изменением его позиции по отношению к изобра жаемому, что было непосредственно связано с особенностями религиозности Северного Ренессанса;
систематизировать основные закономерности творчества художника в указанный период, сформулировать суммирующие выводы о значении творчества А. Дюрера для развития немецкого искусства конца XV - начала XVI веков.
В процессе работы над диссертацией некоторые главы и разделы были опубликованы в виде статей или прочитаны в качестве докладов на конференциях. Вызванный ими интерес позволяет нам надеяться, что предлагаемый новый подход к рассмотрению наследия одного из самых выдающихся немецких (и европейских) художников вызовет интерес искусствоведов и будет использован для изучения немецкого Ренессанса с новых методологических позиций.
Эволюция частной собственности и факторы её определяющие
Теоретическое решение многих вопросов интеллектуальной собственности во многом зависит от представлений об экономической сущности отношений собственности вообще и эволюции частной собственности в частности. Как известно, исходной формой собственности после разложения первобытного общества является частная собственность. Для неё было характерно то, что владельцем, пользователем и распорядителем объектов выступало одно и то же лицо. Другими словами, первоначально частная собственность была персонифицирована. Но было бы ошибкой считать, что такое положение может оставаться неизменным в течение длительного времени. Не вдаваясь в историю вопроса, сосредоточим свое внимание на тех процессах, которые характерны для современного общества и оказывают определенное влияние на эволюцию частной собственности. Конец тысячелетия высветил в полной мере рубеж качественных изменений в общественной жизни человечества: рождение «постиндустриального» (информационного) общества, «человеческая революция», «ноосфера» (или как минимум «устойчивое развитие»). Впервые факт становления постиндустриального (информационного) общества отмечается О.Шпенглером, еще в 20-е гг., провозгласившим, хотя и в несколько трагической и романтической манере, закат нынешней индустриаль- ной цивилизации, но не обозначившим контуры новой, приходящей на смену. В 40-е гг. австрийский экономист К.Кларк уже вполне определенно говорил о наступлении общества информации и услуг, общества с новой экономикой и технологией. В конце 50-х гг. американский экономист Ф. Мах луп выдвинул тезис о становлении информационной экономики и превращении информации в товар, а в конце 60-х гг. лидер теории постиндустриализма Д.Белл предсказывает превращение индустриального общества в информационное. В начале 80-х гг. возникновение информационного общества, по крайней мере в наиболее развитых странах Запада и в Японии, было зафиксировано американским профессором Дж.Мартином и японским профессором Й.Масудой. Экономическая теория информации как научная дисциплина ещё находится на стадии становления (её развитие насчитывает несколько десятилетий). Но уже сегодня в отечественной и зарубежной экономической литературе имеется значительное количество работ, освещающих проблемы, напрямую связанные с особенностями информационного производства (А. Тоффлер, А. Барышникова, С. Загладина, С. Зарецкая, Р. Капелюшников и др.) В работах этих экономистов показано единство двух производительных сфер (производства материальной продукции и духовной сферы, в частности, производства нематериальных форм богатства), обоснована концепция двух типов производительного накопления (материального и нематериального), выявлены назревшие качественные сдвиги в экономике в условиях НТП, поставлены проблемы экономической эффективности ряда отраслей нематериального производства. «Если индустриальное общество, - как пишет Д.Белл, - основано на машинном производстве, то постиндустриальное общество характеризуется интеллектуальным производством. И если капитал и труд являются главными структурными чертами индустриального общества, то информация и знания являются таковыми для постиндустриального общества» (162, с. 166-167). По мнению Й.Масуды, информационному способу производства будет свойственна смена самовозрастания капитала самовозрастанием информации. Ученый специально выделяет четвертичный, информационный сектор в структуре экономической системы (189). Статистические исследования демонстрируют факт неуклонного роста данного сектора, что подтверждает становление информационного способа производства (см. таблицу 1, (93Изменения в социальной структуре общества под влиянием перехода к информационному способу производства, по мнению многих ученых, столь заметны, что представляют собой бескровную революцию (59). Констатируется тенденция роста занятых в сфере услуг и информации. Впервые это явление было зафиксировано по бухгалтерским отчетам: зарплата упомянутых лиц составила в 1987 г. для США 63% от совокупной зарплаты населения, 1988 г.-67%; 1990 г.-75% (125).
Условия и предпосылки формирования и развития отношений интеллектуальной собственности
Развитие индустриального и постиндустриального общества детерминирует отношения собственности. Практическим возможностям и требованиям современного общества в наибольшей степени соответствует, на наш взгляд, теория прав собственности, возникшая в рамках мар-жиналистко-институционального направления.
Теория прав собственности рассматривает собственность как пучок правомочий, закрепленный за конкретным ресурсом и дающий владельцу последнего определенные права на принятие экономических решений. В этом случае права собственности отражают не что иное как поведенческие нормы, регулирующие отношения между людьми по поводу использования ими тех или иных ресурсов. Можно поэтому сказать, что права собственности есть "правила игры", по которым осуществляют свою деятельность экономические субъекты. Несомненно и то, что набор прав собственности претерпевал изменения вместе с эволюцией экономических систем.
В развитии современной рыночной экономики роль решающего фактора играет предпринимательство. Классик микроэкономической теории А.Маршалл обращает внимание на такие ключевые моменты рыночной экономики как "свобода производства и предпринимательство" и подчеркивает позитивные пункты движения экономической жизни в связи с развитием этих явлений (97).
Рассмотрение собственности как пучка прав и полномочий помогает преодолевать её абсолютизацию, в том числе и для предпринимательских целей. По мнению К.А. Хубиева, именно приобретение необходимого объема или "пучка" прав (в том числе и на вещественные ресурсы, включая недвижимые) соответствует современному предпринимательству в большей степени, чем "чувство полного хозяина" всех применяемых ресурсов." (156, с. 242-250).
Подход к ресурсам, как к правам, с точки зрения экономической эффективности, имеет достаточно универсальное значение для всех форм собственности.
Опыт индустриально развитых стран убедительно свидетельствует о том, что концентрация прав собственности на объекты присвоения у одного владельца является неприемлемой в условиях таких сложных форм организации хозяйственных единиц, как акционерные общества, партнерства, кооперативы, транснациональные компании и другие организационно-правовые формы предпринимательства. Для них характерно расщепление собственности на правомочия нескольких лиц, принимающих экономические решения. Оно служит базой для формирования необходимых и достаточных прав у лиц, участвующих в осуществлении экономических решений по поводу одного и того же результата.
Тенденция расщепления прав собственности нашла соответствующее выражение в усилении её корпоративности и институциолизации и превращении прежде всего в такую форму ассоциированной собственности, как акционерная.
Следует заметить, что акционерный капитал США и Великобритании достаточно сильно распылен и каждый из собственников владеет сравнительно небольшой долей в корпоративном капитале. В то же время в таких странах, как Франция, Италия, Германия, Испания, Швеция, Япония уровень концентрации собственности значительно выше. Отсюда и роль корпоративного управления в странах с высокой и низкой степенью концентрации собственности существенно различается. Доля институциональных инвесторов (пенсионные и взаимные фонды) в США в общем капитале корпораций составляет около 60%, причем почти 40% совокупного акционерного капитала приходится на пенсионные фонды, у большинства из которых активы диверсифицированы. Банкам в США запрещено приобретать акции корпораций. Если же корпорации имеют в своем составе банки, то им запрещается держать контрольные пакеты акций компаний, в состав которых банки не входят.
Социально-экономические свойства интеллектуального продукта
С точки зрения философского подхода интеллектуальный продукт представляет собой материальное воплощение знания, интеллекта, порождение человеческого мозга. И в этом смысле представляет собой достояние цивилизации в целом: знания, опыт, накопленная культура и её памятники. Это есть результат духовного производства. С точки зрения материального производства интеллектуальный продукт представляет собой конкретные виды изобретений и нововведений, открытий, объективированных продуктов творческого труда, данных непосредственно в виде результатов умственного труда или вплетенных в другие виды деятельности, опосредованных ими.
Причиной появления любого производства является наличие потребностей. Материальное производство возникает вследствие существования требующих удовлетворения материальных потребностей.
Причины появления интеллектуального или духовного (с точки зрения общефилософского подхода) производства не столь однозначны. С одной стороны, человеческий социум предъявлял духовные потребности, с другой стороны, материальное производство на определенном уровне своего развития стало требовать качественно нового источника экономического роста в виде научного прогресса. Научный же прогресс обеспечивается именно производством интеллектуальных продуктов. Следовательно, интеллектуальное производство есть результат развития материального производства. В дальнейшем отношения взаимосвязи между материальным и духовным производством усложняются. Интеллектуальное производство становится необходимым, а затем и решающим условием развития материального производства, так как именно оно обеспечивает производство ресурсов качественно нового типа (квалифицированные кадры, усовершенствованные средства производства и т.д.), а следовательно - снижение потребностей в традиционных ресурсах.
Интеллектуальный продукт есть результат умственных усилий и творческой активности интеллекта. Если в данном случае использовать экономическую терминологию, то интеллект можно назвать "средством производства" интеллектуального продукта в ходе процесса интеллектуального труда, называемого творчеством, о чем уже говорилось выше.
Интеллектуальный труд - это особый вид человеческой деятельности по достижению полезного результата в виде идей, изобретений, открытий, новых знаний и т. д. Характер интеллектуальной деятельности не может быть заранее спланирован и описан. Время от начала исследования до получения результата весьма растяжимо, а само получение результата носит вероятностный характер (если забыть о значении отрицательного результата).
Так, 75% всего экономического эффекта от производительного применения изобретений обеспечивается очень небольшой их частью (приблизительно 3-7 %). Это значит, что остальные 25 % эффекта приходятся на долю 93-97% изобретений. При этом важно отметить, что результативность той или иной изобретательской деятельности можно оценить лишь постфактум. В свою очередь, отношение числа начавшихся разработок к числу разработок, закончившихся внедрением их результатов в производство, близко 100:30, то есть только 30% разработок завершается внедрением (109, с. 28-33).
Однако сам процесс создания новых знаний, становится источником экономического и социального развития, Любые, даже неудачные направления исследований и разработок, любые ошибки являются «ошибками, на которых учатся». Как подчеркивает Г.Артамонов, «без результатов исследований, изобретений и разработок, «пылящихся на полках», не может быть технического прогресса в его современном виде» (12, с. 2-5).
Таким образом, даже нерезультативный в экономическом плане труд по производству информации в конечном счете оказывается необходимым для совершенствования производства и продвижения вперед в создании новых интеллектуальных продуктов.
В процессе интеллектуальной деятельности человек использует для накопления знания известную информацию. (Причем следует помнить о "правиле айсберга": часть знаний, которая не может быть выражена в логико-вербальной форме, представляет собой подводную часть). При этом "отрицательное" знание, знание ограничений, того, что нельзя осуществить в данной системе - чрезвычайно ценное для человека знание само по себе. Зная, например, что нельзя изобрести вечный двигатель, черпать энергию из ничего, человек не будет тратить материальные средства, время и собственные усилия впустую. Эти составляющие являются необходимыми условиями для творчества. Если развивать сравнение, то они также являются "средствами производства" интеллектуального продукта.
Особенности рынка интеллектуального продукта
Экономическое клише позволяет дать простейшее определение рынка интеллектуального продукта как способа реализации экономических отношений между продавцами и покупателями по поводу купли-продажи особого вида товара - интеллектуального продукта. Как всякий рынок, рынок интеллектуального продукта становится системой, представляющей собой комплекс взаимосвязанных элементов, образующих её структуру. Он также является системой экономических отношений её участников и субъектов по поводу создания, внедрения, распространения и потребления интеллектуального продукта. Круг субъектов включает в себя производителей, потребителей и посредников, причем каждая из этих групп выступает как меняющаяся подвижная структура. Эти субъекты подразделяются на две группы: физические и юридические лица. Физические лица могут выступать в единственном числе (непосредственный изобретатель, конструкторы). Что касается юридических лиц, то эти субъекты в зависимости от своей роли в инновационном процессе подразделяются на две группы. В первую из них входят научно-исследовательские организации, вузы (как производители научно-технического продукта) и промышленные предприятия. Ко второй группе относятся кредитно-финансовые учреждения, вузы (как учебные организации), общественные организации (фонды) и государственные структуры (институты), воздействующие на инновационный процесс в целом. В производстве и распределении интеллектуальных благ участвуют агенты четырех типов: изобретатели (создающие принципиальную основу новшества), разработчики (доводящие его до товарного вида), производители (тиражирующие новшество) и конечные потребители. Интеллектуальный товар проходит таким образом через три рынка: от изобретателя к разработчику, от него к производителю и от последнего к потребителю. Упрощая, можно объединить изобретателей с разработчиками. Тогда остаются два рынка: первый - между создателями новшеств и производителями копий и второй - между производителями копий и конечными потребителями. На первом рынке создатели новшеств подают права собственности на них производителям копий. Здесь каждый интеллектуальный продукт получает товарную цену. На втором рынке производители копий продают их потребителям. Отличительная черта этого рынка - цены у потребителей персонифицированы. Ограничением при анализе данных рынков является предположение, что интеллектуальный товар потребитель может получить только от продавца и не может передать (перепродать) его другим потребителям, то есть предусматривается совершенная защита интеллектуальной собственности. В качестве базовых объектов рынка интеллектуального продукта можно выделить правовые институты, объединенные понятием интеллектуальная собственность (см. параграф 3.2.). В качестве примера рынка интеллектуального продукта можно привести рынок интерактивных услуг. Структура его субъектов выглядит следующим образом: производители баз данных (БД) - организации, осуществляющие сбор информации и перевод её" в машиночитаемую форму, с точки зрения статуса производителя базы данных могут быть государственными, коммерческими или некоммерческими организациями; интерактивные службы - организации, осуществляющие интерактивный доступ к БД, то есть разрабатывающие и эксплуатирующие АБД, и являющиеся таким образом основным элементом рынка; шлюзы или межсистемные интерфейсы - организации, предоставляющие доступ к другим АБД; телекоммуникационные службы; пользователи, которые в свою очередь делятся на конечных пользователей и на промежуточных пользователей, или посредников, оказывающих своим клиентам услуги по информационному поиску. В состав последних входят библиотеки, информационные центры общего пользования, а также брокеры - специалисты-профессионалы, занимающиеся платным обслуживанием клиентов. Как показал опыт, основными группами отечественных пользователей являются: информационные специалисты, проводящие поиск в интересах своих организаций, научные и административные работники. На сегодняшний день очевидна потребность в специальных фирмах и фондах, обслуживающих «рынок идей».