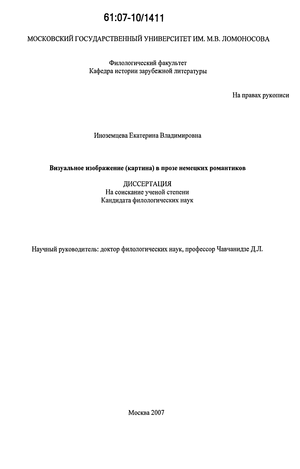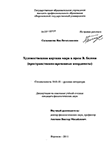Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Сущность понятия картины в контексте становления эстетического сознания романтизма 9
1.Вопрос об источнике художественного творения: И.И. Винкельман и В.Г. Вакенродер 11
2. Эволюция понятия «подражание» 34
3. Сущность произведения искусства. Требования к художественному воплощению 39
4. Проблемы восприятия художественного произведения: новый тип зрителя и критика 64
Глава П. Реальная и фиктивная картина в прозе раннего романтизма 72
I. Реальная картина в прозе раннего романтизма
1. В.Г. Вакенродер. Л. Тик. «Сердечные излияния отшельника, любителя искусств» 74
1.1 «Примечательная смерть известного в свое время художника Франческо Франча, первого из Ломбардской школы» 77
1.2 «Образец высокоодаренного в искусстве и притом весьма ученого художника, представленный в жизни Леонардо да Винчи, прославленного родоначальника флорентийской школы» 80
1.3 «Хроника художников» 83
2. Л.Тик. В.Г. Вакенродер. «Фантазии об искусстве, для друзей искусства» 93
2.1 «Страшный суд Микеланджело» 95
2.2 «Картины Ватто» 105
3. Л.Тик «Странствия Франца Штернбальда» 112
3.1 Средневековое искусство и его романтическая интерпретация 119
3.2 Картина итальянского Ренессанса в «Странствиях Франца Штернбальда» 129
II. Фиктивная картина в прозе раннего романтизма 135
1. Л. Тик. В.Г. Вакенродер. «Фантазии об искусстве». «История, переведенная из одной итальянской книги» 140
2. Л. Тик. «Странствия Франца Штернбальда» 144
2.1 Ландшафт и пейзажная живопись в «Странствиях Франца Штернбальда» 152
3. Ф. Шлегель «Люцинда» 157
Глава III. Живописное произведение в прозе позднего романтизма (Э.Т.А. Гофман) 161
1 .Принцип картины: абрис и колорит 177
2. Принцип картины: «картина как окно» и живописное зрение 191
З.Арабески 196
4Лроцесс творчества и его результаты в позднеромантическом осмыслении 205
5. От позднего романтизма к бидермайеру 210
Заключение 215
Библиография 218
- Сущность произведения искусства. Требования к художественному воплощению
- «Образец высокоодаренного в искусстве и притом весьма ученого художника, представленный в жизни Леонардо да Винчи, прославленного родоначальника флорентийской школы»
- Принцип картины: «картина как окно» и живописное зрение
Введение к работе
Визуальное изображение (картина) в прозе немецких романтиков.
Романтизм, пришедший в европейское культурное пространство на смену эпохе Просвещения, утверждает уникальный статус искусства и любого творческого акта. Отныне искусство обретает ту самостоятельность, которая позволяет ему составить альтернативу (и даже конкуренцию) рациональным способам познания мира, казавшимся абсолютными в классическую эпоху. И в этой ситуации сложно переоценить роль визуального изображения, картины.
Немецкие романтики, проявившие особенный интерес к эстетическим проблемам, разрабатывают понятие «картины» не только в контексте истории искусства, устанавливая иную систему координат, переосмысливая прошлые достижения в живописи, но, что кажется более значительным, формируют качественно новые отношения между визуальным изображением и литературным текстом. Визуальное изображение становится, так сказать, пластической формой, которая определяет архитектонику текста, собственно слово постепенно утрачивает прежнее значение и функции, «работая» теперь, по выражению А.В. Михайлова, на «разворачивание заложенной зримости». Более того, именно через картину, через целостный образ происходит познание человеком законов мироустройства: подлинное произведение искусства, являясь в новой романтической интерпретации отражением и выражением универсальной божественной идеи, способно вместить в себя все многообразие явлений внутренней и внешней жизни, открыть истинный смысл вещей.
Исследование феномена эстетического сознания романтизма, и в частности роли картины, визуального образа, предполагает определенные трудности, обусловленные рядом объективных факторов. Во-первых, романтическая позиция в отношении проблем искусства и индивидуального творчества формировалась в неразрывной связи и, как ни парадоксально, под непосредственным влиянием классической модели восприятия и оценки произведения искусства. Несмотря на очевидный полемический пафос по отношению к трудам И.И. Винкельмана, Лессинга, Гете, на непременное желание противопоставить собственный опыт утвердившейся традиции, романтики тем не менее органически впитали в себя идеи, высказанные в работах этих авторов, принимая их за некую «отправную точку», из которой возможно выстроить собственную систему. Вместе с тем ранние романтики апеллировали и активно использовали в своих теоретических и художественных текстах материал, почерпнутый и оригинальным образом усвоенный из произведений эпохи Бури и Натиска (В.Г. Гейнзе «Ардингелло и блаженные острова», «Письма о выдающихся картинах Дюссельдорфской галереи», И.Г. Гаман «Карманная эстетика» и др.), сочинений отдельных писателей и мыслителей таких, как, например, К.Ф. Мориц, искусствоведов (И.Д. Фьорилло). Собственно, первый раздел данного исследования являет собой попытку рассмотреть в необходимой целостности генезис и пути развития эстетических воззрений романтизма, выявить точки его сближения с предшествующей традицией рассуждений об искусстве. Естественным образом в ходе анализа обнаруживаются принципиальные расхождения, свидетельствующие о коренных изменениях, о стремлении романтического поколения сформировать новое визуальное чувство, выработать иные позиции для творческого законодательства. Неизбежны в такой ситуации обширные экскурсы в историю искусства и эстетики, помогающие понять причины тотальности действия романтической «идеологии», синтетического характера каждого творческого действия романтиков. Сочинения братьев Шлегелей, Вакенродера, Новалиса, Шеллинга, Шлейермахера сообщают эстетической теории романтизма убедительность целого, отображая различные аспекты, как бы «высвечивая» отдельные тематические грани, каждая из которых обретет свое воплощение в конкретных прозаических текстах. Сосредотачиваясь на непосредственном объекте исследования, визуальном изображении и способах его бытования в литературном произведении, кажется особенно важным уделить внимание осуществлению теоретических принципов в художественной практике раннеромантического периода. Йенцы активно вводят в пространство своих текстов многочисленные живописные полотна, причем это происходит по двум основным «направлениям»: с одной стороны, Тик и Вакенродер заняты утверждением новых эстетических принципов, перед ними стоит задача переосмыслить, «реинтерпретировать» сущность и значение искусства живописи в контексте божественного предназначения художника, его объективной связи с пространством абсолютных идей. Реальные картины, принадлежащие кисти мастеров итальянского Возрождения, Дюрера, Ватто и т.д., преодолевают в текстах ранних романтиков свою чисто эстетическую составляющую, обретая сокровенный духовный смысл, становясь не столько фактами творческой, биографии художника, сколько свидетельствами его непреходящей связи с божественным абсолютом.
С другой стороны, такие сочинения, как «Фантазии об искусстве» и «Странствия Франца Штернбальда» открывают читателю целую галерею фиктивных изображений, под которыми мы понимаем те, что были созданы героем-художником в действительности художественного текста - в его воображении или на холсте. Фиктивные картины суть непосредственная проекция тех теоретических положений, какие пытались утвердить ранние романтики. Более того, эти изображения выполняют еще одну важную функцию: они обеспечивают жизнеспособность общих рассуждений об искусстве и открывают возможность их реализации в живописной практике; это можно увидеть, например, в творчестве К.Д. Фридриха и Ф.О. Рунге. У Вакенродера и прежде всего у Тика происходит, так сказать, первоначальный акт претворения раннеромантической теории в живой материи литературного текста, причем этот процесс обнаруживает некую спонтанность, зачастую носит случайный и непоследовательный характер, что, впрочем, вполне оправдывается установкой йенцев на принципиальное отсутствие системности, выявление ценности случайного, интуитивно усвоенного знания.
Позднеромантический литературный опыт, и в первую очередь творчество Э.Т.А. Гофмана, демонстрирует более стабильные формы присутствия картины, целостного визуального образа в прозаическом произведении. Гофман не просто исследует феномен романтического творчества, тематизируя особое, предельное положение художника и его творения в системе мироздания, его бытование «на границе» между трансцендентной сферой идей и профанной действительностью, но и формирует совершенно особенный тип текста, который призван осуществить внутреннюю связь между визуальным и вербальным началом, «проверить на истинность» эффективность подобного соединения. В таких произведениях, как «Дож и Догаресса», «Фермата», «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья», картина становится ключевым повествовательным принципом, определяя структуру новелл. Они вполне осознанно строятся по законам живописного полотна, обнаруживая многообразие форм и воплощений («цветовое зрение», «картина как окно», арабески и т.д.)
Актуальность выбранной темы определяется несколькими важными факторами. Во-первых, в современной культуре всесторонне осваивается и исследуется феномен визуального; в сущности, сегодня мы имеем дело с визуальноцентричной системой, где все процессы и явления подчинены общему стремлению явить читателю/зрителю убедительный образ, поддающийся мгновенному и максимально полному восприятию. Очевидное преимущество визуального начала в культуре побуждает исследователя обратиться к истокам возникновения тех явлений, которые определили генезис нового типа духовной деятельности человека. Во-вторых, анализируя способы и формы присутствия картины в литературном тексте, мы поднимаем один из ключевых вопросов, актуальный не столько собственно для романтиков, сколько для их «преемников» в искусстве конца 19-20 вв. Здесь мы имеем в виду проблему соотношения, взаимодействия слова и изображения как универсальных эстетических категорий. Романтический опыт в утверждении внутренней связи между вербальным и визуальным, исследование возможностей их синтеза, обоюдного использования средств закладывает необходимую базу, дает «онотологическое оправдание» многочисленным экспериментам в культуре 20 века: литературное и художественное творчество дадаистов, сюрреалистов, концептуалистов настойчиво возвращает нас к романтической эпохе, когда впервые произошло всестороннее осмысление возможностей эффективного соединения слова и визуального образа.
Научная новизна исследования заключается в попытке целостного анализа сущности и функций визуального изображения в романтической прозе от йенцев до Гофмана и позднего Тика, тем более что эта тематика не получила достаточного освещения в отечественной и даже зарубежной германистике. Подробное исследование отдельных жанров - роман об искусстве, роман о художнике1, новелла о художнике - не затрагивает, как правило, собственно картины как базового элемента эстетической теории романтизма. Особый интерес ученых (Питера Фэзи, Катарины Вайсрок, Кэте Гарниш и др.) сосредоточен на фигуре художника, его специфическом статусе в романтическом мироустройстве. С другой стороны, ряд современных работ, опубликованных в таких сборниках, как «Слово и изображение в романтическую эпоху», «Романтизм и Ренессанс. Рецепция итальянского Ренессанса в немецком романтизме», обладают известными приметами постмодернистской критики, которая игнорирует литературного произведения, его «включенность» в определенный культурно-исторический контекст и эволюцию авторского движения. В отечественной германистике попытки осмыслить феномен эстетического сознания романтизма исчерпываются всего лишь несколькими фундаментальными исследованиями и отдельными статьями (Д.Л. Чавчанидзе «Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и ее разрушение», М., 1997; А.В. Михайлов «Вакенродер и романтический культ Рафаэля», «Проблемы анализа перехода к реализму» и др. в сборнике «Языки культуры», М., 1997). Искусствоведческие работы, посвященные романтической эпохе, вполне закономерным образом не тематизируют особого положения картины в литературном романтизме, ограничиваясь общими замечаниями о синтетическом характере творчества в этот период. Однако подобное положение не исключает наличия отдельных трудов, которые претендуют на всеохватность представления романтической культуры, оказавшей влияние на практически все области творческой деятельности человека, и здесь можно назвать, например, книгу Т. Жолковски «Немецкий романтизм и его институции» (Princeton, 1990).2
Объектом изучения в диссертации являются теоретические и литературные тексты немецкого романтизма. Подробному анализу подвергаются сочинения братьев Шлегелей, опубликованные в журналах «Лицеум» и «Атенеум», Ф. Шлегеля, собранные в «Воззрениях и идеях о христианском искусстве», «Философия искусства» Ф. Шеллинга, «Речи о религии» Ф. Шлейермахера. Отдельным образом рассматриваются теоретические труды предшествующего классического периода, непосредственно повлиявшие на формирование романтической эстетики (И.И. Винкельман «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре», Г.Э. Лессинг «Лаокоон», К.Ф. Мориц «О творческом подражании прекрасному», «Метафизическая линия
2 Более подробный обзор важнейших критических исследований см. в тексте диссертации прекрасного» И.Д. Фьорилло «История изобразительного искусства», В.Г. Гейнзе «Ардингелло и блаженные острова», «Письма о выдающихся картинах Дюссельдорфской галереи»). Особое внимание в диссертации уделяется целостному представлению воззрений романтических художников таких, как К.Д. Фридрих, Ф.О. Рунге, К.Г. Карус, зафиксированных в различных комментариях, сборниках афоризмов, письмах, относительно сущности искусства и значения визуального изображения. В тексте диссертации содержится детальный анализ литературных произведений раннего и позднего немецкого романтизма (В.Г. Вакенродера, Л.Тика, Ф.Шлегеля, Э.Т.А. Гофмана). Цель данного диссертационного исследования - определить специфику категории картины в теоретических и литературных произведениях немецкого романтизма, а также представить в необходимой целостности эволюцию эстетических взглядов, которые знаменуют собой новую эпоху в европейском культурном сознании. Для этого необходимо выполнить следующие задачи:
- проследить развитие теоретических позиций романтиков относительно сущности и искусства и функций картины, выявить точки сближения и расхождения с классической традицией;
- проанализировать на примере конкретных художественных текстов раннего романтизма формы и способы реализации новых теоретических убеждений;
систематизировать основные приемы освоения визуального материала в литературных произведениях йенцев;
- выявить различия между ранними романтиками и Э.Т.А. Гофманом; наглядно продемонстрировать причины и способы, как картина из объекта описания становится внутренним принципом организации повествования;
- наметить пути трансформации романтических убеждений в последующую эпоху бидермайера; дать общую характеристику сущностных расхождений в перспективе особого значения категории картины в эстетике романтизма;
3 К.Г. Карус, врач по профессии, был виднейшим теоретиком романтизма, сам практиковал занятия живописью. Методологическая основой данной работы являются исследования российских и зарубежных ученых по следующим проблемам: формирование романтической эстетики (Э. Ауэрбах, А.В. Михайлов, В.М. Жирмунский, М. Ямпольский, М. Тальман, С. Вьетта, Р. Литтлджонс, Г. Ноймайер, Р. Богардс, Г. Остерле, Г. Нойман и др.), творчество ранних романтиков в контексте нового понимания искусства (В. Кольшмидт, П. Фэзи, С. Хаусдерфер, Э.В. Шульц), значение искусства в творчестве Э.Т.А. Гофмана (А.Б. Ботникова, Д.Л. Чавчанидзе, Ф. Киттлер, Г. Мюллер, М. Фрей, Д. Кремер, П. Матт и др.), понятие пространства картины и эволюция визуального восприятия (Б. Раушенбах, Э. Панофски, Г. Вельфлин, Г. Гаснер, каталоги различных выставок). Основные методы, использованные в данной работе, - историко-культурный и детальный анализ текстов романтической эпохи.
Научно-практическое значение результатов диссертации заключается в возможности их использования для разработки курсов, посвященных романтической прозе об искусстве и художнике, а также введенному романтиками новому пониманию возможностей синтеза визуального и вербального начала, что кажется особенно актуальным в контексте культуры модернизма.
Структура диссертации определяется ходом исследования. Работа состоит из введения, трех глав (Сущность понятия картины в контексте становления эстетического сознания романтизма; Реальная и фиктивная картина в прозе раннего романтизма; Живописное произведение в прозе позднего романтизма), заключения и библиографии.
Сущность произведения искусства. Требования к художественному воплощению
Произведение искусства, являясь результатом духовного усилия художника и божественного озарения, представляет собой совершенное единство смысла и образа, конечного и бесконечного, идеи и предмета. Картина есть тот медиум, который осуществляет непосредственную связь между видимым (воспринимаемым глазом) и царством невидимого духа; она проявляет «истинные первообразы форм», выраженные лишь смутно в эмпирической природе. Картина, используя термин Новалиса, является инструментом романтизации, «качественного потенциирования» мира, «придавая обыденному высокий смысл, обыкновенному - таинственный вид, известному - достоинство неизведанного, конечному - мерцание бесконечного ». Шеллинг в «Философии искусства» постулирует особое положение живописного произведения, полагая его точкой соединения, взаимного проникновения духовной идеи и непосредственного визуального опыта: «Мое мнение таково: живопись - искусство, в котором видимость и истина совпадают, видимость должна быть истиной, а истина - видимостью».76
В основе такой дефиниции лежит романтическое понимание категории символа: чтобы осуществить свое предназначение, искусство должно быть в полном смысле слова символическим. Шеллинг настаивает на том, что «изображение абсолютного с абсолютной неразличимостью общего и особенного в особенном возможно лишь в символической форме». При этом он выделяет три понятия, каждое из которых характеризует сущностные свойства различных систем в искусстве: символ, аллегория и схема. Схема, по Шеллингу, представляет общее, и через общее происходит различение особенного; аллегория, соответственно, выражает особенные, единичные значения через общее и «общее созерцается через особенное» , символ же есть синтез того и другого, «где ни общее не обозначает особенного и наоборот, но где то и другое едины».79 Органическое единство, неразличимость конкретного и общего, буквально «райское» состояние содержания и выражения возможно воплотить только в символе. И, следовательно, наличие символического становится главным критерием оценки произведения искусства: оно может только в том случае считаться таковым, если единовременно представляет конкретный единичный предмет и его идеальную духовную сущность, если смысл непосредственно выявляется из образа, если идея «просвечивает» сквозь изображение. Только символ способен возвыситься до уровня идеи, в то время как схема и аллегория остаются в логико-понятийном пространстве; символ наделяется уникальным статусом и полномочиями. Искусство оказывается способным распознавать высшие смыслы и разгадывать божественные тайны только в той мере, насколько оно символично.
Благодаря символическому творение художника обеспечивает себе место в бесконечности, в идеальном состоянии незнания времени и ограничений, и, соответственно, созерцание произведений искусства делает возможным увидеть и познать вечность в видимом образе. Произведение искусства ценно настолько, насколько оно способно вызывать чувство предстояния перед вечностью, узнавание прообразов форм вещей, и поэтому формальные критерии оценки полностью теряют свою состоятельность. Требования «понятности», сходства художественных образов с действительными - согласно формулировке Шеллинга: «Живопись как раз в своих высших проявлениях скорее должна уничтожить видимость действительности»80- , степень владения художником техническими средствами живописи (рисунок, светотень, колорит) не являются отныне абсолютными.8 Потому что техническое совершенство служит лишь одной цели: адекватное эмпирической природе художественное представление образа. Предельное воплощение этого принципа - легенда о греческом живописце Зевксисе, так реалистично изобразившем птиц, что зритель обманывался, не отличая их от настоящих. Эту легенду, принадлежавшую к стандартному репертуару эстетических размышлений Ренессанса, приводил, в частности, уже упоминавшийся Альберти в качестве доказательства «единозначности» природы и искусства. Романтическое эстетическое сознание, принявшее за основной критерий оценки произведения искусства его способность выражать сущностные духовные смыслы, а не достоверно изображать прекрасную эмпирическую природу, категорически отрицает подобное оправдание творчества.
Ограничение роли индивидуального технического мастерства как средства в создании идеального является общим убеждением для йенских романтиков. Если формальное совершенство произведения искусства становится для художника главной заботой и конечной целью, то, во-первых, это неизбежно приводит к бессодержательности, бессмысленности и бесполезности картины, а во-вторых, свидетельствует об отсутствии божественного дара у художника. Техническое совершенство не должно бросаться в глаза при созерцании произведения искусства - красота исполнения открывается постепенно, подтверждая свое «естественное», независимое от стремления художника, происхождение; оно не является буквальным доказательством рукотворности, что может говорить лишь о том, что техническое исполнение стало для художника самоцелью, и он утратил представление о подлинном смысле искусства; такое произведение теряет свою принадлежность к царству Ср.: «Разве рисунок, свет, цвет не образуют у каждого хорошего художника нераздельного гармонического целого? Вместо того, чтобы в этих тщеславных попытках неудовлетворительной классификации разделять то, что вечно связано между собой и может воздействовать только в единстве, лучше бы постарались со всей тщательностью проникнуть в индивидуальный замысел каждого произведения, действительно бывший у самого художника...». Ф. Шлегель. Описания картин из Парижа и Нидерландов. Т.2. С.235. искусства. Август Вильгельм Шлегель в «Лекциях о драматической литературе и искусстве» (1809-1811) вводит понятие «органической формы», отличая его от «механической», то есть той, которая подтверждает «незыблемость застывших правил» и точно им следует. Органическая форма, по Шлегелю, является «прирожденной», строящей «материал изнутри» и достигающей «своей определенности одновременно с развитием первоначального зачатка».
«Образец высокоодаренного в искусстве и притом весьма ученого художника, представленный в жизни Леонардо да Винчи, прославленного родоначальника флорентийской школы»
Говоря об источниках, из которых Вакенродер черпал материал для истории Леонардо, комментаторы и составители полного собрания сочинений Сильвио Вьетта и Ричард Литтлджонс называют наряду с Вазари немецкий перевод «Трактата о живописи» Леонардо, изданный Иоганном Георгом Бёмом в 1747 г.163, и уже упоминавшуюся «Историю изящных искусств» Иоганна Доминициуса Фьорилло. Следуя логике представления об идеальном художнике, озаренным светом божественного вдохновения, Вакенродер предлагает специфическую интерпретацию деятельности Леонардо, отличную от той, которая закрепилась в искусствоведческой традиции. Если у Бёма, Фьорилло и, естественно, Вазари в фигуре Леонардо воплощается ренессансный идеал универсального гения, то в «Сердечных излияниях...» подробное описание различных навыков, знаний и интересов служит единственной цели -доказательству того, что занятие живописным искусством требует всестороннего проникновения в законы природного устройства, особого дара наблюдателя, который способен распознавать общие закономерности и продуктивно использовать обретенное знание. В рассказе о Леонардо Вакенродер с особой тщательностью перечисляет области деятельности художника, как будто опасаясь «неупоминания», которое могло бы разрушить идеальную полноту читательского впечатления. Но вместо описания собственно живописного процесса, ровное «дыхание» рассказа неожиданно сбивается: Вакенродер прибегает к романтическому риторическому приему, говоря о невозможности «пера передать всю красоту и великолепие многочисленных картин нашего Леонардо»164. Всего несколько строк он посвящает «Тайной вечере» (1495-97), фреске в трапезной доминиканского монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане, ссылаясь на «старых собирателей анекдотов о художниках», которые рассказывают о промедлении Леонардо, когда он должен был закончить головы Христа и Иуды. В версии Вакенродера Леонардо чаял дождаться момента «счастливого вдохновения», чтобы как можно точнее изобразить лицо предателя-Иуды и возвышенный лик Христа. Завершается этот отрывок упоминанием настоятеля обители, который, «являя наглядный пример непонимания»165, требовал от Леонардо такого же усердия и старания как от тех, кто выполнял ежедневное послушание в монастыре. Казалось бы, Вакенродеру открылась идеальная возможность представить известную из упомянутых трудов ситуацию промедления Леонардо как ожидание божественного вмешательства, а окончание работы (хотя на самом деле, на что указывает и Вазари, лик Христа так и не был закончен) - как снисхождение божественной благодати, позволившей художнику зафиксировать небесный образ в идеальной явленности. История «Тайной вечери» как нельзя лучше подходила для новой мистико-религиозной интерпретации и предлагала куда более достоверный фактический материал, нежели тот, который Вакенродер использовал в «Видении Рафаэля» (более подробно см. стр. 9-171 главы). Но он сознательно и, руководствуясь вполне определенной системой внутренних мотивировок, говорит о достижениях Леонардо, значительно сокращая даже тот материал, который был дан Вазари, Бёмом и Фьорилло. Немногим более внимания Вакенродер уделяет и наиболее знаменитому полотну Леонардо -«Мона Лиза (Джоконда)» (1506), отдельно подчеркивая только значение музыки, которая звучала во время работы с натурой и создавала особого рода чувственное настроение, сделавшее образ более живым и непосредственным. На первый взгляд, это странное и не вполне оправданное «замалчивание», небрежная, вскользь данная характеристика вместо обстоятельного описания произведений Леонардо, которые к моменту написания «Сердечных излияний...» пользовались заслуженной славой и признавались каноническими образцами живописи высокого Ренессанса, можно объяснить романтическим, связанным с идеей «божественного творчества» пониманием заслуг того или иного художника. Так, в иерархии «Сердечных излияний...» есть только один пример, когда божественное происхождение творчества не подвергается сомнению - это Рафаэль. Даже «досточтимый» Дюрер, так же причастный метафизической тайне искусства, представляется скорее как симметричная Рафаэлю линия развития немецкого национального духа, запечатленная в «чистых и наивных» гравюрах и полотнах великого немца. В рассказе о Леонардо для Вакенродера важнее отобразить историю духовного подвига, неустанное смиренное старание мастера, благодаря которому он добивается небывалых высот в искусстве живописи. Произведения Леонардо предстают перед читателем, скорее, как суммарный результат и следствие неустанной работы духа, нежели чем одномоментное уникальное чудо божественного воздействия. Реальная картина в истории «...высокоодаренного в искусстве и притом весьма ученого художника Леонардо да Винчи» обретает помимо всего прочего, вполне конкретное функциональное значение: отражая «степень» причастности художника божественному, она поясняет позицию автора, его эстетические приоритеты.
1.3 «Хроника художников»
В рассказе «Хроника художников», завершающем в «Сердечных излияниях...» цикл на тему изобразительного искусства, герой Вакенродера повествует о событии своей юности, когда он «гонимый беспокойным духом, блуждал по свету и везде жадно устремлял свой взор в поисках произведений искусства», и однажды оказался в «незнакомом графском замке, где в течение трех дней не мог насмотреться на многочисленные картины»166. Первое в раннем романтизме появление пространства художественного зала знаменует собой важный этап в осмыслении деятельности художника. Интимная ситуация мастерской-кельи, сакрального места индивидуального духовного труда и божественного откровения, расширяется до масштабов музейного зала, связанного с внешним аспектом творчества - признанием принадлежности художественного произведения зрителю, а по романтическим категориям, -определением экзистенциальной значимости и ценности искусства в перспективе вечности. Теодор Жолковски в книге «Немецкий романтизм и его институции» подробно исследует проблематику, связанную с представлениями романтиков об идеальном музее, «храме искусства» и предпринимает попытку обнаружить систему и порядок взаимовлияния общей эстетической программы, непосредственной литературной практики и грандиозного архитектурного замысла К.Ф. Шинкеля по возведению Берлинского музея изящных искусств.167 Жолковски убедительно доказывает, что проект реального музея сформировался у Шинкеля в значительной степени под влиянием новых эстетических воззрений, зафиксированных в художественных текстах Вакенродера, Тика, Гофмана, теоретических работах Ф. Шлегеля и обширной переписке членов йенского кружка. Жолковски говорит о том, что «романтический музей был больше, чем храм искусства и пантеон художников, он также являлся пространством для знатоков. Это не тривиальное утверждение - напротив, оно повлекло серьезные изменения в том, что касается способа созерцания произведений искусства... Конечно, любители искусства веками рассматривали образцы скульптуры и живописи. Большинство из них находилось или в мастерских художников - на что постоянно ссылается Вазари - или в церквях и дворцах, по заказу которых они выполнялась. Но в обоих случаях зритель легко мог утратить представление об исторической преемственности (continuity) работ, перемещаясь от одного дворца к другому и иногда затрудненному доступу к произведениям...». По логике Жолковски, ощущаемая романтиками потребность в музее как в унифицирующей институции, сводящей в едином пространстве художественный опыт различных эпох, восстанавливает этапы эволюции искусства, а также - что кажется более существенным -разрывает герметичную сферу «эпического» бытования того или иного произведения и вводит категорию исторической протяженности, словно «выпрямляя» замкнутую линию, сменяя статику созерцания отдельной картины в мастерской или церкви на движение сквозь анфилады музея. Понятие «исторического» применительно к эстетическому сознанию раннего романтизма требует пояснений. Для первого поколения романтиков история еще одна сфера реализации индивидуальной творческой фантазии; события и факты поддаются вольной трактовке, часто - наслоениям всевозможных легенд. Но вместе с тем осознание полноты исторического процесса, проникновение объективной категории времени в идеальное «абсолютное» прошлое наглядно проявляет сущностные черты и свойства того или иного периода развития искусства и открывает возможность свободной интерпретации, создает ситуацию диалога. М. Бахтин пишет, что историчность как таковая, утрата «эпической дистанции» предопределяет участие «личного опыта, новых узнаваний, личной инициативы в понимании и истолковании, новых точек зрения и оценок» - все это, по его определению, «изменяющая и переосмысливающая человеческая активность».169
Принцип картины: «картина как окно» и живописное зрение
Говоря о картинном принципе организации гофмановского повествования, нельзя не упомянуть о позднем рассказе «Угловое окно» (1822), который, по выражению Детлефа Кремера «еще сильнее, чем «Фантазии...» или исторические рассказы серапионовых братьев определяются визуальными формами и картинными структурами».368 Рассказ построен как диалог между тяжело больным героем (в нем угадываются автобиографические черты Гофмана), который вынужден созерцать все происходящее на рыночной площади через окно своей квартиры, и кузеном, пришедшим его навестить. Известный еще со времен раннего Ренессанса постулат о картине как окне (Леоне Баттиста Альберта «О живописи»), сквозь которое зритель видит явления окружающего мира, всесторонне воплощается в «Угловом окне». Окно становится важнейшим композиционным приемом, своего рода картинной рамой, «заполняемой» живыми изображениями: легкими набросками общего движения на площади, тщательно «прорисованными» портретами и т.д. «Для меня...в этом зрелище сочетаются разнообразнейшие сцены городской жизни, и мое воображение не хуже мастера Калло или нашего современника Ходовецкого369 набрасывает эскизы один за другим, и контуры их порой довольно-таки смелы...Посмотрим, не удастся ли мне тебя научить хотя бы основам этого искусства -умению видеть (курсив мой - Е.И.)»т Приведенный отрывок недвусмысленно свидетельствует о том, что в рассказе речь идет о внутреннем видении, так сказать, умозрительной живописи, когда романтический художник улавливает подлинные черты предметов и явлений и пытается их зафиксировать - в данном случае посредством литературного слова. То, о чем говорит больной писатель своему кузену, есть нечто иное, как переформулированный «серапионовский принцип», призывающий к подлинному зрению, точнее - прозрению сущности, и «учитель» постепенно пытается донести до своего брата именно это умение. Когда «ученик» начинает всматриваться, он просто сосредотачивает взгляд, следит за одним выбранным из толпы персонажем, «учитель» же, не первый день наблюдающий за рыночной площадью, словно замедляет стремительный ритм визуальных впечатлений, добавляя им иное измерение: духовной глубины и внутренней завершенности.371 Не менее значимо упоминание имен реальных художников Калло и Ходовецкого, а также Хогарта (с. 216). Их присутствие в тексте мотивировано вовсе не внешним декоративным эффектом (как это свойственно многим раннеромантическим произведениям об искусстве и художнике), скорее наоборот: они играют в повествовании одну из первостепенных ролей, определяя два основных стилистических приема, использованных Гофманом в рассказе. Собственно текст строится как постоянная игра, динамичная смена общих планов и портретных изображений: «Я: Оглядывая весь рынок, я замечаю, какое живописное зрелище представляют возы с мукой, над которыми натянуто полотно: ведь глазу они служат как бы точкой опоры, вокруг которой пестрая масса расчленяется на четкие группы. Кузен: Что до белых возов с мукой..., то могу описать тебе и нечто противоположное. Дело в том, что мне недостает семейства угольщиков372...Представлю тебе членов этого семейства.
См. например, с. 215-217. 372 Данная цитата наглядно подтверждает мысль о живописном методе гофмановского повествования: читатель обретает внутреннюю картину, которая «пишется» у него на глазах. Сначала он «с высоты окна» видит открытые мешки с белой мукой, и вдруг появляется цветовая противоположность, причем не в действительности (угольщиков уже нет на прежнем месте), а в рассказе кузена. Таким образом, необходимость в живописном контрасте словно провоцирует историю о «странном горбатом человечке», продававшем уголь. Вообще, значение колорита в «Угловом окне» сложно переоценить: Гофман настойчиво на протяжении всего повествования оперирует различными цветовыми характеристиками. Здесь и «желтая точка» платка юной девушки, и красная шаль дочери советника финансов - шляпы, платья, башмачки, товар торговцев - все имеет свой цвет, позволяя читателю, подобно живописцу, создавать в своем воображении яркую, насыщенную картину из жизни городского рынка.
Один из них - высокий и сильный мужчина...с резкими чертами лица,
...порывистыми движениями...».
Представление общего плана городской площади восходит к давней традиции в европейской живописи, берущей свое начало в Нидерландах в конце 15 - нач. 16вв, продолжившейся в творчестве названных художников и ставшей «магистральной» линией искусства в начале 20 века. Вместе с тем Калло, Ходовецкий и Хогарт создали многочисленные портретные изображения - в данном случае речь идет об особом виде портрета, приближающемся по интенсивности прорисовки, утрированности черт к карикатуре. Гофмановские описания рыночного дня строятся на совмещении двух способов живописного зрения: «рассеивающего», охватывающего все происходящее целиком и предельно сконцентрированного, выявляющего мельчайшие физиогномические детали. Подобное сочетание предполагает не статичный, а активный, двигающийся взгляд, способный, подобно, кинокамере, то удаляться, то вновь приближаться, быстро переходя от одной сцены к другой, и необходимая визуальная динамика сообщается повествованию через регулярную смену живых картин; неслучайно Гофман вспоминает об orbis pictus (с. 217). Orbis pictus (лат. «мир в картинках») - название наглядного пособия для юношества, впервые употребленное Яном Амосом Коменским в его "Orbis sensualium pictus" etc. (Нюрнберг, 1658). Детлеф Кремер называет свою статью, в которой анализирует «Угловое окно», «Orbis pictus». Физиогномика и камеральные науки».
В отечественной и зарубежной германистике рассказ «Угловое окно» традиционно связывают с движением гофмановского творчества к реализму в нем распознают базовые элементы, на которых будет основываться реалистическая новеллистка 19 века - исчерпывающее бытописание, подробное представление «общественных нравов» и т.д. Более того - «Угловое окно» в силу отсутствия характерного для «классических» произведений Гофмана мощного фантастического начала, рассматривается как свидетельство тяготения позднего Гофмана к бидермайеру, к «успокоенному и уютному» творческому состоянию, не раздираемому противоречиями и драмами, вызванными осознанием несовместимости идеального и действительного мира. Однако, если более пристально присмотреться к последнему произведению Гофмана, то можно убедительно продемонстрировать, что «Угловое окно» - вовсе не первый реалистический текст, еще меньше в нем от прозы эпохи бидермайера.
Именно живописная природа гофмановского повествования, его сознательное намерение организовать текст таким образом, чтобы читатель смог получить целостный визуальный образ, наконец, формулировка (правда несколько измененная) «серапионовского принципа» указывают на то, что «Угловое окно» является одновременно продолжением и завершением избранной Гофманом писательской стратегии. Следует четко понимать, что подробные описания людей и событий на рыночной площади не сводимы к наивному отображению реалий, точному воспроизведению действительных очертаний. Мы видим перед собой далеко не реалистическую зарисовку, а результат непомерного визуально-внутреннего напряжения, когда смотрящий «прорывается» сквозь внешнюю оболочку, заостряя и даже утрируя отдельные черты, но только для того, чтобы сделать более очевидным внутреннюю сущность, выявить абсолютный смысл. Характерная особенность и прелесть манеры наблюдения кузена состоит в том, что при всей тщательности и избыточной конкретике представления (цвета, предметы) она обладает принципиально немиметической природой, а является актом субъективной, подчас фантасмагорической интерпретации. Ведь читатель не узнает ни одного достоверного, действительно объективного факта относительно тех персонажей, что оказываются на в «рыночный день» на площади. Он заведомо «имеет дело» с результатами наблюдения, вольными «додумываниями» и индивидуальными толкованиями. Показателен в этом отношении, например, эпизод, когда кузен, приметив некоего «экзотического персонажа» с ящиком в руках, предположил, что это - «старый учитель рисования», приспособивший старый ящик от красок в корзину для покупок. Его собеседник увидел в учителе рисования «добродушного пирожника-француза», с удовольствием от собственной выдумки, ловкого игрового пассажа воскликнув: «Вот как я мгновенно превратил учителя рисования, мерзкого циника-немца, в добродушного пирожника-француза, и думаю, что его внешность, весь его облик прекрасно соответствует подобному толкованию».