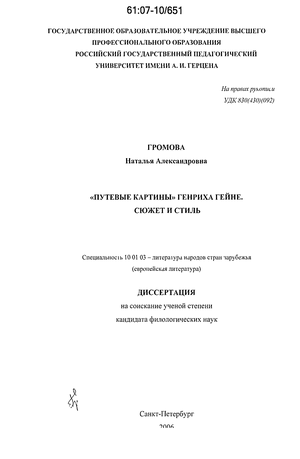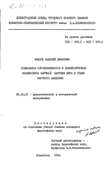Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА «ПУТЕВЫХ КАРТИН» 21
«Путешествие по Гарцу» 30
«Северное море» 38
«Идеи. Книга Ле Гран» 45
«Путешествие от Мюнхена до Генуи» 53
«Луккские воды» 61
«Город Лукка» 69
«Английские фрагменты» 78
ГЛАВА 2. ВНУТРЕННИЙ МИР «ПУТЕВЫХ КАРТИН» 85
«Путешествие по Гарцу» 86
«Северное море» 98
«Идеи. Книга Ле Гран» 107
«Путешествие от Мюнхена до Генуи» 118
«Луккские воды» 128
«Город Лукка» 138
«Английские фрагменты» 148
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 161
Введение к работе
Прозаическому наследию Генриха Гейне посвящено большое количество исследовательской литературы, как общего, так и специального характера. Однако многие проблемы поэтики его прозы до сих пор остаются нерешенными. В монографиях А.С. Дмитриева, А.И. Дейча, М.Л. Тройской, Ф.П. Шиллера, И. Мюллера, Х.Г. Аткинса и других отечественных и зарубежных ученых проводится анализ и дается характеристика всего творчества Гейне. Но вследствие жанрового и структурного разнообразия его наследия в научных исследованиях такого рода невозможным оказывается детальное рассмотрение каждого его аспекта. При этом внимание исследователей, как правило, сосредоточено на лирике Гейне, в то время как проза рассматривается в связи с его поэтической и публицистической практикой. Помимо монографий специфика прозы Гейне отдельно рассматривается в специальных статьях. Здесь следует назвать, например, работы В.И Грешных, Й. Мюллера, Дж Саммонса, М. Линка, И. Вайдекампф, затрагивающие отдельные аспекты «Путевых картин».
Анализ критической и научной литературы, посвященной «Путевым картинам» Генриха Гейне, позволяет выявить ключевые вопросы, которые стоят перед исследователем в этой области. Первый комплекс проблем касается жанровой природы произведения. Сама дефиниция и классификация путевого жанра (или травелога) осложняется тем, что в эту категорию попадают произведения как художественной, так и нехудожественной литературы. Так, М. Линк выделяет четыре жанровые разновидности травелога: 1) Путеводители; 2) Отчеты о путешествиях; 3) Дневники, записи, зарисовки, рассказы о путешествиях; 4) Путевые новеллы и романы (Link 1963, 7). Из приведенной классификации становится ясно, что данные произведения объединены только мотивом
путешествия как физического перемещения в пространстве, структурно же могут существенно различаться. Более того, специфика путевого очерка в значительной степени определяется традициями эпохи. Так, очевидно определенное различие между традициями отчета о путешествии XVII и XIX веков, не говоря уже о романе (см. об этом Тураев 1983, 60-62). В то же время само существование работ, посвященных путевой литературе, показывает, что жанр осознается как сложившийся и обладающий каноном и художественным потенциалом: «"Путешествие" - не подборка разножанрового материала, а произведение, в основе которого лежит то, чего нет в других жанрах, принцип <...> панорамы, творцом которой является очевидец. <...> Части произведения неотъемлемы друг от друга и составляют органичное целое» (Маслова1980,24).
Согласно классификации Линка, «Пугевые картины» Гейне можно отнести к третьей группе, наиболее широкой и неоднородной. Произведения этой жанровой разновидности предполагают опору на реальное путешествие, но при этом доля субъективности в них может быть так велика, что они превращаются в художественные произведения, не отрицающие наличие художественного вымысла. При обращении к такому жанру писатель приобретает возможность широкого выбора приемов и художественных средств, - возможность, которая активно реализуется у Гейне.
«Путевые картины» оказывается трудно рассмотреть как целое в результате объединения в одну книгу очень непохожих в стилистическом, идеологическом, фабульном и структурном отношении произведений. На протяжении повествования жанровые законы постоянно меняются, в одном тексте соединяются разные подвиды путешествия, возникает сложное динамическое соотношение жанра и материала: «Используя, а чаще пародируя традиционные приемы, темы путевых очерков предшественников, Гейне создает новую жанровую разновидность
очерка» (Барашкова 1982, 13). Свободное обращение писателя с жанровой традицией позволяет некоторым исследователям изучать это произведение в ряду публицистических работ писателя, а некоторым -вообще отказываться рассматривать «Путевые картины» в рамках путевого очерка: «"Путевые картины" Гейне в историко-литературном отношении стоят рядом с линейно организованными путевыми очерками, однако они выбиваются из традиции благодаря своеобразной организации повествования, при которой путешествие является не самоцелью <...>, а способом наблюдения и разворачивания рассказа» (Arendt 1970, 41).
В связи с этим исследование «Путевых картин» не может исходить из их жанровой природы как из некоей данности. Напротив, последняя должна быть выявлена и подтверждена анализом законов внутренней организации художественного гекста. Отсутствие внимания к особенностям художественной формы «Путевых картин» оборачивается невозможностью рассмотреть их как единое целое; создается впечатление чисто механического объединения их под одним заголовком на формальном основании. Об этом свидетельствует тот факт, что во многих исследовательских работах отдельные «Картины» анализируются вне контекста или в иной последовательности, чем они представлены у Гейне (Galley 1961, Oesterle 1972). В то же время в ряде других работ некоторые из них («Северное море», «Английские фрагменты») ставятся в один ряд с публицистическими произведениями писателя (Bernhard 1961). Каждое произведение, организованное в соответствии с избранным «жанровым законом», предстает замкнутым в себе. «Путешествие по Гарцу» и «Путешествия от Мюнхена до Генуи» характеризуются как путевой очерк, «Северное море» и «Английские фрагменты» - как очерки публицистические, «Луккские воды» - как фрагмент путевого романа, «Идеи. Книга Ле Гран» - как фрагмент мемуаров. В этом случае затруднен анализ взаимодействия этих произведений между собой. Однако при рассмотрении жанра как элемента внутренней структуры произведения,
6 который видоизменяется в ходе повествования, можно выявить те общие законы соотношения текста с жанровыми категориями, которые создают его внутреннюю связь.
В то же время сама история создания произведения свидетельствует о существовании единого авторского замысла, о работе над «Путевыми картинами» как над целой книгой. Об этом говорит включение в последний том «Английских фрагментов» и исключении «Писем из Берлина». При проведении параллели с поэтическим творчеством Гейне возникает мысль о возможности сопоставления «Путевых картин» и «Книги песен» как прозаического и поэтического циклов. Теоретически понятие цикла в основном, разработано для лирики. Опираясь на работу X. Мастэрд «Лирический цикл в немецкой литературе», исследователи выделяют основные признаки цикла: целостность и независимость каждого из произведений, с одной стороны, и целостность цикла, возникающая в результате взаимодействия этих произведений, с другой стороны (Mustard 1946). Циклы в известной степени варьируются в зависимости от истории их создания и авторской заданности (Ляпина 1999). Теория циклизации для прозы разработана хуже и касается в первую очередь циклов новелл и рассказов. В то же время эпос демонстрирует более сложные взаимоотношения между циклом и отдельным произведением, нежели лирика. «Сравнивая структуры больших и малых эпических форм, мы замечаем определенное родство между ними, которое проявляется, между прочим, и во встречных тенденциях жанрообразования: первые членятся на фрагменты - жанры -вплоть до такого предела, на котором произведение кажется "циклом" <...>, вторые <...> действительно объединяются в циклы, образуя в результате некое подобие большой формы» (Тамарченко 2003, 239-240)
«Путевые картины» представляют собой более сложное взаимодействие части и целого, чем новеллистический цикл. Во-первых, разные произведения характеризуются разной степенью независимости.
Так, вся итальянская часть произведения связана хронологически и фабульно, в то время как «Путешествие по Гарцу», например, может восприниматься как отдельный текст. Несмотря на это, открытость текста, возможность включения его в широкий контекст не только творчества Г. Гейне, но и литературы в целом характерна для каждой «Картины» и является структурной особенностью произведения. Кроме тої о, как будет показано в данной работе, «Путевые картины» обладают внутренним единством, обеспечивающимся внутренней динамикой текста на структурном и образном уровне. Они представляют собой не столько разные вариации избранного конфликта или темы, сколько единое повествование, обладающее общим сюжетом.
Некоторые исследователи принимают подобную точку зрения и рассматривают «Путевые картины» как целое, но часто исходят из этой целостности как из данности, не анализируя механизмы ее обеспечения (Altenhofer). Существуют и исследования «Путевых картин» как целого. Т.П. Савченкова рассматривает взаимодействие в нем языков разных видов искусств и объясняет последовательность объединения произведений сменой этих языков: «Вслед за йенскими романтиками и Гофманом автор «Путевых картин» также утверждает в своей художественной практике принципы романтического синтеза. Творчество Гейне предоставляет немало примеров транспозиции пластических и музыкальных образов на язык художественного слова» (Савченкова 1988, 3). Подобный подход представляется весьма продуктивным, однако он требует разработки на разных уровнях произведения. Не только языковые и изобразительные особенности, но и композиционно-сюжетная организация доказывает целостный характер построения «Путевых картин».
Целью данного исследования станет решение вопроса о целостности «Путевых картин». Целостность как теоретическая проблема представляет интерес для литературоведения, к ней обращаются многие исследователи.
М. М. Гиршман в своей работе противопоставляет понятие целостности таким понятиям, как цельность, системность, завершенность и связность, выдвигаемым структуралистами, и пишет о том, что «если целостность ориентирована на полноту бытия, "мировую целокупность", то осуществляется эта полнота только во множестве различных целых, "имеющих начало, середину и конец"» (Гиршман 1982, 47). Подобное противопоставление чрезвычайно значимо для нашего исследования, поскольку косвенно сближается с романтической трактовкой жанра фрагмента. Сам Гейне в «Путевых картинах» использует потенциал этого жанра, что позволяет говорить о некоторых его произведениях как о фрагментах (Грешных 1991). В то же время, большинство произведений, входящих в исследуемую книгу, являются внутренне завершенными. Гейне не создает жанр фрагмента, но пользуется его чертами в своих целях, подобно тому, как пользуется традициями других жанров. Наделяя свои произведения признаками фрагмента, он дет возможным объединение их в художественную целостность высшего порядка.
Говоря о способах создания художественной целостности, Гиршман выделяет три структурных слоя произведения: ритм, сюжет и герой (Гиршман 1982, 93). Все эти три категории рассматриваются как реализация стиля, охватывающего диалекіическое единство предмета и высказывания о предмете. Стиль рождается на стыке индивидуального метода и традиции жанра. Таким образом, применительно к «Путевым картинам» с их сложным соотношением с жанровой традицией, стиль обретает особую важность.
Проблема творческого метода Гейне также представляется неоднозначной. Вопрос об отношении Гейне к традиции как культурному феномену возникает при каждом обращении к его творчеству. Анализируя «Путевые картины», все исследователи говорят об этом произведении как о новаторском во всех смыслах. Однако каждый раз традиция, от которой отталкивается Гейне, определяется по-разному. Так, И. Мюллер и Т.П.
Савченкова рассматривают «Путевые картины» как романтическое произведение, развивающее основные проблемы романтизма и отталкивающееся от литературы 18 века. Грешных характеризует метод Гейне следующим образом: «Творчество Г. Гейне в системе национальной культуры романтизма Германии первой половины XIX века - это инакомыслящий романтизм: его романтическое сознание противостоит романтическому сознанию эпохи» (Грешных 1995, 52). А.И. Дейч, И.А. Гофман, М. Линк, И. Вайдекампф, напротив, говорят о полемике Гейне с предшествующей романтической традицией, о преодолении ее в новой художественной форме: «Хотя для Гейне мечта сохраняет высокую ценность и внутренний интерес, который привнесла в нее романтика, этот интерес имеет иную природу и иную цель <...> Его понимание сущности и значения мечты едва ли позволяют почувствовать какой-либо метафизический смысл, который в нею вкладывали романтики» (Weidekampf 1932, 28). А.И. Дейч утверждает, что «основой содержания его прозы стало антиромантическое изображение действительности» (Дейч 1987, 396). В работе Г.М. Васильевой доказывается близость прозы Гейне традициям французских моралистов: «Критическая тема в произведениях Гейне разрабатывается в формах, особенно близких моралистическим жанрам. Атрибутом образного мышления выступают при этом афористичность и фрагментарность, полемически противопоставленная научной системе; философские медитации в форме письма и дневника; введение небольших сюжетных отрывков типа притч для философского доказательства, сатирические портреты, тексты, диалоги» (Васильева 1987, 88) Наконец, в работах С.Н. Барашковой, Д. Бреха традиция представлена в структурном, а не стилистически-идеологическом аспекте. Исследователи говорят о новаторстве «Путевых картин» по отношению к предшествующим и современным Гейне путевым заметкам, путешествиям, как классической, так и романтической эпохи.
Последний подход представляется более продуктивным, поскольку многочисленные исследования убедительно доказали связь прозы Гейне как с разнообразными литературными традициями, так и с отдельными писателями. Можно согласиться с мнением о «модернизме» Гейне по отношению к литературе в целом (Martini 1984, 153) и утверждать, что Гейне в своей прозе не чувствовал себя ограниченным какими-либо сложившимися рамками и свободно использовал художественные приемы, характерные для разных эпох и направлений в искусстве в зависимости от собственных задач. Таким образом, и исследователь не может не учесть этой особенности «Путевых картин», сведя их к какому-либо одному методу. Закономерности проявления в тексте приемов разных традиций, причины и результаты их взаимодействия должны сами по себе стать предметом анализа.
Исследования, выполненные в таком ключе, также многочисленны и многообразны. Не определяя метода Гейне, они посвящены поиску и анализу традиций разных стилей и индивидуальностей у Гейне. Влияние немецкого романтического путевого очерка исследуется в работах Бреха, Вайдекампф, Барашковой. Существуют многочисленные исследования, посвященные связям прозы Гейне с (Жан Полем) Рихтером, Л. Стерном, французскими романтиками, Э.Т.А. Гофманом, В. Ирвингом. Список авторов можно продолжить, помимо всего прочего, включением в него образцов нехудожественной литературы. Действительно, «Путевые картины» наполнены скрытыми и явными цитатами из различных произведений художественной, научной, публицистической литературы. Однако нельзя не учитывать, что все эти цитаты используются писателем для достижения определенной художественной цели, а не в качестве самоценного материала.
Таким образом, творческий метод Гейне, подобно вопросу о жанровой природе «Путевых картин», не может служить основой для анализа произведения. Использование писателем того или иного стиля в
11 качестве своеобразного претекста еще не служит доказательством принадлежности к этому стилю всего произведения.
Работы, описывающие заимовования Гейне из других авторов, имеют, таким образом, существенный недостаток. Как правило, каждая работа посвящена анализу связей «Путевых каршн» с художественной практикой лишь одною автора. Между тем, само обилие заимствований указывает на системный характер этого явления. Циіатьі из различных писателей и эпох, входя в произведение Гейне и оказываясь в соседстве с другими цитатами, изменяют свое значение, приобретают дополнительные смыслы. В подобном случае важен не столько сам факт заимствования, сколько те отношения диалога, которые возникают в тексіе за счет этого заимствования. Кроме того, необходимо учитывать изменение природы цитат даже из одного источника на протяжении повествования. Связи с предшественниками в тексте «Путевых картин» проявляются как на уровне открытого упоминания в тексте, так и в более скрытой форме: в качестве мотива, ситуации на сюжетном уровне, в качестве стилизации, при создании образа персонажа. Смена вида заимствований носит системный характер, и закономерности этих смен даже при анализе связей с одним автором должны учитываться при анализе.
Если эти аспекты межтекстовых связей произведения остаются без внимания, «Путевые картины» предстают набором цитат, призванным выразить политические, философские, эстетические взгляды автора. Не случайно многие исследования рассматривают их как произведение публицистического характера: «То же контрастное строение, те же переломы настроения, тот же блеск словесной игры и пафос высокого лиризма свойственны и прозе Гейне. <...> В больших вещах Гейне ("Reisebilder") объединение достигается чисто внешне - формой путешествия, единством личности рассказчика. <...> Так разбивая унаследованное деление художественной и нехудожественной прозы,
Гейне создает из соединения их элементов новую форму - форму фельетона» (Шиллер, Шор, Лаврецкий 1931, 22). И. Мюллер также отказывает «Путевым картинам» в единстве: «В большинстве прозаических произведений Гейне встречаются эпические черты, <...> а также лирические отступления. Основные формы: сообщение, рассказ, полемика - воплощаются в повествовательных участках, которые, однако, не интегрируются в единое художественное целое. Это означает не ценностную позицию, а поэтическую констатацию: в распоряжении писателя, которым рано почувствовал себя Гейне, есть многочисленные формы выражения, которыми он пользуется в зависимости от ситуации, случая и темы» (Miiller 1975, 5). Подобная точка зрения - следствие отсутствия анализа художественной формы, сюжета, композиции, повествовательных инстанций. В результате исчезает представление об организованности материала, о его художес і венной целостности. Художественная форма изучается в основном в области стиля, языка (работы А.В. Сергиенко, А. Векмюллер, В.Н. Сысолятина). При этом, признавая единство стиля и целостность произведения, многие исследователи не описывают механизмы создания этого единства, как правило, сводя его к авторскому сознанию: «Весь этот разнородный материал пронизывает единство авторского отношения к действительности, сочетающего в себе глубокий лиризм, богатую фантазию и острую насмешку» (Сысолятина 1988, 114).
Таким образом, вопросы внутренней организации произведения являются центральными и при решении вопроса об отношении Генриха Гейне к традиции, о месте «Путевых картин» в истории литературы, в развитии прозаических форм. Эту проблему, как и проблему жанра, надо решать, отталкиваясь от художественных законов произведения, а не от внешних факторов.
Наконец, принципиальным применительно к «Путевым картинам» представляется вопрос о форме повествования, о степени проявленности в
тексіе авторского голоса. Форма повествования от первого лица, а также введение в текст деталей, касающихся биографии, литературных и философских взглядов самого Гейне часто вводит исследователей в заблуждение и заставляет отождествлять «я» повествования с писателем. Подобная позиция в значительной степени искажает концепцию произведения, поскольку, в отличие от научного путевого очерка (популярного жанра конца 18 - начала 19 вв.), с одной стороны, и публицистических произведений самого Гейне, с другой, «Путевые картины» являются художественным произведением с высокой степенью вымысла, который неоднократно подчеркивается в тексте. Непосредственно после выхода «Пуіешествия по Гарцу» читателей потрясала документальная точность описаний, узнаваемость персонажей: «Произошло ю «оживание» персонажей за пределами книги, с которым Гейне постоянно приходилось иметь дело позднее» (Берковский 1957, 445). Однако при всей точности деіалей, создаваемая Гейне модель мира соотносится с реальным миром очень условно. Анализируя «Книгу Ле Гран», в которой наиболее силен автобиографический элемент, Дж. Саммонс пишет: «"Книга Ле Гран" содержит биографию вымышленной личности, и рассказывается она вымышленной личностью» (Sammons 1975, 314-315). Природа рассказчика отождествляется исследователем с природой лирического героя «Книги несен». Эту параллель можно распространить на все «Путевые картины», где реальность предстает в форме мифа (см. Peters 1984). Подчеркнутая реалистичность изображаемого постоянно вступает в противоречие с обилием литературных цитат. Можно утверждать, что каждый эпизод «Путешествия по Гарцу» легко проецировался как на событие или факт окружающего мира, так и на определенный литературный прием или стереотип. Биографизм и цитатность «Путевых картин» - явления одного структурного уровня и при всем их различии выполняют одинаковую функцию внутри художественного целого.
Таким образом, при исследовании «Путевых картин» необходимо исходить из внутренних законов построения самого текс і а, выделения тех особенностей, которые, с одной стороны, отграничивают его от нехудожественной традиции в творчестве писателя, а с другой -объединяют все части «Путевых картин» в единое целое. Представляется, что выявление этих закономерностей требует обращения к вопросу о сюжете данного произведения.
Актуальность исследования определяется тем, что вопрос о сюжете «Путевых картин» остается практически неисследованным в научной литературе, посвященной творчеству Гейне в силу ряда объективных причин. Во-первых, само понятие сюжета в современном литературоведении представляется спорным и допускает разные толкования. Во-вторых, сам жанр путевых заметок предполагает особый тип сюжета. Для адекватного анализа этого аспекта «Путешествия по Гарцу» необходимо сначала определить само понятие сюжета и ею специфику в жанре путевых заметок.
Современное литературоведение часто употребляет термин сюжет, не разъясняя его значения, или использует его в качестве обозначения событийного ряда произведения. Не вызывает сомнения, что применительно к «Путевым картинам» такое понимание сюжета оказывается некорректным. Именно для этого жанра особенно актуальным становится разграничение понятий фабулы как событийно-хронологической основы текста и сюжета как способа ее реализации. Принято считать, что фабула путевых заметок определяется логикой пути, то есть внетекстовой реальностью. Однако не следует забывать мысль Бахтина о том, что фабула является такой же художественной конструкцией, как и сюжет. В путевых заметках проблема отбора реальных событий выходит на первый план, поскольку при подчеркнутой реалистичности этого жанра многое в нем определяется точкой зрения и
позицией повесівователя. Именно путевые заметки предоставляют повествователю наиболее полную свободу в организации и подаче материала. Таким образом, можно утверждать, что фабула «Путевых картин» рождается из сложного взаимодействия между объективной действительностью и субъективной установкой автора. В этом «Путевые картины» Гейне не отличаются от других произведений подобного жанра. Специфику этой книги следует искать в особенностях образа повествователя.
Сложнее обсюит дело с разграничением понятий сюжета и композиций. Данная работа будет исходить из понимания сюжета, предложенного Ю.Н. Тыняновым. Он определяет сюжет как «общую динамику вещи, которая складывается из взаимодействия между движениями фабулы и движением - нарастанием и спадами стилевых масс» (Тынянов 1977, 325). Иными словами, сюжет возникает из наложения на событийную канву произведения композиционных приемов. Если с точки зрения фабулы событием может стать действие, ведущее к изменению исходной ситуации, сложившихся отношений, то событием композиционного уровня является смена действия описательным отступлением, появление иронии или введение в повествование чужого голоса в виде цитаты или несобственно-прямой речи персонажа. Сюжетным же событием будет взаимодействие отобранного материала с приемом, выбор определенного способа описания для объекта описания.
Не случайно вопрос о сюжете в связи с Гейне часто заменяется вопросом о взаимодействии в тексте разных стилистических манер. Даже исследования, дающие детальный анализ структуры текста, не поднимают вопрос о его сюжетной организации, объясняя движение произведения сменой контрастных явлений (двух миров, двух стилистических пластов и т.д.). Однако подобный подход лишает «Путевые картины» динамики, присущей произведениям такого жанра, превращает их в некую статичную систему, где заданные в самом начале законы сохраняются до
16
самого конца, в текст, постоянно колеблющийся между двумя мирами. В
связи с этим именно обращение к сюжетным особенностям при анализе
данного произведения может оказаться продуктивным. Сюжет - элемент
внутренней организации художественного текста. Сосредоточив на нем
внимание, можно рассматривать текст как особое явление, создающее
собственный мир, отличный от любого другого. При этом надтекстовые
факторы как литературного (жанр, традиция, автор), так и
внелитературного (философские, идеологические взгляды,
биографические и исторические обстоятельства) порядка будут важны в той степени, в которой они преломляются в тексте, определяя сюжет. В то же время сюжет соотносится с такими важными в данном случае категориями, как стиль, жанр, композиция, повествовательные инстанции. Решая проблемы сюжетной организации произведения, мы сможем ответить на многие вопросы, связанные с этими его аспектами. Рассмотрение цитат различного вида не как отсылки к определенной традиции, а как сюжетных мотивов, тем или иным способом организующих действие, позволит в большей степени сосредоточиться на их функциях и взаимодействии. Кроме того, выделение устойчивых мотивов разных уровней и рассмотрение их трансформации как внутри отдельных произведений, так и в «Путевых картинах» в целом позволит в дальнейшем решить вопрос о способах создания единства произведения. Кроме того, избранный Гейне тип сюжета не отменяет вопрос о наличии в тексте фабулы. В настоящей работе мы проследим, как «загаданная» фабула постепенно раскрывается перед читателем и как композиция обеспечивает ее раскрытие.
В сферу композиции входят несколько элементов. Во-первых, жанр путевых заметок актуализирует пространственно-временные характеристики произведения. Сюжет в «Путевых картинах» определяется передвижением героя в пространстве, но пространство, как будет показано в ходе исследования, может подаваться и как реально-
географическое, и как литературно-идеологическое. Движение героя представляет собой переход ею из одного мира в другой, каждый из которых обладает своими законами. Аналогично и время выступает в тексте в нескольких аспектах - реально-историческом, мифологическом, личностном и т.д. Каждый раз время оказывается тесно связанным с пространством повествования. Выявление закономерности смены пространственно-временных характеристик внутреннего мира произведения позволит исследовать его фабульно-сюжетные особенности.
Второй вопрос, связанный с композицией «Путешествия по Гарцу» - вопрос о сквозных и символических образах. Каждый мир, в котором оказывается герой, имеет как свою стилистическую доминанту, так и доминанту тематическую, реализующуюся в определенном образе. Кроме того, повествование пронизывают повторяющиеся образы. Сюжетное движение обеспечивается, кроме всего прочего, сменой семантики таких образов.
Наконец, третий аспект композиции, представляющийся принципиальным для прозы Гейне - это специфика повествовательной организации произведения. В современном литературоведении вопрос о нарративной структуре художественного произведения является одним из наиболее важных. Однако большое количество работ, посвященных этой проблеме, множество классификаций, предлагаемых исследователями, часто вызывает терминологическую путаницу. Кроме того, предметом внимания исследователей становятся в основном такие жанры, как роман, новелла, рассказ. Жанр путевых заметок предполагает особый тип нарратива, который остается мало изученным.
Еще одна сложность, возникающая при анализе повествовательной структуры «Путевых картин», обусловлена специфическим взаимодействием автора, повествователя и героя в жанре путевых заметок. Сама природа жанра предполагает большую степень сближения автора и повествователя, сопоставимую с публицистической: «Здесь писателю не
пришлось дистанцироваться от своей личности, - как в романе, <...> напротив, он мог говорить от собственного лица, мог вводить объективное описание по собственному желанию и добавлять от себя то, чего не включает собственно путевой сюжет - размышления о книгах, личностях, политике, прошлом и будущем» (Kaufmann 1967, 148). Однако нам представляется не совсем оправданным мнение о том, что «главный герой - сам поэт с его мыслями и чувствами» (Сысолятина 1988, 114). Действительно, мы встречаемся здесь с типом повествователя-писателя, поскольку «при одном, едином и единственном участнике не может быгь эстетического события. <...> Эстетическое событие может совершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания» (Бахтин 1986, 25). Однако, как отмечает Н.А. Кожевникова, «повествователь-писатель - уже не тот всезнающий автор, образ которого создается в произведении, он становится таким же ограниченным в своих возможностях, как и любой другой конкретный повествователь» (Кожевникова 1994, 141). Применительно к исследуемому жанру, можно утверждать, что он становится и в позицию персонажа, поскольку с ним связано развитие фабулы.
Вопрос о природе повествовательного «я» «Путевых картин», таким образом, пока остается открытым. Цель исследования - показать, как в ходе развертывания повествования осуществляется изменение позиции «я», его знания об описываемом мире и о себе и его функции в тексте. В результате текст, который по своей изначальной установке должен быть монологическим, включает многообразные точки зрения. Именно их пересечение рождает своеобразную иронию, характерную для прозы Гейне. Кроме того, противоречие или гармония между этими голосами обеспечивают особый конфликт в таком своеобразном литературном жанре как путевые заметки.
Итак, объектом настоящего исследования являются «Путевые картины» Генриха Гейне, а целью - решение вопроса о единстве данного
произведения и установлении механизма обеспечения этого единства. Предметом исследования стал сюжег произведения как категория, обеспечивающая организованную динамику фабульных мотивов и композиционно-стилисгических приемов. Для достижения нашей цели было необходимо решение следующих задач:
1) Анализ взаимодействия в тексте фабулы и композиционных
приемов путем
установления и сопоставления фабулы отдельных произведений, входящих в «Путевые картины»;
разграничения понятий внешней (определяемой путешествием) и внутренней (связанной с героем) фабулы и рассмотрения их роли в каждом отдельном произведении и на протяжении всей книги;
анализа жанровых традиций произведения и степени их активности, исследования в тексте соотношения реального и жанрово обусловленною материала;
исследования повествовательной организации текста, природы избираемых повествовательных инстанций и их взаимодействия;
определения взаимодейсівия в тексте своей и чужой точек зрения, речи рассказчика и речи персонажа, отношений повествователя и читателя;
решения вопроса о фрагментарности и целостности каждого произведения и книги в целом.
2) Характеристика внутреннего мира «Путевых картин» и
рассмотрение в тексте
категорий пространства и времени;
сквозных образов и тем, а также их интерпретации в отдельных «Путевых картинах»;
образа героя в связи с образом рассказчика и других персонажей;
динамики изменения этих структур на протяжении всего произведения.
Новизна настоящего исследования состоит в том, что в нем эти вопросы впервые рассматриваются в комплексе и на материале всего произведения, а не отдельных ею частей, в том порядке, в котором последние включены в «Путевые картины». Связи книги с произведениями как самого Генриха Гейне, так и других авторов, в достаточной степени изученные литературоведением, рассматривались только с точки зрения их влияния на сюжет «Путевых картин», но не составляли самостоятельной цели исследования. То же относится к вопросам автобиографичности текста и его новаторства по отношению к традиции.
Методологической основой исследования послужила теория сюжета, разработанная отечественными литературоведами, прежде всего Ю.Н. Тыняновым, а также работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные теории нарратива (Б.А. Успенский, Е.В. Падучева, Ж. Женетт).
Задачи исследования определили структуру работы, состоящей из двух глав. Первая глава - «Повествовательная структура "Путевых картин"» - посвящена рассмотрению фабулы и композиции книги. Вторая глава - «Внутренний мир "Путевых картин"» - описывает образі ый строй произведения в ею динамике. Главы в известной степени перекликаются друг с другом, позволяя рассмотреть каждую категорию текста с двух сторон: с точки зрения ее участия в фабульном и композиционном движении текста и с точки зрения ее роли в создании внутреннего мира произведения. В заключении работы делается вывод о решении центральной проблемы исследования.
«Северное море»
«Северное море» написано от лица рассказчика, на первый взгляд, следующего законам публицистического произведения, причем не столько путевого очерка, сколько очерка нравоописательного. Особенно это характерно для его первых эпизодов. Текст явно ориентирован на письменную ірадицию, и целью рассказчика является сообщение читателю определенного знания о нравах и обычаях местного населения. Однако эта цель демонстративно не соответствует отбираемому материалу и потому вызывает эффект пародийности. Рассказчик сообщает читателю о своих незначительных действиях, его наблюдения носят случайный характер, не создают целостной картины. С самого начала рассказчик представляет исключительно субъективную точку зрения на мир, полемизирует с общим мнением. В тексте встречаются парадоксы: «Я выстрелил в чаек ... Но выстрел оказался неудачным, и я имел несчастье застрелить молодую чайку» [80]. Речь строится по ассоциативному принципу, рассуждения обобщающего характера перемежаются упоминаниями о незначительных фактах, композиция носит нарочито случайный характер, словно выстраиваясь по произволу пишущего. Рассказчик не чувствует необходимости доказывать свое мнение, подкреплять его фактами, напротив, он добивается не столько доверия читателя к получаемой информации, сколько эмоционального сочувствия, сходных оценок. В тексте с самого начала создается образ сочувствующего читателя, который зависит от повествователя.
Текст «Северного моря», таким образом, сближается с жанровыми законами свободного эссе, к которым в эту же эпоху обращаются, например, «лондонские» романтики. Цель такого эссе «не сводится к изложению новых сведений, к выяснению окончательной истины. Эссе выражает личность автора, его восприятие действительности, его мысли и переживания, обращается не столько к рассудку читателей, сколько к их эмоциям, вызывая у них сочувствие авторской точке зрения» (Дьяконова 1981, 186). Именно раскрытие личности повествователя, его субъективного взгляда на мир привлекало писателей к данному жанру в эпоху романтизма. Несмотря на то, что между пишущим и читающим здесь должен вестись своеобразный диалог, авторский голос имеет при этом решающее значение, поскольку он ничем не ограничен. В отличие от путевого очерка, где предел авторской свободе положен наличием фабулы путешествия, где повествователь должен следовать за хронологическим развертыванием пути, субъективная точка зрения эссеиста не локализована в пространстве и времени. Он может свободно перемещаться от одной темы к другой и пользоваться неограниченным материалом.
С точки зрения авторской позиции, между жанровыми традициями эссе и путевого очерка не существует непреодолимой границы, что позволяет некоторым исследователям говорить о «Северном море» как о «путевом эссе» (Link 1963, 170). И тот, и другой жанры находятся между художественной и нехудожественной литературой и могут включать приемы, характерные для обеих форм. В обоих жанрах фигура рассказчика занимает центральное место, организуя материал в зависимости от избранной задачи, часто для иллюстрации авторских идей. И в путевом очерке, и в эссе точка зрения повествователя на мир оказывается единственно возможной для читателя.
Зависимость точки зрения читателя от точки зрения рассказчика обеспечивается не только на фабульном, но и на композиционном уровне: в тексте не представлено иною взгляда, помимо взгляда повествователя. В отличие от «Путешествия по Гарцу», в «Северном море» нет персонажей, которые бы прямо высказывали свои мнения, не совпадающие с взглядами рассказчика. Здесь нет персонажей как таковых, нет характеров или хотя бы ярких образов, местные жители и отдыхающие описываются не как личности, а как представители той или иной социальной группы и носители какой-либо системы взглядов. Они не получают права голоса: прямая речь в тексте чрезвычайно редка и представлена в форме цитаты. При этом цитаты из литературных произведений и слова, взятые из устной речи, уравниваются в правах. Они по большей части носят не идеологический, а информативный характер (например, рассказ штурмана корабля). Если в первой части «Путевых картин» чужая точка зрения присутствовала в самой речи рассказчика, то в «Северном море» между ними существует четкая граница. Чужая точка зрения служит своеобразной движущей силой повествования, она вызывает определенную реакцию рассказчика, направляет его рассуждения. Потому ирония, возникающая из несовпадения в речи двух точек зрения, всегда открыта читателю, лежит на поверхности, это не романтическая ирония, лежащая в основе художественного мира произведения, а скорее классическая ирония, используемая как публицистический прием.
Более того, в отличие от «Путешествия по Гарцу», голос рассказчика в анализируемом произведении характеризуется единством и монологичностью. Свободное обращение с повествовательными инстанциями, характерное для предыдущей книги, заменяется здесь свободой в построении повествования. Рассказчик стоит над материалом, организуя его, как кажется, по своему произволу. То, что текст строится по ассоциаіивному принципу, неоднократно подчеркивается в самом произведении в автокомментариях рассказчика. Рассказчик обретает полную независимость от читателя. Даже если в тексте появляется обращение к читателю, то оно носит риторический харакіер: это публицистические «мы» и «вы», не предполагающие реального диалога, а напротив, отождествляющие адресата с адресантом. Местоимение «мы» появляется в философских, научных, моралистических рассуждениях рассказчика и обусловлено требованиями стиля.
В «Северном море» «я» повествования всегда однородно, поскольку рассказчик не включен в фабулу. Во-первых, вопреки традиции путевого очерка, в тексте «отсутствует путешествие как движение. Развитие сюжета обусловлено движение мысли, которая охватывает явления жизни в ее противоречиях и контрастах» (Грешных 1991, 37). Во-вторых, рассказчик не вступает во взаимодействие с другими персонажами и не стремится к какой-либо цели. На протяжении повествования его образ не получает развития, занимает одинаковую позицию по отношению к материалу и не претерпевает внутреннего изменения, которое происходило с этим образом в «Путешествии по Гарцу».
Однако мы можем отметить некоторые черты, роднящие его с рассказчиком последнего произведения. Он, как и в первом случае, заимствуется из всего творчества Гейне и в какой-то степени сближается с биографической личностью писателя. На этот раз это происходит уже не вследствие введения в текст биографических деталей. Вторая часть «Путевых картин» носит то же название, что и поэтический цикл Гейне, они были опубликованы вместе и представляют собой своеобразный диптих. Более того, некоторые законы построения обоих произведений совпадают. Для обоих текстов характерна объективизация сознания «я» в природе, ироническое разрешение темы в финале, игра лирического героя с читателем (см. об этом Дарвин 1983). Композиционная симметричность прозаического «Северного моря», отмечаемая исследователями (Betz 1971, 120-121), может быть соотнесена с композиционной симметричностью поэтического цикла. Подобно тому, как в первой части «Путевых картин» рассказчик изначально отождествлялся с Генрихом Гейне (не столько с биографической личностью, сколько с поэтом) и вследствие этого с лирическим героем его стихотворений, так и в этом случае рассказчик соотносится с лирическим героем стихотворного цикла «Северною моря». Это своеобразное «заимствование» рассказчика возможно в жанре путевых заметок. Аналогичным приемом пользуется Л. Стерн в «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии», заимствуя фигуру пастора Йорика из «Жизни и мнений Тристрама Шенди». В то же время данный прием способствует размыканию границ текста, введению его в более широкий контекст, на этот раз - в контекст творчества Гейне.
Однако отождествление рассказчика прозаического «Северного моря» с лирическим героем стихотворного цикла возможно только в контексіе. В самом тексте мы не встречаем взаимодействия прозы с лирикой, повествователь не выступает как поэт. Его сближение с лирическим героем и рассказчиком «Путешествия по Гарцу» наделяет его потенциальной диалогичное і ью, которая не реализуется в пределах данного текста, но возможна при выходе за его пределы.
Таким образом, голос рассказчика в «Северном море» характеризуется единством. Однако он не ограничивается одним стилистическим пластом. В некоторых эпизодах мы наблюдаем отступление от повествовательной формы очерка. Это эпизоды, связанные с пейзажем и описанием чувств рассказчика. Они стилистически отличаются от основного текста, приближаются к лирике: проза становится ритмичной, насыщается повторами и рефренами: «Волны бормочут тогда всякие чудесные вещи, всякие слова, вокруг которых порхают милые сердцу воспоминания, всякие имена, звучащие в душе сладостными предчувствиями» [79]. Здесь рассказчик еще более монологичен, его субъективность достигает предела, его признания адресованы не читателю, а душе, природе, мирозданию. И если основная часть повествования, как уже упоминалось выше, ассоциативна и основывается на произволе рассказчика, то лирические отступления выглядят программными, заданными, оперируют основными романтическими образами и средствами выразительности, развивают традиционную концепцию поэта. Таким образом, «очерковая» и «лирическая» части текста находятся в некоторой оппозиции. Примечательно, что публицистический материал подается в ассоциативной манере, в то время как лирические фрагменты подчеркнуто логичны. В «Северном море» сохраняется уже отмеченное взаимодействие двух типов сознания: логического и ассоциативного, но здесь оно реализуется не на композиционно-фабульном, а только на стилистическом уровне.
«Путешествие по Гарцу»
Центральными образно-тематическими комплексами «Путешествия по Гарцу», встречающимися на протяжении всего текста, являются: вода, свет, время, природа, смерть, путь. Каждый из них реализуется в нескольких конкретных образах. Однако существуют образы, вбирающие в себя значения разных комплексов. Так, образ ребенка связан с темой времени, жизни человека. Но в тексте он сближается и с темой природы. Более сложные процессы постепенно сводят темы воды и пути, света и пути, смерти и времени. Для определения общей динамики произведения необходимо рассмотреть принципы раскрытия каждой темы и доказать системный характер взаимодействия и взаимовлияния образов, реализующих эти темы.
Одной из центральных тем произведения, раскрывающихся во всем тексте и обладающих огромным смысловым потенциалом, является тема воды. Характерной особенностью этой темы является ее постепенное развертывание на протяжении всего повествования, так что к концу книги она занимает центральное место. Первый образ, так или иначе связанный с водой, - это Лейна. Поначалу тема даеіся в подчеркнуто бытовом, географическом смысле. Затем, в описании Геттингена, мы встречаемся и с метафорическим значением воды - на этот раз в образе моря: «Число геттингенских филистеров должно быть очень велико: их - как песку или, лучше сказать, как грязи на берегу моря» [9]. Показательно, что с самого начала метафорическое значение образа моря иронически снижается и получает отрицательное значение.
Уже в первой части «Путешествия по Гарцу» задаются две ипостаси воды: река (ручей) и море. Их противопоставление сохранится и в дальнейшем. Река - вода в ее природном значении. Она изначально дана через чувственное восприятие - осязание, слух, зрение. Ее основная характеристика - движение, текучесть, изменчивость. Таким образом, она сближается с темой пути и сопровождает героя в его путешествии (примечательно, что даже когда герой теряет из виду солнце - в руднике, он продолжает слышать шум подземных ручьев). Море изначально понимается в метафорическом смысле, оно существует в сознании повествователя, но не в окружающем мире. В мире рационалистической науки - Геттингене -центральным образом является море. Однако по мере удаления героя из Геттингена на первый план выступает река; море остается только в области снов героя. В Клаустальском сне героя море разрушает мир его мечты, противостоит миру света и любви: « ... - И ослепительно сверкнул луч вечного света; но в то же мгновение настала опять ночь, и все стремительно слилось в каком-то хаосе в одно сплошное, дико бушующее море. ... По волнам его в смятении носились призраки умерших ... » [24]. В «Путешествии по Гарцу» образ моря всегда вызывает чувство утраты и ужаса, оно связано с ночью и смертью. Движение моря передает не путь личности, а жизнь народов, некий универсальный круговорот бытия. Это -гот самый житейский хаос, который преследует героя. Море противостоит миру индивидуальной человеческой мечты. Вечное и безбрежное, оно разбивает хрупкий мир личности. Неподвластное человеку, оно приобретает связь с потусторонними силами.
В своем путешествии герой постепенно забьіваеі о море, преодолевает страх смерти. На первый план выходит образ ручьев как неизменной части пейзажа. Последняя часть «Путешествия по Гарцу» полностью посвящена рекам. Значимость этою образа подчеркивается и тем, что фабула, путь героя, обрывается, когда он встречается с Ильзой. Ильза становится синтетическим образом, вбирая в себя темы пути (герой идет по берегу Ильзы как по дороге), времени (она связана с историей в ее поэтическом значении) и природы. Она оказывается соотнесенной и с темой смерти, через упоминание умерших королей, но смерти сказочной, фольклорной, смерти как перехода в мир вечности и покоя. Замена моря рекой в связи с темой смерти актуализирует мотив преодоления смерти, заявленный в эпиграфе.
Наконец, Ильза отождествляется с возлюбленной героя. Подобное отождествление «оживляет» возлюбленную. В течение всего путешествия возлюбленная представлялась герою как неподвижная статуя, лишенная какой-либо динамики. В своем сне герой попытался разбудить ее, однако ему помешали злые силы, которыми был одержим и он сам (он в образе Арлекина носится над морем). Все его последующее путешествие можно рассматривать как дорогу к потерянной любимой. Однако в заключительном эпизоде герой приглашает Ильзу (Агнессу) сбежать с горы и упасть в его объятия. Здесь же она впервые обретает имя, хотя они и подано как условное: « ... Или назвать мне тебя Агнесса? - ведь имя это нравится мне больше всего ... » [65] Возлюбленная оказывается расколдованной, так как герой прошел свой путь до конца и гоюв встретиться с ней. Оживление возлюбленной - традиционная для романтизма тема: «Романтическая любовь - бесконечное повторение все той же сказки о спящей красавице: он пробирается через густые чащи, он спешит к той башне, где спит его невеста. Он разбудит ее поцелуем. Здесь конец его пути, тот покой, о котором он мечтал, та далекая страна, которая вечно уходила от него, то единственное мгновение, когда желание божественного находит себе воплощение в жизни» (Жирмунский 1996, 79). Характерно, что этот мотив оказывается связанным с водой. Таким образом, здесь актуализируется еще одно значение воды - средства возрождения и очищения. Река связана с обрядом крещения (вспомним упоминание железного креста, за который схватился герой на вершине Ильзенштейна).
Развитие темы воды в «Путешествии по Гарцу» метафорически отображает основную фабулу повествования - путь из мира раздробленности, филистерской жизни к синтезу природы и искусства, к обретению себя и любви. Эга тема реализуеіся и на композиционном уровне. Тема воды получает все более глубокое понимание по мере развертывания странствия героя; так повествователь проводит параллель между сюжетом и рекой, отождествляя сам процесс рассказывания с ее течением. Нарушая временной порядок фабулы, строя текст из фрагментов с разной жанровой, стилистической и повествовательной доминантой, Гейне придает сюжету свойства вечного движения, прихотливой изменчивости.
Второй важнейший символ «Путешествия по Гарцу» - свет. Он выражается прежде всего в образе солнца - одном из наиболее традиционных фольклорных и литературных символов. Однако у Гейне он свободен от литературных ассоциаций, его восприятие глубоко личностно. В этом смысле солнце противопоставляется луне, выступающей как литературный образ. Луна, появляющаяся ночью, связана с темой смерти, призраков и моря. Но она одновременно относится к сентиментальной традиции и получает ироническое толкование. Так, к ней взывают два пьяных юноши из Халле. Они декларируют свою особую связь с луной, подобно тому, как герой беседует с солнцем, но связь эта не индивидуальна, а стереотипно-литературна, подчеркнуто цитатна: «Прекрасна ты, дочь неба! Блаженно нежное спокойствие лица твоего! Ты плывешь, полная прелести!» [53].
Солнце символизирует дневную сторону жизни. Путешествие героя строи іся в едином ритме с движением солнца: каждый новый его этап начинается утром. Солнце обязательно присутствует в каждом пейзаже. И если вспомнить, что своеобразной кульминации действие каждой части повествования достигает при бое часов, то получается, что мир «Путешествия по Гарцу» структурирован не только в пространстве, но и во времени: каждой части мира соответс і вует определенный временной промежуток, как правило, сугки. Солнце - главная сила, определяющая как движение героя, гак и сюжетное движение повествования.
Солнце и герой обладают прочной внутренней связью. С самого начала солнце благоприятствует его путешествию и сопровождает его до самого эпилога. Эта связь подчеркнута и тем, что солнце (слово женского рода в немецком языке) включается в ряд женских образов, благосклонных к герою. Солнце выступает как источник всякой жизни, всякого плодородия, как материального, так и творческого. Эта тема заявлена с самого начала, когда у героя «вызревают мысли», а солнце превращается в вывеску трактира: «За Нертеном солнце поднялось высоко и ярко светило в небе. Оно отнеслось ко мне сочувственно и начало нагревать мне голову, так что созрели все мои мысли. Не следовало, однако, пренебрегать и милым на вывеске нордгеймским трактирным солнцем» [11-12]. Этот образ, как и многие другие, не избегает у Гейне иронической трактовки, но подобное его снижение не может рассматриваться как отрицание, поскольку еда в «Путешествии по Гарцу» имеет положительную коннотацию и связана с темой молодости и здоровья. Характерно, что в книге мы не найдем сопоставления солнца и богатства. Даже на рудниках герой видит серебро, го есть символ луны. Солнце, таким образом, отвечает только за динамичное, становящееся изобилие, а не за уже ставшее, неподвижное.
Однако ритм солнца в свою очередь получает объяснение: « ... В груди ее [возлюбленной] - рай и все райские блаженства, и когда она дышит, сердце мое дрожит в отдалении; солнце зашло за шелковыми ресницами ее очей; когда она откроет глаза - наступит день и запоют птицы, ... а я подвяжу свою котомку и пущусь в путь» [29]. Путь героя разворачивается в едином ритме с жизнью возлюбленной. Характерно, что это объяснение появляется после посещения героем рудника, после первого этапа его странствия. Если до этого его путешествие больше следовало «географическому» ритму (от юрода к городу), то теперь оно включается в ритм природный. Герой идет уже не по дорогам, а по тропинкам, города встречаются ему случайно, а главный объект описания - природа.
Солнце, хоть и не отождествляется прямо с любимой, служит одной из ее ипостасей и своеобразным проводником к ней. Однако в большей степени в «Путешествии по Гарцу» выражена связь солнца с творчеством. Подобно гому, как творчество может быть только индивидуальным (герой поэтичен в одиночестве и ироничен в обществе), солнце общается с героем исключительно один на один. Подобно тому, как невозможна массовая поэзия, невозможным оказывается «массовое» созерцание солнца, (что проявляется в ироническом описании заката и восхода на Брокене). Но, подобно тому, как филистеры не могут нанести ущерба солнцу своими тривиальными восторгами, не могут они ущемить и истинную поэзию. Поэтическое описание солнца немедленно переводит этот образ в личный план (ландшафт занимает только первую строфу стихотворения).
В «Путешествии по Гарцу» появляется традиционная для романтизма оппозиция рационалистического и поэтического отношения к природе. Первое связано с наукой, классификацией и потребительским отношением. Второе появляется в пейзаже и стихотворениях. Но Гейне усложняет эту оппозицию, показывая неоднозначность обоих подходов, иронически пересматривая их. Так, первая позиция вовсе не исключает высокой оценки природы: ученый наслаждается пением соловьев, госларский обыватель восхищается разумностью миропорядка. С другой стороны, романтическое восприятие природы связано с литературными штампами, пейзажи постоянно балансируют на границе поэзии и пародии, индивидуальности и толпы: «Гейневедение уже обнаружило в описаниях природы и пейзажа в "Путешествии по Гарцу" изобилие литературных и иных ссылок. ... Переживание пейзажа также искажено обществом, оно открыто сделано и манипулятивно и выполняет функцию утешения и изумления. Путь к природе как выход из отчуждения ведет обратно точно к нему, он становится путем среди общества и истории» (Kortlander 1981, 56). Обе позиции отвергаются из-за отношения к природе как к вторичному явлению, стремления подчинить ее своим целям. Природные явления, одушевляемые в анализируемом тексте, имеют самостоятельное значение, не определяемое человеческим восприятием (см. Hultberg 1975, 62-63).
«Путешествие от Мюнхена до Генуи»
«Путешествие от Мюнхена до Генуи». Структура четвертой части «Путевых картин» определяется путешествием героя, и пространственная модель во многом напоминает модель «Путешествия по Гарцу». Пространство можно разделить на дорогу и город, подобно тому, как в первой части мы наблюдали чередование дороги и сіаіичньїх участков-сцен. Само название «Путешествие» выводит на первый план образ дороги, целью поездки становится не географический объект, а сам путь. Однако повествование начинается со сіатичной сцены - с описания разговора с берлинским обывателем. В этом своеобразном вступлении четко противопоставляются мир Германии и Италии. Поэтому и цель путешествия героя подобна цели, заявленной в стихотворном прологе «Путешествия по Гарцу»: побег и? дурного мира в идеальный. Однако с самого начала заметно изменение трактовки этого мотива: в первой части «Путевых картин» герой начинал путешествие, еще являясь пленником старого, геттингенского сознания, и перемены в его внутреннем мире помогали ему обрести гармонию с миром природы. В исследуемом же тексте решение совершить путешествие изначально продиктовано изменением настроения героя. Пока в его сердце царила зима, он находился в Германии, с пробуждением новой весны он чувствует потребность перейти в новый мир. Таким образом, цель путешествия задана заранее и эксплицитна: эта цель - соединиться с юным богом весны и природы: «Однажды даже, золотой сумеречной порой, я увидел на вершине одной из гор совершенно ясно во весь рост его, молодого бога весны; цветы и лавры венчали радостное чело, и своими смеющимися глазами и своими цветущими устами он звал меня: "Я люблю тебя, приди ко мне в Италию!"» [172].
С самого начала текста сознание героя противопоставлено окружающему миру, не зависит от него. Беседуя с обывателем, он усваивает подобающий тон, но делает это сознательно. Трактовка образа Германии не амбивалентна, как в «Путешествии по Гарцу», а подчеркнуто иронична. Специфика иронии здесь заключается в том, что она предстает не только средством, но и объектом изображения. В разговоре с Наннерль рассказчик иронизирует по поводу иронии как средства, «благодаря которому всякая глупость может считаться как бы не совершенною или может даже превратиться в мудрость» [167]. Подобное «ироническое разрушение романтической иронии» (Groddeck 1999, 252) обусловливает специфику изображения мира: любой возможный взгляд на него изначально поставлен под сомнение. Мюнхен изображен не как реальный город, а как модель; но если описание Геттингена в «Путешествии по Гарцу», тоже являясь моделью замкнутого мира, претендовало на некоторую объективность, то описание Мюнхена выражает субъективное мнение иронического рассказчика.
Образ Германии рисуется не только в мюнхенских главах, но и при описании путешествия по Тиролю. Перейдя из ста гики города в динамику путешествия, рассказчик в большей степени зависит от реальных впечатлений, и пространство обретает большую ценность. Но динамичное пространство в свою очередь неоднородно: оно разделено на два топоса: Германии и Иіалии, противопоставленные друг другу по таким категориям, как время, пространство, эмоциональный настрой
Германия и Италия находятся в разных отношениях к прошлому. Германия - это страна настоящего. Повествование о ней ведется в настоящем времени, рассказчик описывает современное положение дел. Однако история постепенно вторгается в текст. Сначала это происходит в ироническом ключе. Мюнхен - «новые Афины» - изображается как пародия на древность, как тщетные, чисто внешние попытки возродить прекрасное классическое прошлое. Однако герой берет Мюнхен под свою защиту, отдавая ему преимущество перед Берлином, поскольку последний - воплощенная современность: «В городе так мало древностей, и он такой новый, и все же новизна эта уже состарилась, поблекла, отжила» [164]. Берлин - город без эмоций, лишенный таинственности, деловитый и чужой. Мюнхен своим внешним обликом ближе герою, поскольку его архитектура хранит следы прежних эпох. Но город хорош именно синтезом разных пластов в настоящем, то есть в своем современном виде.
При описании Тироля тема прошлого поднимается в связи и с историческими трудами, и с литераіурньїм творчеством. Однако прошлое в Тироле находится в отрыве от современности: «Тирольская трагедия» Иммермана запрещена, об исторических событиях не вспоминают: «Многие замечательные происшествия того времени вовсе не записаны и живут лишь в памяти народа, который теперь неохотно говорит о них, іак как при эюм припоминаются многие несбывшиеся надежды» [181]. Именно эта оторванность от прошлого лишает образ Тироля однозначно положительной коннотации. Он описан как красивый, но ограниченный мир, лишенный истинной духовности, превративший свой национальный колорит в предмет торговли.
Отсутствие связи с прошлым лишает образ Германии одухотворенности; отсутствие историческою движения оставляет его всецело в рамках настоящего. Герой как носитель движения не связан с этим миром, наблюдает его со стороны, не раскрывая его тайн: «При взгляде на гакой домик, одиноко стоявший под дождем, сердце мое порывалось выпрыгнуть к этим людям. ... Там, думалось мне, живется, наверное, хорошо и \ютно, и старая бабушка рассказыва-т самые таинственные истории. Но экипаж неумолимо катился дальше» [185]. Путь героя не позволяет ему остановиться, соединиться со статичным миром. Гораздо большую связь он ощущает с Италией. В Италии прошлое невольно просвечивает сквозь настоящее, из-под лиц местных жителей выглядывают античные маски. Все города Италии носят отпечаток старости, упадка, изображаются как умирающие. Италия подобна заколдованному миру, который уснул и ждет нового пробуждения.
Два мира, представленные в «Путешествии от Мюнхена до Генуи», разделены четкой границей, которую герой пересекает в Южном Тироле. Своеобразными воротами между мирами служит дом прекрасной пряхи. Она красива и гармонично вписана в окружающую природу. Ее античные черты сочетаются с «романтическими» глазами, являя синтез старого и нового. Ее образ ассоциируется с древнегреческими мифами, с образом Ариадны, то есть она открывает герою дорогу в новый мир. Но этот образ, подобно многим уже упомянутым женским образам «Путевых картин», связан с религиозной тематикой. Женщина напоминает католическую святую: «По другую сторону домика находилась круглая голубятня; пернатое население ее реяло вокруг, а один особенно грациозный белый голубь сидел на красной верхушки крыши, которая, подобно скромному каменному венцу над нишей, где таится статуя святой, возвышалась над головой прекрасной пряхи» [187]. К религиозной тематике отсылает и находящееся там же распятие, внося в изображение тему смерти. Образ растений, обвивающихся вокруг распятия, жизни, цепляющейся за смерть, становится лейтмотивом Италии. То же герой наблюдает в каждом иіальянском городе, где бурная жизнь растет на месте развалин, современность живет рядом с умершим прошлым. Пряха, таким образом, открывает герою дорогу в мир смерти, в мир, где ему суждено встретиться с Марией. Портрет пряхи, созданный при помощи живописных средств, предваряет портрет Марии в последней части (Groddeck 1999, 360), она становится первой ипостасью возлюбленной.
Итальянское пространство, как и немецкое, разделено на образы дороги и города. Но на этот раз остановки героя не переносят его в новый мир. Все города Италии похожи друг на друга, повторяя сходный пейзаж, преимущественно ночной. Италия - образ, сопоставляемый со сном, с грезой, поэтому он оживает именно ночью. Ночью герою являются призраки прошлого, в то время как днем Италия, кажется, живет какой-то неправдоподобной жизнью. Центральным образом городского пейзажа становится собор. Собор во всех предыдущих «Путевых картинах» несет символический смысл как средоточие культуры прошлого. Теперь же часто изображается недостроенный собор, поскольку между прошлым и настоящим произошел слом культуры.
Архитектура итальянских городов сопоставлена с языком. Город напоминает повесть, статуи общаются с героем. Посещение городов, таким образом, ставится в один ряд со всевозможными встречами с людьми. История, которую рассказывают герою города, связана и со скрытой фабулой текста: историей любви героя и Марии. Природа, напротив, не разговаривает с героем, в отличие от остальных «Путевых картин». Из текста уходят и традиционные образы, связанные с ним. Так, мы не встречаем изображений воды, даже морской пейзаж дан очень скупо. Функция рассказывания, общения закреплена, таким образом, не за природными объектами, а за произведениями человеческого искусства. Это определяет композицию текста, в основе которой лежит уже не ход мысли повествователя, а хронология путешествия, и четкую внутреннюю структуру с маркированными границами частей. Этим объясняется и предпочтение статики динамике: путешествие совершается не из города к природе, а из одного города в другой.