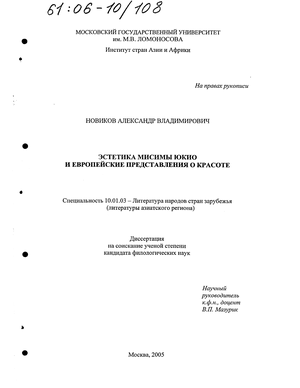Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Эстетика Мисимы Юкио 17
Глава 2. Истоки эстетики Мисимы Юкио: Мисима Юкио и Томас Манн Мисима Юкио о Томасе Манне 52
Тема красоты у Томаса Манна и Мисимы Юкио. Эстетика и этика 55
Глава 3. Развитие эстетики Мисимы Юкио: Мисима Юкио и Эдуард Лимонов 109
Биография Эдуарда Лимонова 109
Очерк творчества Эдуарда Лимонова 116
«Священные монстры» Эдуарда Лимонова 118
Эдуард Лимонов о Мисиме Юкио 131
Тема революции у Эдуарда Лимонова и Мисимы Юкио 139
Тема сексуальности у Эдуарда Лимонова и Мисимы Юкио 152
Тема смерти у Эдуарда Лимонова и Мисимы Юкио 158
Тема самоубийства у Эдуарда Лимонова и Мисимы Юкио 165
«Земля граната» Мисимы Юкио и «Другая Россия» Эдуарда Лимонова 168
Тема молодости у Эдуарда Лимонова и Мисимы Юкио 179
Формальный метод Эдуарда Лимонова и Мисимы Юкио 183
Радикализм в современной российской словесности 190
Особенности эстетики Эдуарда Лимонова и Мисимы Юкио 195
Выводы 199
Заключение 206
Библиография 224
- Эстетика Мисимы Юкио
- Тема красоты у Томаса Манна и Мисимы Юкио. Эстетика и этика
- Биография Эдуарда Лимонова
Введение к работе
Постановка проблемы. Эстетическая система японского писателя Мисимы Юкио 1 (1925-1970) при первом знакомстве с ней производит впечатление сугубо оригинальной. Так, может показаться, что эстетика, посвященная рассмотрению различных аспектов взаимоотношения индивида с подавляющей и деструктивной красотой, привлекающая кроме красоты в качестве основного концепта смерть и использующая как эстетические агенты такие объекты и понятия, как самоубийство, красота оружия, внутренностей и т.д., не имеет аналогов в мировой литературе. Ни в коей мере не умаляя специфичности и оригинальности эстетики Мисимы, в предпринятом нами исследовании мы пытались показать, что большинство используемых Мисимой эстетических понятий имеет определенные соответствия в общемировом контексте, при этом соответствия эти обнаруживаются иногда в литературах других стран и эпох.
Однако поиск отдельных аналогий, возникающих у эстетической системы Мисимы и других авторов, является хоть и интересной, но не основной задачей данной работы. Гораздо более любопытным представляется проследить генезис эстетической системы Мисимы, сами корни его столь специфического эстетического дискурса, а также проследить ее развитие в отрыве от творчества самого Мисимы, тем самым попытавшись ответить на вопрос, витальна ли эстетика японского писателя, оказалась ли она востребована мировой культурой, или же способна существовать лишь в герметическом мире его произведений?
Для определения генезиса эстетики Мисимы мы сравнили ее с эстетикой немецкого писателя Томаса Манна (1875-1955), автора, который, по признанию самого Мисимы, был не только его самым любимым писателем, но тем, кто более всего повлиял на формирования его стиля, и, что важнее, эстетики в целом. Сравнение их эстетик дает все основания полагать, что Мисима плодотворно воспринял многие идеи Манна, использовал их в своем творчестве и, что важнее всего, переосмысляя, вводил в ткань собственной эстетической системы, кардинально перерабатывал и развивал их. Это касается таких генеральных для эстетики Мисимы концептов, как тема смерти, телесности,
1 Здесь и далее по японской традиции сначала пишется фамилия, потом имя. При этом для удобства восприятия японские имена собственные склоняются.
болезни, молодости, гомоэротизма, а также символика прекрасного. Главным же, что воспринял Мисима у Манна, было само восприятия красоты: ее характеристики (демоничность, внеморальность, порочность), варианты реакции на нее индивида (зависимость от красоты, тираническая власть над жертвами ее чар, тщетные попытки человека наладить с красотой контакт, попытки освободиться от нее, желание отомстить, в конечном итоге убить красоту) и способы реализации (трансцендентность и воплощение в каком-либо конкретном объекте в этом мире). В реализации всего спектра вышеперечисленных идей Мисима во многом аппелирует к Манну, повторяет и развивает его идеи. В том же, что касается более всего, на наш взгляд, волновавшей обоих писателей идеи соотношения эстетики и этики, преодоления примата красоты над этикой, поиска их гармоничного сосуществования, а также вписывания в мир гомогенной красоты идеи Бога, - Мисима наиболее полно развивает идеи Манна, дискутирует с ним, идя дальше Манна, создает собственную схему соотношения эстетики и этики.
То, что, в конечном итоге, оба писателя приходят к одному и тому же выводу (мир красоты не терпит присутствия никакого этического идеала, а мир без этики, с одной красотой, чреват моральным разложением и гибелью для попавшего в него индивида), более всего сближает, как нам кажется, их поэтику.
Сравнение эстетик Мисимы и Эдуарда Лимонова (1943 г.р.) с особым вниманием к преемственности второго по отношению к первому кажется оправданным уже. .при поверхностном знакомстве с их произведениями. Справедливость такого подхода подтверждается и тем, что Мисима является одним из любимых писателей Лимонова, что последний прекрасно знаком как с творчеством, так и с биографией Мисимы и упоминает о нем чуть ли не во всех своих книгах. Не будет преувеличением сказать, что Лимонов - своеобразный «продолжатель дела Мисимы», ибо он не только использует в своем творчестве элементы художественной системы Мисимы, но и развивает их, идет дальше по пути «сэнсэя». К тому же, мы можем говорить о действительно органичном сходстве обоих писателей не только в творчестве, но и в жизни (увлечение западничеством в начале жизни, латентная гомосексуальность, скандальный имидж «неудобного писателя» на своей Родине, популярность за границей, увлечение национализмом и попытка революционного восстания, а также приравнивание биографии к сочиненному сценарию).
Тогда как, как нам представляется, в темах революции, смерти и молодости Лимонов, опираясь на идеи Мисимы, лишь повторяет их, либо создает на их основе свои собственные не слишком оригинальные построения, реализуя идеи Мисимы в качестве культурного симулякра, рецепция других тем (таких, как тема самоубийства, социального переустройства, теории будущего, радикализма и той же биографической темы self-made man) у Лимонова оказалась плодотворнее. В развитии их он либо идет дальше Мисимы, либо привносит некие свои оригинальные идеи. Много любопытного для восприятия Мисимы дает и оценка Лимоновым его творчества и личности.
Несмотря на все эти убедительные, как нам кажется, аналогии, выбор писателей для сравнения все равно может показаться схематичным и случайным. Неожиданным может показаться и то, что для сравнения взяты писатели европейские, а не японские.
Дело тут скорее в самой исследуемой теме - теме красоты, вернее - в подходе к ней в Японии. Эстетический элемент в Японии изначально был подчинен элементу этическому, шел с ним в нераздельной связке и лишь очень редко (в ранних новеллах Танидзаки, например) выступал обособленно; Объясняется это, видимо, религиозным отношением к красоте в Японии, берущим свое начало в буддизме и конфуцианстве. Подтверждение этому можно найти даже в китайском языке (а из Китая в Японию и пришли вышеперечисленные религиозные учения). Так, иероглиф «красивый» как в древности, так и сейчас в большинстве случаев выступает в китайском языке в сочетание с иероглифом «хороший» (для характеристики абстрактных понятий) или «вкусный» (для характеристики понятий материальных). Это демонстрирует само отношение к красоте - она крайне редко рассматривается сама по себе, как самостоятельное и обособленное понятие. И именно поэтому Мисима в своей эстетике обращается за примером к эстетике Запада, где подход к красоте как к явлению самоценному, рассмотрение эстетики в отрыве ее от этики было явлением хоть и оппозиционным по отношению к традиционной христианской культуре, но все же отнюдь не редким.
Кроме того, Мисима в силу своих радикально-правых взглядов подпадает на своей родине под такое же определение «неудобного», не совсем политкорректного и вообще слишком экстравагантного писателя, как и Лимонов у нас, вследствие чего его рецепция в Японии носит весьма
специфический характер (в среде политических радикалов или же фанатов самого Мисимы) и на творчество видных писателей последующих лет заметного влияния не оказала (за редким исключением типа Фудзисавы Сю или Мураками Рю в том, что касается темы бунта и восстания, хотя у них эта идея реализуется без идеологической нагрузки Мисимы, или Маруямы Кэндзи, рассматривающего феномен радикального восстания и самоубийства в повести «Сердцебиение»). Западные же интеллектуалы были в силу разных причин свободны от подобного ограниченного подхода к фигуре Мисимы, что и сказалось на более плодотворном восприятии его идей.
Сравнение Мисимы именно с этими писателями было призвано показать отнюдь не принадлежность идей Мисимы западной культуре, хоть для этого и есть определенные основания: как биографического свойства (западничество Мисимы, его интерес к европейской культуре, надежды на то, что его самое масштабное, аккумулирующее все его идеи произведение «Море изобилия» после провала в Японии будет воспринято на Западе и т.д.), так и художественного (описанное выше восприятие красоты в ключе, более характерном для западной культуры). Сравнение Мисимы именно с Т.Манном и Э.Лимоновым показалось нам плодотворным потому, что дает возможность показать генезис, развитие и актуальность определенного круга идей, выявить и проследить существование и развитие определенной эстетической линии в мировой культуре, имеющей корни в творчестве Томаса Манна, развитой Мисимой и актуализированной Эдуардом Лимоновым. Все это позволяет высказать предположение о существовании эстетической линии с момента ее зарождения в творчестве Манна до наших дней, когда отдельные ее моменты были восприняты через творчество Мисимы Лимоновым, а из творчества последнего - тем кругом современных российских писателей, которых можно условно обозначить как радикалов.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что попытка рассмотреть эстетическую систему Мисимы в контексте европейской культуры позволяет не только вьивить множество ключевых моментов в эстетике самого Мисимы и сравниваемых с ним авторов, но и попробовать выделить и проследить определенную тенденцию в развитии мировой эстетики, являющуюся актуальной не только для разных стран и эпох, но и для мировой культуры в целом.
О том, что эта специфическая эстетическая линия является актуальной, говорит популярность всех трех заявленных авторов, эстетическая компонента в творчестве которых является преобладающей и определяющей их творчество. Об актуальности же этих авторов свидетельствует, на наш взгляд, достаточно многое. Так, книги Мисимы, 80-летие со дня рождения которого недавно отметили во всем мире, регулярно переиздаются в нашей стране и пользуются устойчивой популярностью, постепенно заполняются лакуны в переводе его книг. Сам же он, как нам представляется, был тем подготовительным этапом, который предвосхитил в нашей стране не только массовую популярность и активные переводы Мураками Харуки и других авторов его поколения, но и тот бум японской литературы в нашей стране , что мы наблюдаем сейчас. При этом не стоит забывать о том, что Мисима, в отличие от того же Мураками, до сих пор отнюдь не так полно переведен на русский язык.
Эдуард Лимонов, помимо того, что популярен как весьма плодовитый и охотно издаваемый многочисленными издательствами автор, ведет активную общественно-политическую деятельность, оказывая влияние как на своих литературных поклонников, так и на политических последователей; постоянно появляется на обложках глянцевых журналов, в политических ток-шоу, становится эпицентром различных медийно-политических скандалов 3 , а недавно стал еще и героем фильма («Русское» А.Велединского о харьковской молодости писателя).
Актуальность Манна можно обозначить несколько иначе: не как прямое воздействие на читательские массы (чему скорее всего причиной слишком объемные для нынешних темпов жизни произведения писателя), а как опосредованное, через работы других авторов, учитывающих в своих произведениях опыт и находки Манна.
Все это явно демонстрирует давно назревшую необходимость в исследовании Мисимы и его художественного мира, особенно в парадигме его пересечений с вышеуказанными авторами и, шире, западной культурой. Актуальность темы исследования к тому же напрямую вытекает, как нам
2 О восприятии Мисимы, Мураками и других авторов и, шире, рецепции японской литературы в
России см. нашу статью: После моды на Мураками: новейшая японская литература в России
нового века. Новое литературное обозрение, №69,2004. С.240-256.
3 «Сам писатель Лимонов (...) находится под подозрением в организации всех проходящих в
стране акций протеста — от митингов пенсионеров до пикетов учителей Беслана (...)». Афиша.
№2 (145) за 2005. С.17.
кажется, из малоизученности этой темы в научной литературе. При всем обилии публикаций, посвященных Мисиме во всем мире, до сих пор нельзя назвать фундаментальную аналитическую работу, которая бы на время отменила актуальность дальнейших исследований его творчества и на которую ссылались бы последующие исследования. Притом, что в большинстве существующих работ акцентируется тема необычности эстетики Мисимы и признается, что феномен красоты был краеугольным камнем художественного мира Мисимы, основополагающего исследования именно по эстетике Мисимы до сих пор, к большому сожалению, не существует. И если в японском и западном (особенно американском) литературоведении есть традиция изучения наследия Мисимы, то отечественная японистика лишь осваивает его творчество, а публикации по Мисиме не выходят за рамки дипломных работ по отдельным его произведениям. До сих пор самой доступной массовому читателю работой по Мисиме остается давнее предисловие Г.Ш.Чхартишвили к его переводам Мисимы4 . Если исследователю доступен масштабный корпус работ по творчеству собственно Манна, то творчество Лимонова до сих пор не исследовано у себя на родине , сравнений же этих авторов с Мисимой нам не известно.
Хронологические рамки работы охватывают весь XX век и первое пятилетие нашего века, что естественным образом обусловлено годами жизни и творчества рассматриваемых писателей. Так, творчество Томаса Манна приходится на первую половину прошлого века (с 1901 г., «Будденброки», до 1947 г., «Доктор Фаустус»), творчество Мисимы Юкио на его середину (с 1949 г., «Исповедь маски», до 1970 г., «Море изобилия»), а творчество Эдуарда Лимонова на последнюю треть прошлого века (с 1976 г., «Это я - Эдичка») и
4 Чхартишвили Г. Жизнь и смерть Юкио Мисимы, или Как уничтожить храм // Мисима Ю.
Золотой храм. СПб.: Северо-Запад, 1993. С.5-30.
5 За исключением журнальных публикаций, а также статей в книгах таких современных
отечественных литературоведов, как А.Жолковский {Жолковский А. Статьи о русской поэзии.
М.: РГТУ, 2005) и Н.Иванова {Иванова Н. Скрытый сюжет. Русская литература на переходе
через век. СПб.: БЛИЦ, 2003). Единственная же на сегодня биография Лимонова не только была
издана заграницей {Rogachevskii A. A biographical and critical study of Russian writer Eduard
Limonov. Lewiston; Queenston; Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2003), но и имеет на наш взгляд
ряд существенных недостатков. Так, книга посвящена анализу творчества писателя в отрыве от
его биографии и политической деятельности (при этом книги Лимонова, написанные после его
возвращения в Россию, почти не рассматриваются), само творчество Лимонова анализируется,
исходя из сравнения с творчеством Маяковского и атамана П.Н.Краснова (которого Лимонов
судя по всему не читал), слишком много внимания уделено реакции российской критики на
творчество Лимонова и т.д.
начало этого века. При этом, если нижняя хронологическая веха данного исследования определяется точно (первое произведение Т.Манна), то верхняя рамка приходится в полной мере на наши дни, так как книги Лимонова во множестве продолжали выходить и во время написания этой работы, а в качестве примера рецепции идей Мисимы, воспринятых через творчество Лимонова, мы привлекали в числе прочих и так называемую «радикальную» литературу последних лет.
Объект и предмет исследования. В качестве основного объекта исследования была избрана эстетическая система Мисимы во всей ее сложности и разнообразии. Непосредственным предметом исследования стало своеобразное «наложение» этой системы на творчество Т.Манна и Э.Лимонова с их последующим сравнением и попыткой определить механизмы существования эстетики Мисимы в контексте европейской культуры.
Целью работы было попытаться вписать эстетику Мисимы в общемировой контекст, проследить ее генезис в творчестве Т.Манна и развитие у Э.Лимонова, а также выявить ее актуальность для нашего времени. Кроме того, такой компаративистский подход к эстетической системе и, шире, к художественному миру Мисимы позволил, на наш взгляд, выявить не только интересные и подчас неожиданные аналогии, но и глубже понять эстетику, творчество и личностный феномен Мисимы.
Решение поставленных задач предполагает, прежде всего, постановку вопроса о методологии исследования. В качестве основного научного подхода был избран системный: рассмотрение творчества каждого из исследуемых авторов (ибо существование всех троих в единой системе далеко еще не доказано) как единой эстетической системы, обладающей сложной структурой, с присущими ей законами функционирования и развития, с особыми взаимосвязями и взаимозависимостью составляющих ее элементов, а всего корпуса их текстов - как единого эстетического метаромана, обладающего, при всей инвариантности фабульных решений в каждом отдельном произведении, определенной объединяющей матрицей или прафабулой, а также единством авторских экзистенциальных устремлений .
6 Методология рассмотрения творчества писателя как метаромана была впервые сформулирована в статье Виктора Ерофеева о творчестве Набокова «В поисках потерянного
При написании предпринятого исследования привлекались наработки многочисленных и разнообразных (а подчас и кардинально противоположных) течений в мировой философской и культурологической мысли, что объясняется во многом и характером творчества исследуемых писателей, специфической чертой по меньшей мере двух из которых (Мисима и Лимонов) становится многоплановость используемого в собственном творчестве материала, синтетичность идейного плана и свойственная литературе прошлого века интертекстуальность самих произведений7.
Естественным образом при изучении творчества Мисимы в контексте
творчества писателей других эпох и стран основным научным инструментом
стали компаративистские исследования, из-за чего данное исследование вообще
рискует показаться «неуемным поиском аналогий с неконтролируемыми
экстраполяциями» (У.Эко). Но именно Эко сформулировал принцип
«открытости» произведения совершенно различным - в том числе, добавим, и
компаративистско-эстетическим - трактовкам: «Речь идет об открытом
произведении как произведении, которое определяется «полем» различных
интерпретационных возможностей, о произведении, которое предстает как
некая конфигурация стимулов, наделенных принципиальной
неопределенностью, так что человек, его воспринимающий, вовлекается в целый ряд «прочтений», причем всегда изменчивых; наконец, речь идет о структуре как «созвездии» элементов, которые могут вступить в различные
взаимоотношения» . В особенности подобная «открытость» характерна для произведений нового времени (Манн, Мисима) и становится основополагающим свойством произведений эпохи постмодерна (Лимонов).
Принципом анализа подобного «открытого» произведения становится по мысли Эко его «развоплощение» как художественного объекта с извлечением его структурного «скелета»: «Мы как бы «развоплощаем» объект, чтобы сначала увидеть его структурный «скелет», а затем определить те связи,
времени» {Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М.: Союз фотохудожников России, 1996. С.9). Подробнее об этом методе см. первую главу данной работы.
7 Чтобы отчасти выявить некоторые аналогии, аллюзии и парадигматические сходства
произведений рассматриваемых авторов с более широким контекстом мировой литературы
прошлого и нынешнего веков мы прибегли также к такому средству, как эпиграфы из других
авторов.
8 Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб.:
Академический проект, 2004. С.171-172.
которые являются общими и для других «скелетов». В конечном счете, подлинной «структурой» произведения является то, что объединяет его с другими произведениями; то именно, что является моделью»9. Это, как нам кажется, может служить оправданием для нашего компаративистского сравнения, в котором мы, избегая, где это не является необходимым, общего анализа произведения, вычленим структурный «скелет» каждого отдельного произведения, каковым «скелетом» является для нас воплощения прекрасного со всеми их типологическими свойствами и особенностями функционирования. Мы постараемся сравнить полученные в результате подобной «вивисекции» схемы эстетической системы одного писателя с соответствующими моментами в творчестве другого писателя с тем, чтобы, в конечном итоге, выявить изначальную эстетическую модель, сложившуюся в творчестве Манна, воспринятую и развитую Мисимой и заимствованную впоследствии Лимоновым.
Модель эта, как нам кажется, присутствует в эстетических системах каждого из этих писателей, обладая при этом такой жизнеспособностью, что позволяет ей существовать не только в совершенно разных культурно-исторических и национальных условиях, но и отделяться от эстетики ее создателя (в данном случае Манна), чтобы быть воспринятой впоследствии (Лимоновым) если не «из воздуха», то от переработавших и сохранивших ее адептов (Мисимы), уже без прямой отсылки к ее оригинальному создателю (точек соприкосновения между эстетиками Манна и Лимонова отнюдь не так много, что еще раз доказывает «витальность», способность этой эстетики к саморазвитию сродни самообучающейся компьютерной программе или мутирующему биологическому вирусу).
Также необходимым при написании этой работы оказалось привлечение методов философско-эстетического анализа, что, как нам кажется, отнюдь не противоречит изначальной литературоведческой направленности работы. Как писал в сборнике эссе «Священный лес. Эссе о поэзии и критике» (1920) Т.С.Элиот, в XX веке рассмотрение вопросов «чисто эстетических» уже невозможно, оно неизбежно смешивается с идеологией и т.д. Жан-Франсуа Лиотар же утверждал особую важность эстетики для изучения явлений нового и
9 Там же. С. 14.
новейшего времени, ибо «эстетика - модус той цивилизации, которую покинули идеалы»10, и является востребованной и современной, поскольку современная цивилизация «актуализирует свой нигилизм». В этом отношении эстетика также берет на себя некоторые функции философии, отчасти даже подменяя ее: «Если реальность эстетизируется, философия займется эстетикой, или даже станет эстетикой, - и останется дочерью своего времени» . Восприятие эстетики в подобном ключе кажется крайне продуктивным для анализа художественного мира Мисимы, который, признавая, что это может показаться странным, писал в эссе «Солнце и сталь» об императорском строе как об «основании моей эстетики».
Правда, в данном случае мы вряд ли имеем дело с эстетикой в том чистом виде, в котором ее воспринимали философы в 19 веке, а, скорее, с фрагментированной по различным рефлективным направлениям эстетической теорией. Это, в частности, эстетика политики, которая, надо заметить, стала в 20 веке чуть ли не общим местом - можно вспомнить эстетизацию политики у Брехта и Беньямина. О соединении политического и эстетического дискурсов у Жака Рансьера, например, сказано: «(...) по видимости несовместимые дискурсы: эстетический, постулирующий автономию самоопределяющегося искусства, и политический, видящий в искусстве всего лишь одну из форм коллективного опыта, - основаны на одном и том же режиме мысли (...). Результат: политическое ставится на эстетической сцене, и специфика эстетической мысли предлагает модели, которые годятся для осмысления политики (...)» .
Суммируя все вышесказанное, нам представляется вполне допустимым использовать эстетический аппарат в литературоведческой работе (как и саму эстетику для анализа политологических по сути построений писателей) и, в целом, междисциплинарный характер анализа.
Источниками, использованными при написании диссертации, стали художественные, публицистические, эссеистические и автобиографические
10 Лиотар Ж.-Ф. Anima Minima. II Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. СПб.; Москва:
Machina, 2004. С.85.
пТамже.С87.
12 Лапщкий В. Путешествие на край политики. // Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное.
СПб.; Москва: Machina, 2004. С.115.
произведения рассматриваемых авторов. При этом весь корпус написанных ими текстов (а творческое наследие всех трех авторов весьма и весьма объемно, постоянно дополняется новыми текстами - найденными учеными текстами Мисимы, только что вышедшими произведениями Лимонова и т.д.) хоть и учитывался, но для сравнения привлекались наиболее репрезентативные для данной темы произведения.
Научная литература. Анализ эстетической системы Мисимы в контексте европейской культуры потребовал обращения к самому обширному и разноплановому кругу научной литературы.
Из японских источников, непосредственно повлиявших на данное исследование, следует прежде всего назвать следующие книги: «Словарь Мисимы Юкио» Хасэгавы И. и Такэды К., «Легенда Мисимы Юкио» Окуно Т., «Мир Мисимы Юкио» Мурамацу Т., «О Мисиме Юкио» Тасаки К., «Мисима Юкио. Теория красоты и эроса» (сост. Сато X.), «Наследие писателей-самоубийц» Комацу С.
Из западных источников необходимо упомянуть следующие работы собственно по творчеству Мисимы, как «Бегство из пустыни. Романтизм и реализм в произведениях Мисимы Юкио и Оэ Кэндзабуро» С.Напиер, «Луна в воде. Изучение Танидзаки, Кавабаты и Мисимы» Г.Петерсона, посвященный Мисиме раздел в 3 томе «Истории Японской литературы» Д.Кина, а также две биографические книги о Мисиме - «Мисима. Биография» Дж.Натана и «Жизнь и смерть Мисимы Юкио» Г.Стоукса, в которых иногда можно найти сведения, не представленные у японского биографа Мисимы Окуно Т.
На русском языке, кроме вышеупомянутой вступительной статьи к переводам Мисимы Г.Ш.Чхартишвили, публикаций по теме данного исследования нам неизвестно.
Также при написании данной работы в том, что касается ее теоретической части, существенное влияние оказали работы таких теоретиков
Японские и англоязычные книги даны в нашем переводе за исключением тех случаев, когда дается ссылка на уже опубликованный на русском перевод книги. Несмотря на то, что уже после написания соответствующих частей данной работы вышли переводы трех романов «Море изобилия» Мисимы («Весенний снег», «Несущие кони» и «Храм на рассвете»), мы ссылаемся на японские издания данных романов. Кроме того, мы переводим название романа Мисимы «Хомба» как «Мчащиеся лошади», а «Акацуки-но тэра» как «Храм рассвета», тогда как переводчица Е.В.Стругова пользуется, возможно, более удачным словосочетанием «Несущие кони» в первом случае, а во втором предлагает трактовать название как «Храм на рассвете».
западной мысли, как Ж.Бодрийяр, У.Эко, Э.Сиоран, Р.Кауайя, Р.Барт, Ж.Делез, М.Фуко, В.Беньямин и др.
Научная новизна диссертации состоит в том, что она представляет собой первое в отечественном и зарубежном литературоведении комплексное исследование особенностей эстетики Мисимы, а также прослеживание генезиса генеральных тем данной эстетической системы на примере сравнения с эстетикой Т.Манна, и дальнейшей актуализации основных моментов этой эстетики в современной литературе на примере сравнения с эстетикой Э.Лимонова.
Оригинальность диссертации также состоит в обилии и разноплановости использованных источников, немалая часть которых впервые вводится в научный оборот или же слабо или совсем не изучена в отечественном востоковедении и в современном российском литературоведении. В исследовании проведен комплексный сравнительный анализ большинства тем эстетики Мисимы с соответствующими аспектами эстетических систем Т.Манна и Э.Лимонова, а также намечены важные на наш взгляд параллели эстетики Мисимы с различными европейскими и русскими эстетическими доктринами.
Научная значимость работы вытекает из важности для литературоведческих, востоковедческих, философских и культурологических исследований таких затронутых в ней проблем, как специфика восприятия красоты и ее воздействия на индивидуума, соотношение эстетики и этики, а также реализация темы смерти, самоубийства, трансценденции, революционности, телесности, религиозности и др. в творчестве рассматриваемых писателей, в прослеживании различных коннотаций и интертекстуальных связей, возникающих при исследовании данного круга проблем.
Многоаспектное исследование этих тем, а также выявление основных тенденций исторической трансформации рассматриваемого эстетического направления в мировой мысли и сравнительная характеристика его национальных особенностей в Японии, Европе и в России создают условия для всестороннего понимания особенностей эволюции эстетики данного типа и позволяют уяснить ряд фундаментальных эстетическо-культурологических закономерностей XX в.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее теоретические положения, а также сделанные в ней оценки и выводы позволяют выявить новые направления дальнейших исследований эстетической системы Мисимы. В то же время, содержащийся в диссертации фактический и аналитический материал может найти применение не только при написании обобщающих работ по творчеству Мисимы — многие разделы диссертации могут представлять интерес и для специалистов по исследованию Т.Манна и Э.Лимонова. Материалы диссертации также могут быть использованы в разработке учебных курсов, программ и пособий по специальности «литература народов стран зарубежья» и «востоковедение». Некоторые части исследования, на наш взгляд, могут также представлять определенный интерес для специалистов по философии (эстетике), культурологии и политологии.
Данная работа представляется актуальной также потому, что вводит в научный оборот весьма значимые для понимания художественного мира Мисимы, но до сих пор так и не переведенные на русский язык произведения Мисимы. В работе также использованы японские и англоязычные теоретические исследования творчества Мисимы и японской литературы, вопрос о переводе которых на русский, кажется, даже и не рассматривается нашими книгоиздателями.
Кроме того, эта работа, являющаяся логическим продолжением нашей магистерской диссертации «Тема прекрасного в творчестве Мисимы Юкио», посвященной анализу эстетической системы Мисимы и особенностей его нарратива, представляет собой достаточно полное на наш взгляд изучение наследия японского писателя и могла бы в будущем послужить материалом для различных публикаций и стать основой монографии по его творчеству.
Апробация работы. По теме диссертации опубликованы тезисы доклада и ряд статей. Обширность круга поставленных в работе проблем и отсутствие комплексных исследований, посвященных избранной теме, обусловили необходимость апробации отдельных разделов и материалов диссертации. В частности, проблематика исследования нашла свое отражение в докладе «Эстетика Мисима Юкио» на Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов» (Москва, 2002 г.). Отдельные разделы работы были использованы при чтении лекций в рамках
спецкурса «Тема смерти в современной японской литературе» для студентов ИСАА при МГУ.
Актуальность исследуемой темы позволила также опубликовать материалы диссертации в виде статей («Муравей 2002. Конкурс на лучшую студенческую работу в области китайской и японской филологии. Сборник тезисов», «Восток. Экономика, история, филология», «Новое литературное обозрение» и др.).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. В первой главе дается краткий очерк особенностей эстетической системы Мисимы, во второй и третьей проводится сравнение эстетики Мисимы с эстетикой Т.Манна и Э.Лимонова соответственно.
Работа строится по проблемно-хронологическому принципу. Структура глав работы различается: так, нам показалось более продуктивным и экономным в плане привлекаемых для исследования материалов применить разные принципы анализа в разных частях работы: сравнение отдельных произведений во второй главе и выделение с последующим сравнением отдельных тем в третьей главе.
Эстетика Мисимы Юкио
Прежде, чем обратиться непосредственно к сравнению выбранных нами авторов, имеет смысл дать краткий очерк эстетики одного из самобытнейших писателей 20 века, к которому можно было бы применить шестовский термин «философ трагедии»1, Мисимы Юкио (1925-1970). Назвать Мисиму самобытным с полным на то основанием можно, как нам кажется, по многим причинам, при чем безусловно яркая, отчасти эпатирующая биография писателя играет здесь отнюдь не главную роль. Вообще, яркость и своеобразность жизненного пути этого писателя имела на наш взгляд отчасти негативное влияние на последующую интерпретацию его творчества, - жизнь Мисимы как будто затмевает его произведения, его личностная неординарность дает повод для не всегда обоснованных оценок его творчества, а иногда и для откровенных инсинуаций, основанных лишь на поверхностной трактовке отдельных его произведений. Хотя, надо признать, жизнь Мисимы, озабоченного «примериванием различных масок», дает для этого основания.
Родился Мисима (настоящее имя - Хираока Кимитакэ) 14 января 1925 года во вполне состоятельной семье чиновника Министерства сельского хозяйства и лесных угодий. В отличие от творимой им о себе легенды, род Мисимы не был самурайским. Детство писателя дает достаточно много оснований для различных фрейдистских трактовок его последующего творчества: до 12 лет почти полная изоляция от сверстников и родителей в одной комнате с больной и истеричной бабкой, властный отец. Не без помощи деда, бывшего губернатора Южного Сахалина, Кимитакэ поступает в Школу Пэров (Гакусюин) - привилегированное учебное заведение для аристократов. Закончил он ее в 1944 первым из всего выпуска, за что получил из рук императора часы в подарок. Учеба на юридическом факультете Токийского университета и служба в Министерстве финансов давали юноше возможность построить блестящую карьеру. Но на службе Мисима продержался всего восемь месяцев, предпочтя - не без конфликтов с отцом — писательское поприще. Писать и публиковаться - во многом благодаря Кавабаты Ясунари, который стал для него литературным мэтром, - Мисима начал очень рано, и также рано пришла к нему слава. Первый же роман «Исповедь маски» («Камэн-но кокухаку», 1949) становится по тем временам настоящим бестселлером, даже несмотря на довольно эпатирующее содержание — откровенное повествование о подростке, alter-ego самого Мисимы2, одержимого жаждой смерти вкупе с гомосексуальными и садомазохистскими фантазиями. После этого один за другим выходили и экранизировались его романы, ставились спектакли по его пьесам. Мисима много путешествовал - сильнейшим эстетическим впечатлением стала для него поездка в Грецию. Судьба вообще была благосклонна к Мисиме - слава, номинации на Нобелевскую премию, красавица-жена, роскошный дом в Токио и т.д. Репутацию утонченного светского льва лишь подчеркивали его увлечение Западом и слухи о его гомосексуальных наклонностях, так никогда точно и не подтвердившиеся (с одной стороны, Мисима тщательнейшим образом «подавал» публике лишь им самим для своей биографии отобранные факты, с другой - его гомосексуальность могла быть лишь одной из «масок»).
Но Мисима всегда сам хотел творить свою судьбу (или биографию), поэтому он резко меняет весь свой жизненный уклад. Из западника он становится ревнителем всего японского, из эстета - милитаристом, а из своего довольно хлипкого от природы тела с помощью плавания, культуризма и занятий кэндо (фехтование бамбуковым мечом) делает «произведение искусства» в духе античных статуй. Отныне все его творческие интенции посвящены возрождению традиционных японских идеалов в духе бусидо (средневекового самурайского кодекса) и культа императора. В 1968 Мисима создает собственную «маленькую армию» - военизированное «Общество щита» (Татэ-но кай) из студентов престижных университетов. Завершив венчающее все его творчество «Море изобилия» («Хо:дзё:-но уми», 1965-1970), Мисима совершает то, к чему уже давно призывал в своих произведениях — Действие. Таким действием становится для писателя и нескольких его единомышленников из «Общества щита» захват 25 ноября 1970 года одной из токийских баз сил самообороны.
Тема красоты у Томаса Манна и Мисимы Юкио. Эстетика и этика
Первое, что бросается в глаза при сравнении эстетических систем Манна и Мисимы, это то, что образы прекрасного у Манна наделены теми же свойствами и качествами, что и впоследствии у Мисимы, а сама красота оказывает на героев в целом то же воздействие, что и на героев Мисимы в его произведениях. Красота у Манна является чрезвычайно мощной по своему воздействию на героев силой, воздействие же это в большинстве случаев сугубо отрицательное. Красота притягивает, завораживает, пленяет героев, полностью лишает их собственной воли, провоцирует их на служение себе, искажает их представления о нравственности, разрушает их личность и в итоге чаще всего губит.
Тема красоты, как это будет и в эстетике Мисимы, тесно связана с темой смерти: контакт с субъектом прекрасного вызывает желание либо убить этот агент прекрасного, либо убить себя. Как и в эстетике Мисимы, красота у Манна полностью захватывает, подчиняет себе человека, отнимает у него власть над собственной экзистенцией. При этом, однако, если герои Мисимы всегда были властны над своей смертью, могли убить себя или субъект прекрасного, то у Манна они часто лишены и этого права, что дает основание говорить о том, что воздействие красоты на героев у Манна даже сильнее, чем у Мисимы.
Здесь мы хотели бы рассмотреть три небольшие новеллы, написанные Манном в 1897 году, а именно «Маленький господин Фридеман», «Луизхен» и «Паяц». Эти новеллы характерны тем, что в них впервые заявлена тема красоты, отношения между ней и попавшим под ее влияние индивидуумом, а также трагический исход этих отношений. В новелле «Луизхен» показана своеобразная картина отношений между супругами. Муж, адвокат Якоби, безумно влюблен в свою супругу, Амру. С первых страниц внимание читателя всячески акцентируется на некрасивости, неуклюжести, уродстве мужа. Мотив уродливого человека, испытывающего своеобразный комплекс недостатка красоты, который он пытается компенсировать за счет приобщения к чужой красоте, неоднократно встречается у Мисимы — это некрасивый послушник Мидзогути, влюбленный в прекрасный храм, в «Золотом храме», это уродливый старик Хонда, испытывающий нездоровое влечение к молодой и прекрасной принцессе Дзин Дзян, в «Храме рассвета» и, наконец, пожилой Сюнсукэ, влюбленный в совершенного юношу Юити, из «Запретных цветов». Все эти персонажи пытались приблизиться к своему воплощению прекрасного, и если даже он не разделял их чувств, то хотя бы находясь в непосредственной близости от прекрасного, таким образом приобщиться к нему. Красота же, привязав их к себе, не открывалась им, заставляя их страдать. Ту же ситуацию мы видим и в этой новелле. Амри, жена Якоби, не только равнодушна к своему мужу, но и изменяет ему, заставляя его страдать.
Впрочем, полное доминирование над супругом не удовлетворяет Амру -для нее характерно желание садистски травмировать своего супруга. Она придумывает организовать вечер за городом для друзей с праздничным любительским концертом, в ходе которого ее супруг исполнит комический номер - споет дурацкую песенку, переодевшись в женское платье. Во время исполнения этого номера, против которого он возражал и на который согласился лишь из страха перечить своей супруге, он вдруг понимает то, что известно всем присутствующим в зале, а именно - что песенку для этого номера сочинил любовник его жены, вместе с которым она сейчас аккомпанирует ему. Это открытие столь мучительно, что Якоби не выдерживает его - с ним случается удар, он умирает . Эта смерть «обогащает» палитру взаимоотношений между субъектом красоты и ее поклонником, используемую Манном и заимствованную у него Мисимой, доводит страдания, причиняемые красотой, до предела. Герои Мисимы в подобной ситуации, когда все другие пути приобщения к красоте оказывались тщетными, чаще убивали себя или в акте мщения убивали прекрасное. Здесь же герой никого не убивает, а умирает сам - можно сказать, что он пал жертвой субъекта красоты, что тот убил его. Это символизирует генеральную тенденцию отношений между субъектом и объектом красоты: если у Мисимы вектор отношений бьш направлен от индивидуума к красоте, а красота чаще всего была равнодушна, самодостаточно, пассивна (как вещь в себе) и вообще трансцендентна этому миру, то у Манна вектор отношений обоюден, красота достаточно часто влияет на героя не только косвенно, но и прямым образом.
В новелле «Маленький господин Фридеман» мы видим еще один пример отношений между субъектом прекрасного и зависимым от него объектом, выстраиваемых по такой же схеме и заканчивающихся сходной трагедией. Главный герой, Иоганнес Фридеман, так же, как и адвокат Якоби, уродлив (он горбун и почти карлик). Уже в школьные годы он испытал первые мучительные ощущения при попытке контакта с прекрасным - девушка, в которую он был влюблен, на его глазах поцеловала другого: после этого герой обещает себе не увлекаться «ничем подобным». И довольно долгое время герою удается сдержать данное себе слово, игнорировать чувственный мир красоты. Однако когда в городе появляется молодая жена присланного властями нового городского чиновника, он не может совладать с собой. Он влюбляется в нее — как сказано у Манна, он «бьш неволен в этом» : «и вот пришла эта женщина, она неминуемо должна была прийти, это была его судьба, она сама была его судьбой, она, она одна! Разве он не предчувствовал этого с первого же мгновения?
Биография Эдуарда Лимонова
Сравнение эстетик Мисимы Юкио и Эдуарда Лимонова кажется оправданным уже при поверхностном знакомстве с произведениями обоих писателей. Но если знать, что Мисима является одним из любимых писателей Лимонова, что он прекрасно знаком как с творчеством, так и с биографией Мисимы, и чуть ли не во всех его книгах можно найти упоминания о Мисиме, то такое сравнение будет еще более обоснованным. Не будет преувеличением сказать, что Лимонов является своеобразным «продолжателем дела Мисимы», потому что он не только использует в своем творчестве элементы художественной системы Мисимы, но и развивает их, идет дальше по тому пути, по которому шел Мисима. К тому же, мы можем говорить О действительно органичном сходстве обоих писателей постольку, поскольку общность у них обнаруживается не только в творчестве, но и в жизни.
Говоря о творческом сходстве двух писателей, можно выделить как общие моменты такие важные элементы в их прозе, как эстетика молодости, прекрасного тела, войны, смерти и т.д. Говоря же о биографической общности, важно отметить не только такие внешние переклички, как увлечение западничеством в начале жизни, латентную гомосексуальность, скандальный имидж «неудобного писателя» на своей Родине, популярность за границей, увлечение национализмом и попытка революционного восстания, но и такие более важные внутренние мотивы сходства, как уравнивание творчества и биографии, снятия какого-либо противоречия между ними, стремление самому творить свою биографию и творить ее прежде всего в соответствии с идеалами своей эстетической системы.
Мне кажется, что Лимонову все до фени. Кроме себя. Он очень талантлив. Внутри очень одинок. Он проник в гущу интереснейших событий. Не завидую никому, кто попадет в поле его зрения: тот будет выведен в его романе со всей подноготной. То, что он напишет, будет пользоваться на Западе бешеным успехом. Но я мало верю в то, что Лимонов - приверженец какой-либо политической идеи. Разумный, циничный, саркастичный человек...
Упомянув роль биографии в творчестве обоих писателей, не лишним будет начать их сравнение с биографии Эдуарда Лимонова, поскольку, как уже было сказано, для него, как и для Мисимы, мотив жизнетворчества (так называемая философия self-made man) был крайне важен. Так, например, известно высказывание Дональда Кина про Мисиму, что «лучшим произведением Мисимы был он сам», про Лимонова же современный критик сказал в целом сходное: «Пожалуй, именно Лимонов довел до формального совершенства имиджевую политику писателя, который умеет щеголять политическими взглядами самых разных цветов и оттенков и именно благодаря этому является успешнейшим менеджером самого себя» . К тому же здесь имеют место оба аспекта жизнетворчества - как в социальном смысле, так и в смысле самосочиненности биографий. Оба эти аспекта между тем не характерны для образа российского писателя, что выразил Ярослав Могутин, для которого Лимонов «Национальный герой (...), он - Личность, какой в русской литературе не было и нет»3. А известный литературовед Сергей Чупринин в своем словаре «Литература сегодня: Жизнь по понятиям» пишет — хоть и в негативном ключе - о Лимонове в словарной статье к выражению «властитель дум».
Эдуард Лимонов (настоящее имя - Савенко) Родился 22 февраля 1943 г. в городе Дзержинск (Черноречье) Горьковской (Нижегородской) области в семье военного и домохозяйки; был единственным ребеноком в семье. В детств хорошо учился, интересовался ботаникой, географией, историей. Свое детство с теплотой описал в романе «У нас была великая эпоха» (1988). Свои молодые годы провел в Харькове, где сблизился с местной «шпаной» и даже участвовал в ограблениях магазинов (роман «Подросток Савенко», 1983). С 1963 г. сменил множество работ: работал сталеваром, монтажником-высотником, портным, книготорговцем. В 1958 году начал писать стихи. Этот период своей жизни позже описал в романе «Молодой негодяй» (1986).
В 1966 г. вместе со своей гражданской женой Анной Рубинштейн (художница в экспрессионистском стиле, повесилась в 1990 г.) приехал «завоевывать» Москву. Жил без прописки, за год похудел на 11 килограммов, для заработка подрабатывал портным. «Покорение» столицы не состоялось.
В 1967 г. приехал в Москву вторично. Познакомился с московским литературным андеграундом: Арсением Тарковским, Венедиктом Ерофеевым, Леонидом Губановым, Игорем Ворошиловым и др. В 1968-1969 гг. начал писать короткие авангардные рассказы. Издал пять самиздатских сборников своих стихов, устраивал чтения стихов («квартирники»). Самый известный поэтический сборник, изданный уже в Америке, «Русское» (1979). В 2003 в московском издательстве «Ультра.Культура» вышел наиболее полный сборник поэзии Лимонова «Стихи».