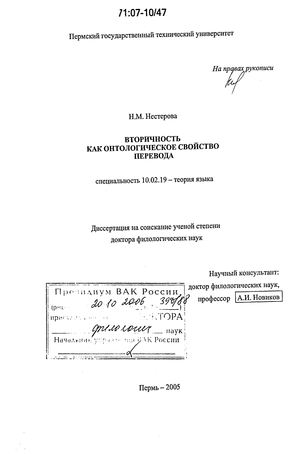Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. «Текстуализация» мира и сознания, или Текст в зеркале современных философских парадигм 19
1.1. Дихотомия «текст/реальность»: новая парадигма 19
1.2. Философские истоки новой концепции текста 27
1.3. Постмодернизм: философия и метод 35
1.4. Семиотическая триада «язык - текст - культура» 44
1.5. Проблема смысла. Концепт смысла в постмодернизме 51
1.6. Интертекстуальность как базовая категория постмодернизма 78
ГЛАВА 2. Категория вторичности в текстопорождении 91
2.1. Вторичность как онтологическое свойство сознания и текста 91
2.2. «Первичный» и «вторичный» как универсальные категории 99
2.3. Вторичный текст: определение и классификация 102
2.4. Особенности порождения вторичного текста: когнитивная модель 116
2.5. Специфика перевода как вторичного текста 128
2.6. Особенности порождения текста перевода: «промежуточное звено» в процессе перевода 132
2.7. Типология текстов как лингвистическая и переводоведческая проблема 146
ГЛАВА 3. Перевод/оригинал: философия межтекстовых отношений 157
3.1. Перевод как объект междисциплинарных исследований 157
3.2. Перевод: «старые» и «новые» вопросы 165
3.3. История науки о переводе как история отношений оригинала и перевода 172
3.4. Оригинал и перевод: аффирмативная связь 191
3.5. Текст оригинала: язык и автор 196
3.6. Текст перевода, или «набор букв, из которых вынули дух» 210
ГЛАВА 4. Буквальный и вольный переводы как различные стратегии интерпретации ориганала 237
4.1. Переводческий дуализм: foreignization и/или domestication 237
4.2. Буквальный перевод как сохранение «природы чужого языка» 241
4.3. Аналитический перевод, или постмодернизм в переводе 251
4.4. Вольный перевод, или «искажение оригинала как гарантия соответствия ему» 263
4.5. Интертекстуальная модель перевода 280
4.6. Вторичность как абсолютное и относительное свойство перевода 297
Заключение 321
Библиографический список 330
Приложение 361
- Дихотомия «текст/реальность»: новая парадигма
- Вторичность как онтологическое свойство сознания и текста
- Перевод как объект междисциплинарных исследований
- Переводческий дуализм: foreignization и/или domestication
Введение к работе
Во второй половине XX века, на рубеже столетий и тысячелетий в гуманитарном познании мира и человека происходит смена парадигм, создаются новые модели исследования, объединяются различные научные направления, образуются новые. Возрождение античной традиции, где
^ лингвистика была «частью» философии, можно сегодня наблюдать в отношениях между лингвистикой и философией. Эти науки снова встречаются и «взаимозаряжаются»: философия становится в значительной мере лингвистической, а лингвистика - философской. Такое объединение лингвистики и философии произошло благодаря «лингвистическому повороту» (linguistic turn), в результате чего сложилась панъязыковая картина
^ мира и произошло то, что можно назвать «текстуализацией» мира и сознания.
Понятие текста приобретает очень широкое толкование: природа и слово
перекрещиваются, «как бы образуя для умеющего читать великий и единый
текст», - отмечает один из столпов французского постмодернизма Мишель
Фуко [Фуко 1977, 81]. як
Этимологическое значение слова «текст» позволяет выделить три
составляющие этого понятия: l)textus (лат.) - ткань, одежда, связь,
соединение, строение, слог, стиль; 2)textus - сплетение, структура, связное
изложение; 3) texo - ткать, сплетать, сочинять, переплетать, сочетать. Из всех
этимологических «корней» этого слова сегодня наибольшее развитие получает
Щ значение «пере- и/или с- плетения», а также близкое к нему «соединение».
Может быть, благодаря своей семантике, Текст и стал символом объединения
всех гуманитарных наук, «главной фигурой» в современном гуманитарном
дискурсе.
Понимание мира как текста, как книги уходит корнями в далекое
прошлое. Метафора «книга жизни» - одна из наиболее древних и дискурсивно
освоенных. Уже в Апокалипсисе мы читаем: «И небо скрылось, свившись, как свиток». В известной работе М. Фуко «Слова и вещи. Археология гуманитарных знаний» утверждается, что «еще до Библии и всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность, так что эти знаки могли непосредственно воздействовать на вещи, привлекать их или отталкивать, представлять их свойства, достоинства и тайны. Это изначальная письменность природы» (выд. наше - Н.Н.) [Фуко 1994,75].
Книга жизни (или книга природы) - метафора очень знаковая, поэтому,
l видимо, нужно считать закономерным, что она получает такое глубокое
толкование в XX веке и, в конце концов, перестает быть метафорой и
становится научной парадигмой. Эта новая парадигма обратила реальность в
знаковую систему, поставив ее в один ряд с языком, текстом и культурой.
Понятие парадигмы связано с понятием научного сообщества и школы.
Названная текстовая парадигма связана, в первую очередь, с французской
w семиотикой XX века и с такими именами, как К. Леви-Стросс и А.-Ж. Греймас,
Ж. Женетт и Ц. Тодоров, Р. Барт и Ю. Кристева, М. Фуко и Ж.-Ф. Лиотар,
Ж. Делез и Ж. Бодрийяр, и конечно, Ж. Деррида. Сегодня эти имена тоже
можно «читать» как тексты, тексты-символы. Ж. Деррида принадлежит
известное утверждение «Нет ничего кроме текста», которое и есть логическое т
развитие старой метафоры «книга жизни», а К. Леви-Стросс сформулировал
хорошо известное допущение о структурном подобии языка и культуры, что
привело к пониманию культуры как текста и к возможности переноса
лингвистических методов в область культурологических и антропологических
исследований.
% В результате понимания (теперь уже не метафорического, а научного)
мира как текста Автора сменил Читатель, т.е. интерпретатор. Этот «текстовый»
поворот привел и к концептуальному переосмыслению феномена перевода,
который, как и текст, получает весьма расширенное толкование: он начинает
осознаваться не только как средство межъязыкового общения, но и как
универсальный механизм нашей речемыслительной деятельности, позволяющий нам читать «великий и единый текст». Перевод, как и текст, оказывается в центре внимания не только лингвистики, но и других наук -прежде всего, философии и культурологии.
Взгляд на мир сквозь призму Текста вызвал необходимость пересмотреть многие вопросы. Круг этих вопросов широк, но в данной работе мы рассматриваем те, которые представляются наиболее принципиальными с точки зрения проблематики перевода. К ним относятся проблема категории интертекстуальности и вторичности в текстообразовании, статус текста перевода как вторичного, проблема смысла, понимания и интерпретации. Главным же вопросом для нас является специфика межтекстовых отношений между оригиналом и переводом как в диахроническом, так и в синхроническом срезах.
Как известно, наука о переводе считается одной из самых молодых. Ее рождение принято связывать с развитием прикладной лингвистики и с идеей машинного перевода. Поэтому не случайно, что именно лингвистика перевода и считалась традиционно общей теорией перевода. «Теория перевода: статус, проблемы, аспекты» - такое название дал своей книге, вышедшей в 1988 году, крупнейший отечественный переводчик и переводовед А.Д. Швейцер. Данную книгу можно считать своего рода теоретическим «итогом» лингвистического исследования перевода, обобщением как основных концепций, имеющихся в науке о переводе в конце XX века, так и центральных проблем переводоведения. Тогда, более пятнадцати лет назад, в центре внимания исследователей, как отмечает автор, были «такие важные вопросы, как эквивалентность и ее типы, процедура и стратегия перевода, перевод как коммуникативный акт, прагматика перевода» [Швейцер 1988, 4]. Перечисленные вопросы, а также фундаментальные проблемы, волновавшие еще «пионеров переводоведения», а именно: сущность перевода, переводимость, адекватность перевода и другие, - могут быть, без сомнения,
названы «вечными» вопросами науки о переводе. «Вечность» их объясняется ненаблюдаемостью перевода, его неуловимостью, с одной стороны, и отсутствием единого представления о переводе, его онтологии, с другой стороны. В 1956 году английский лингвист Джон Р. Фёрс писал: «Существование перевода является серьезным вызовом лингвистической теории и философии. Знаем ли мы, как мы переводим? Знаем ли мы хотя бы, что мы переводим? Если бы мы могли ответить на эти вопросы в строго научных терминах, мы значительно продвинулись бы вперед по пути создания новой всеобъемлющей общей теории языка и базы для философских обобщений» [Фёрс 1978,35].
К тому моменту уже не одно поколение тех, кто задумывался об уникальном феномене перевода, пыталось ответить на эти онтологические вопросы. Попытки эти продолжаются и сейчас, приобретая все более и более интенсивный характер. Непосредственно с этими двумя вопросами связаны и основные переводческие дихотомии: оригинал/перевод, автор/переводчик и извечный дуализм буква/дух. Казалось, что в традиционной лингвистической теории акценты в названных дихотомиях были расставлены: «примат» оригинала и его автора и, соответственно, «зависимое» положение текста перевода и переводчика, а также «торжество духа над буквой».
В современной науке о переводе, основной характеристикой которой можно назвать политеоретичность, вышеназванные проблемы находят иную интерпретацию, и то, что казалось «решенным», снова становится вопросом. Все, кто сталкивался с переводом, особенно с автопереводом, должны были понять то, что понял, например, К. Леви-Стросс, написавший в «Предисловии к французскому изданию» сборника своих трудов «Структурная антропология»: «При подготовке данного сборника я столкнулся с трудностью, на которую мне бы хотелось обратить внимание читателя. Многие из моих статей были написаны на английском языке и нуждались в переводе. В ходе работы я сам был поражен тем, насколько различны стиль и порядок изложения в статьях на
том или другом языке. <...> Это различие, разумеется, отчасти объясняется социологическими причинами: при обращении к французскому или англосаксонскому читателю изменяется как образ мышления, так и манера изложения мыслей» (выд. наше-Н.Н.) [Леви-Стросс 2001,5-6].
Свидетельств о трудностях перевода, подобных приведенному, можно найти бесконечное количество. Перевод как один из феноменов человеческой деятельности и культуры являлся и является предметом размышлений литераторов, переводчиков, философов, лингвистов в результате родились почти афористические суждения о переводе. Причиной и источником поражающей воображение разноречивости суждений о переводе является та самая проблема, которая обозначена Леви-Строссом как проблема «образа мышления» и «манеры изложения мыслей», и связанная с ней непосредственно проблема понимания чужого образа мышления, чужой манеры изложения и овладения ими, что и есть перевод.
Таким образом, перевод - это точка пересечения, в которой сходятся все (практически без исключения) проблемы языка и мышления, языка и культуры, национального и индивидуального в концептуальной и языковой картинах мира, проблемы* жанра и стиля, текстопорождения и текстовосприятия, проблемы текста и интертекста, первичности и вторичности текстовой деятельности и самого текста, проблемы творческого и стереотипного в мышлении и речепорождении. И это, вероятно, еще не весь спектр проблем, которые можно увидеть в феномене перевода. Изменение статуса перевода как объекта исследования на рубеже XX - XXI веков нашло свое выражение в том, что наука о переводе из лингвистической превратилась в по-настоящему междисциплинарную, и сегодня трудно назвать гуманитарную науку, которая осталась бы совсем «равнодушной» к переводу, не нашла бы своей «точки приложения» в нем.
Для антропоцентрической ориентации научного знания перевод можно считать «идеальным» объектом в изучении речемыслительной деятельности,
т.к. перевод - это различного рода оперирование языковыми и культурными знаками, их эквивалентность и их различие, дискурсивная практика, языковая игра, конструкция и деконструкция. Перевод - это диалог и конфликт сознаний, это автор и читатель, это говорящий и слушающий, это взаимодействие и взаиморазвитие культур и, наконец, это путь к мировой культуре. Такая феноменологическая глобальность перевода не могла не породить многообразие подходов к пониманию и интерпретации понятия «перевод».
Доминирующими парадигмами, в рамках которых сегодня перевод исследуется особенно интенсивно, можно назвать две, одновременно противоборствующие и дополняющие друг друга - лингвистическую и философско-культурологическую. Первая из них - это классическая (традиционная) теория перевода, в рамках которой были сделаны попытки «поверить алгеброй гармонию», дать математически строгое (насколько это возможно) описание и объяснение перевода как «соотнесенного функционирования языков». Именно такое лингвистическое представление о переводе лежит в основе теории закономерных соответствий Я.И. Рецкера, уровневой теории эквивалентности В.Н. Комиссарова, в основе многочисленных пособий по переводу («техник» и «технологий»). Основным методом исследования в лингвистической парадигме является сравнительно-сопоставительный анализ единиц тех языков, которые задействованы в той или иной ситуации перевода, анализ подобия и различия данных языковых элементов. И тут нельзя не согласиться с В.Н. Комиссаровым, который писал: «Перевод являет собой гигантский естественный лингвистический эксперимент, в ходе которого языки и их элементы приравниваются, заменяют друг друга в процессе общения. В основе его лежит важнейший принцип частичной общности или подобия, который, наряду с принципом оппозиции, может по праву считаться краеугольным камнем языковой структуры. Смысловая эквивалентность единиц разных языков, выявляемая в процессе
перевода, дает богатый материал для изучения этого принципа в системной организации языка» [Комиссаров 1980,5].
Однако лингвистическая теория, став своего рода классической, в конце прошлого века стала оспариваться философским, герменевтическим, культурологическим подходами к пониманию проблем перевода, в результате чего сформировалась вторая из вышеназванных парадигм. В рамках этой парадигмы и произошло переосмысление таких ключевых вопросов науки о переводе, как статус автора и переводчика, статус порождаемых ими текстов и их отношений. Провозглашенная М. Фуко и Р. Бартом так называемая «смерть автора» сделала переводчика «свободным». Из «раба» он превратился в подлинного автора, точнее, «манипулятора», в руках которого находится жизнь и судьба оригинала. Поменялись на противоположные и роли текстов оригинала и перевода. Все это не могло не отразиться на понимании категорий первичности и вторичности в текстопорождении вообще и в переводе, в частности.
Итак, с одной стороны, есть достаточно традиционное понимание перевода как вторичной (репродуктивной) текстовой деятельности и, соответственно, текста перевода как вторичного, «несамостоятельного», текста - «двойника/копии» оригинала. С другой стороны, мы имеем свидетельства переводчиков, подчеркивающих творческий характер переводческой деятельности, которая имеет ту же притягательную силу, что и творчество авторское, позволяющие говорить о весьма относительной вторичности перевода. Художественная задача, стоящая перед переводчиком, не менее (если не более) сложна, чем та, которую ставит перед собой автор. В. Брюсов, будучи сам блестящим переводчиком, считал, что «поэтов, при переводе стихов, увлекает чисто художественная задача: воссоздать на своем языке то, что их пленило на чужом, увлекает желание - «чужое вмиг почувствовать своим», - желание завладеть этим чужим сокровищем» (выд. наше - Н.Н.) [Брюсов 1987,292-293].
Есть, значит, в переводе то особое искушение, перед которым трудно устоять, есть нечто, что роднит его с подлинным авторским творчеством. Есть что-то общее в процессах создания текста «вторичного» и «первичного». И в то
же время есть определенное таинство в процессе перевода, раскрыть которое до пор никому не удалось, но невозможно и отказаться от таких попыток, которые становятся все интенсивнее и интенсивнее. Сегодня перевод является объектом самых различных по направленности исследований -лингвистических, семиотических, литературоведческих, культурологических,
л философских и пр. Сложность феномена перевода привела исследователей, с одной стороны, к множеству концепций, с другой - к пониманию «неисчерпаемости» проблем и вопросов, возникающих при изучении перевода. В связи с названной сложностью и неисчерпаемостью перевода как объекта изучения особую актуальность приобретает исследование именно его онтологии. Данная работа и представляет собой попытку осмысления одного
I из важнейших онтологических свойств перевода, каким, бесспорно, является вторичностъ.
Объектом исследования является перевод как универсальный семиотический процесс, составляющий суть речемыслительной деятельности, и межъязыковой перевод как один из его видов. В качестве предмета исследования выступает вторичность как одно из основных онтологических свойств переводческой деятельности и текста перевода. При этом вторичность рассматривается и как общетекстовая категория, и как категория, позволяющая выделить определенный типологический корпус текстов и назвать их вторичными. На этом основании анализируются специфика текста
'ф перевода по сравнению с другими вторичными текстами и межтекстовые отношения между оригиналом и переводом как первичным и вторичным текстами.
Цель работы заключается в исследовании онтологии перевода как вторичной текстовой деятельности (и в связи с этим философии межтекстовых
отношений в паре оригинал/перевод) и в создании интегральной модели перевода на основе современных философских концепций текста и перевода.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
проследить и выявить философские корни современной концепции текста и охарактеризовать современное представление о феномене текста;
рассмотреть первичность и вторичность как универсальные категории и как категории текста, выявить специфику перевода как одного из видов вторичного текста;
проанализировать особенности порождения первичного и вторичного текстов с целью выявления общего и различного в механизмах порождения;
4) оценить современное состояние науки о переводе, выявить ее основные
направления, определить особенности подходов к изучению перевода в рамках
новой парадигмы;
рассмотреть историю отношений оригинал/перевод в практике и теории перевода с целью выявления природы этих отношений;
провести сопоставительный анализ концепций вольного и буквального методов перевода и их практических реализаций (на примере конкретных текстов переводов), исследовать философские корни буквального перевода;
выявить особенности вторичности текста перевода в зависимости от типа текста, метода перевода и личности переводчика;
предложить модель перевода на основе современного представления о тексте и интертекстуальном пространстве;
проанализировать диалектику вторичности перевода, ее абсолютность и относительность.
В силу того, что работа носит теоретический характер, материалом для критического анализа послужили имеющиеся сегодня теоретические концепции текста, концепции и классификации вторичного текста и его связей с первичным, основные современные теории перевода. В качестве материала
для практического анализа и иллюстрации теоретических положений были
использованы тексты оригиналов (А.Милна, Р.Бернса, Л. Кэрролла,
У. Шекспира, И. Гете, Э. По, А. Пушкина, И. Бунина, В. Набокова, А. Кристи і 1 и др.) и их переводов.
Методологическая основа исследования была выбрана исходя из
основного методологического принципа современной науки, которым, как
известно, является плюрализм. Плюрализм исключает монополизм из
концептуальной сферы любого исследования, находя выражение в
л координации различных научных подходов, что ведет к объемному, голографическому видению изучаемого предмета. В связи с этим методологическая основа диссертации политеоретична. Прежде всего исследование базируется на философии XX века, представленной феноменологией Э.Гуссерля, онтологией М.Хайдеггера, герменевтикой X.-Г. Гадамера, французским постструктурализмом Р. Барта, Ю. Кристевой,
Г аналитической философией Г. Фреге и Б. Рассела, Дж. Сёрла и Дж. Остина, лингвистической философией Л. Витгенштейна и постмодернизмом Ж. Деррида, М.Фуко, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Делёза, Ж. Бодрийяра, Э. Фуко. Из названных философских парадигм наиболее значимым для данной диссертации является постмодернизм, поскольку именно он завершил формирование нового взгляда на текст, его порождение и прочтение. Основные положения постмодернизма, касающиеся феномена текста, его порождения и восприятия, позволяют по-новому увидеть и феномен перевода, понять его интертекстуальную природу. В качестве отечественной интерпретации философии постмодернизма в работе использовалась философия текста
Щ В. Руднева. Кроме того, исследование проводилось с опорой на теорию смысла А.И. Новикова, а также теорию смысла и понимания, представленную в трудах Р. Павилёниса, С.С. Гусева, Г.Л. Тульчинского, В.П. Филатова и других отечественных философов. Для анализа современного состояния науки о переводе и ее основных проблем был использован достаточно большой
корпус работ современных западных исследователей, среди них Е. Gentzler, Т. Hermans, J. Holms, S. Bassnett, A. Lefevere, G. Toury, M. Baker, L. Venuti и др. Данная основа определила логику и стратегию исследования, сделав его многоаспектным и междисциплинарным.
Для исследования были использованы следующие методы: 1) критический анализ теоретических работ по философии постмодернизма и теории перевода; 2) семантический сопоставительный анализ оригинальных и переводных текстов; 3) контрастивно-семантический анализ переводных соответствий. Для соотнесения методов перевода с его вторичностью был использован аналитико-дискурсивный метод.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые вторичность как онтологическое свойство перевода становится предметом исследования. Как правило, текст перевода считается вторичным ex deflnitione, и в исследованиях перевода его вторичность только декларируется, но не подвергается анализу. Новизна данной работы заключается также в том, что в ней перевод рассматривается в зеркале новой философской парадигматики, где вторичность понимается как проявление интертекстуальности, являющейся абсолютной характеристикой процесса текстопорождения. Впервые сделана попытка рассмотреть вторичность как феноменологическую категорию в текстопорождении в целом и на этом фоне выявить особенности вторичности перевода. Новым является и обращение к философии - межтекстовых отношений оригинала и перевода, к их динамике и к диахроническому аспекту этих отношений. К новизне также можно отнести и сопоставление двух методов перевода (вольного и буквального) как принципиально различных стратегий интерпретации исходного текста, ведущих к онтологически различным видам вторичности.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в концептуальном переосмыслении онтологической сущности перевода как вторичной текстовой деятельности, что ведет к кардинальному изменению
представления о роли перевода в формировании межтекстовых связей, образующих интертекстуальное пространство. Предлагается концептуально новая формализованная модель перевода, в которой процесс перевода описывается в терминах функциональной зависимости, позволяющей представить перевод в общем и частном виде. Данная модель открывает возможность создания нового направления в исследовании перевода в рамках теории интертекстуальности. Кроме того, для понимания природы вторичности перевода в работе дается расширенное представление о переводе и современных направлениях в его исследовании, рассматриваются такие проблемы, как переводческая типология текстов, методы перевода, личность переводчика, поскольку от данных факторов зависит степень и тип вторичности. Все это дает системное представление о ключевых вопросах современного переводоведения, об основных тенденциях его развития. Анализ названных проблем проводится на базе достаточно большого корпуса теоретических работ последнего времени, включая зарубежные, в основном не переведенные на русский язык и впервые вводимые в русскоязычный научный дискурс.
Практическая значимость работы определяется тем, что теоретические результаты и предложенные эмпирические методы исследования применимы для решения широкого круга задач в изучении феномена перевода. Материалы исследования могут быть использованы в вузовских теоретических курсах по переводоведению, общему языкознанию, лингвокультурологии, стилистике, лексикологии, теории межкультурной коммуникации, а также в практике преподавания иностранных языков и перевода.
Исходная гипотеза данного исследования была сформулирована на основании современной теории текста и интертекстуальности и заключается в том, что вторичность, являясь онтологическим свойством перевода, не может рассматриваться как его абсолютная характеристика. Абсолютной она является только с точки зрения хронологии. Перевод как деятельность и перевод как
текст вторичны и первичны одновременно, при этом соотношение вторичности и первичности в переводе может меняться, но никогда ни одна из названных г категорий не будет абсолютным свойством перевода, это всегда диалектическое единство.
На основании проведенного исследования на защиту выносятся следующие положения:
1) Современная наука позволяет считать вторичность одной из
. универсальных характеристик современного художественного и научного
дискурсов, исходя из чего вторичность перевода можно рассматривать как
проявление общей вторичности, как ее частный случай.
2) Вторичный и первичный как универсальные категории находятся в
сложных двунаправленных отношениях. Вторичный хронологически следует
за первичным, но своим существованием продлевает жизнь первичному,
ф? создает ему жизненную среду. Таким образом, с одной стороны, появление вторичного зависит от первичного, его наличия, но с другой - вторичный своим существованием продлевает и меняет бытие первичного.
3)С точки зрения традиционного деления текстов на первичные и вторичные перевод нужно рассматривать как особый вид вторичного текста,
" специфика которого определяется его сложными (неоднозначными) отношениями со своим первичным текстом. В силу своей специфики перевод «не вписывается» в категорию традиционных вторичных текстов.
4) Вторичность перевода как его онтологическое свойство отличается
большой диалектичностью: она может быть различной природы и степени.
Ал Зависит это от типа (жанра) текста, его энтропийности, метода перевода, от личности переводчика, его креативности.
5) Буквальный и вольный методы перевода - это качественно различные
, способы интерпретации оригинала и порождения текста перевода,
отражающие различные видения проблемы соотношения языка и мышления, языка и культуры, формы и содержания, языка и смысла. Тексты, полученные в
результате названных методов перевода, становятся элементами различных дискурсов. Учитывая отсутствие изоморфизма между различными языковыми системами, мы рассматриваем буквальный перевод не как «недотрансформированный» перевод, а как сохранение «природы чужого языка», позволяющее увидеть «способ производства значения» в оригинале.
Перевод всегда является одновременно и вторичным, и первичным текстом вне зависимости от метода перевода - буквального или вольного. Но метод определяет соотношение первичности и вторичности в тексте перевода, способ и направление развития оригинала (формальное или смысловое).
Современное представление о мире как об интертексте, точнее, как совокупности разноязычных и разнокультурных интертекстуальных пространств позволяет рассматривать перевод как семиотический «мост», который связывает два (и более) пространства, образуя тем самым новое интертекстуальное поле, в котором переплетаются интертекстуальные связи обоих пространств. Это ведет к расширению бытийного пространства оригинала, что дает основание определить перевод как дивергентный процесс.
Апробация работы. Основные положения работы и результаты исследования были представлены на конференциях, симпозиумах и школах-семинарах различного уровня: на ХШ и XIV Международных симпозиумах по психолингвистике и теории коммуникации (Москва 2000; 2003), на V и VI Международных конференциях «Россия и Запад: диалог культур» (Москва 1998; 1999), на Ш, IV, V, VI Международных конференциях по переводоведению «Федоровские чтения» (Санкт-Петербург 2001; 2002; 2003; 2004), на П Международной школе-семинаре «Когнитивная семантика» (Тамбов 2000), на Ш и IV Международных конференциях «Филология и культура» (Тамбов 2001; 2003), на II Международной конференции «Язык. Культура. Деятельность: Восток - Запад» (Н. Челны 1999), на Международной конференции «Изменяющийся языковой мир» (Пермь 2001), на международных конференциях по теории и практике перевода (Пермь 2000;
2002; 2005), на П Международной конференции «Русский язык в языковом и
культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация.
Интернет» (Варшава 2004); на Всесоюзном научном
совещании «Автоматический анализ, перевод, обучение пониманию текста» (Москва 1989), на Всероссийских научных конференциях «Динамический аспект лингвистических исследований» и «Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики» (Челябинск 1999), на 2-й Всероссийской конференции «Теория и практика речевых исследований (АРСО-2002)» (Москва 2002), на Всероссийской научной конференции «Язык. Человек. Картина мира» (Омск 2000), на Федеральной научной конференции «Лингвистика XXI века» (Екатеринбург 2004), а также на межвузовских конференциях в Перми, Уфе и других городах России. Диссертация обсуждалась в отделе прикладного языкознания ИЯ РАН и на расширенном заседании кафедры иностранных языков, лингвистики и межкультурной коммуникации Пермского государственного технического университета. По теме диссертации опубликована 51 работа, в том числе две монографии. Общий объем - более 35 п.л.
Структура работы: диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложения; содержит 16 рисунков.
Дихотомия «текст/реальность»: новая парадигма
Начало прошлого столетия внесло кардинальные изменения в понимание «механики мира»: к классической ньютоновской добавилась квантовая, которая, по словам Р. Фейнмана, казалась «uncommon-sensy» (бредовой): «It looked cockeyed, but in reality it was not: it was called the theory of quantum mechanics. The word "quantum" refers to this peculiar aspect of nature that goes against common sense»1 [Feynman 1988,5].
В физике произошло то, что сегодня принято называть «сменой парадигм». Известно, что понятие научной парадигмы как «концептуального модуля науки» было введено американским физиком и философом Т. Куном в его фундаментальной работе по философии и истории науки «Структура научных революций» (1962). Сам он так определяет это понятие: «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений» (выд. наше - Н.Н.) [Кун 2001,17].
Родилось данное понятие в результате попыток Куна понять причины различий (иногда очень существенных) в представлении одного и того же феномена, в интерпретации одного и того же научного результата представителями разных школ, особенно в области гуманитарных и социальных исследований. Введение понятия парадигмы помогло автору решить многие трудности в понимании научной революции и причин ее возникновения. В теории Т. Куна понятие парадигмы неразрывно связано с понятием научного сообщества, в котором бывают приняты и распространены особые онтологические и гносеологические идеализации и установки, составляющие суть той или иной парадигмы. В развитии науки Кун различал период нормальной науки - время господства какой-либо одной парадигмы. Такой период отличается накоплением фактов, научных результатов, найденных при решении очередных задач по стандартным образцам и методикам, тогда как смена парадигм воплощает период научной революции, коренной ломки, трансформации, переинтерпретации основных научных результатов и достижений, т.е. это этап принципиального видоизменения всех главных стратегий научного исследования и замещения их новыми. Именно такой этап был пережит научным сообществом на рубеже XIX и XX веков, когда «наука, прочно занимающая господствующее положение, по крайней мере в европейской цивилизации и культуре, претерпевает радикальные изменения - теория относительности и квантовая механика требуют опровергнуть прежние представления, казавшиеся ранее незыблемыми. Поэтому неудивительно, что внимание философов науки и методологов обращается на поиск нового обоснования и на переосмысление статуса научного знания и познания - ведь человеческое познание по сути сводилось к научному» [Кузнецов 2001,3].
Если обратиться к фундаментальным различиям между «старой» и «новой» парадигмами в физике, то нужно подчеркнуть особую роль положения индивида (наблюдателя) по отношению к наблюдаемому миру. «The old physics assumes that there is an external world which exists apart from us. It further assumes that we can observe, measure and speculate about external world without changing it»2 [Zukav 1989,29].
Исходя из такого «положения» наблюдателя, наблюдение может быть объективным. Согласно же квантовой теории, такой вещи, как объективность, не существует и не может существовать. «We cannot eliminate ourselves from the picture. We are part of nature, and when we study nature there is no way around the fact that nature is studying itself. Physics has become a branch of psychology, or perhaps the other way round»3 [Там же, 31].
Переворот произошел, как мы знаем, не только в естествознании, в котором наиболее «философской» частью можно считать физику. В гуманитарных науках, и прежде всего в философии, также произошел поворот, получивший название «лингвистического» (linguistic turn). Представляется, что в развитии науки о тексте (или, точнее, философии текста) можно увидеть определенную параллель с событиями в физике, приведшими, с одной стороны, к изменению представления о познаваемости и предсказуемости физического мира, а с другой - к изменению представления о том, где находится по отношению к этому миру тот, кто его познает. В философии текста «квантовый» поворот заключается в том, что человека, воспринимающего текст, также погрузили в текст, сделали и его частью Текста. Таким образом, параллель наблюдается в соотношении познающего и познаваемого: и в физическом, и в текстовом мирах они неразрывны, нет объективного стороннего наблюдателя и нет объективно познанной реальности. Таков итог последнего столетия.
XX век, который уже ушел в прошлое, оставил нам в наследство новую философию, а именно: феноменологию Гуссерля, фундаментальную онтологию Хайдеггера, герменевтику Гадамера, французский постструктурализм и постмодернизм Фуко, Деррида и Лиотара, аналитическую философию Фреге и Рассела. В прошлом веке были созданы «Логико-философский трактат» и «Философские исследования» первого по-настоящему «лингвистического» философа Людвига Витгенштейна.
Вторичность как онтологическое свойство сознания и текста
Период конца XX и начала XX в.в., без сомнения, может быть назван тем временем, о котором И. Ильин сказал: «В определенные эпохи именно вторичность оказывается наиболее характерной чертой сознания, той роковой печатью, что наложена на его лик и неизбежно отмечает все его мысли и дела» [Ильин 1996,51].
В наше время вторичность является не только «роковой печатью», но и одним из ключевых концептов гуманитарной мысли, в первую очередь, конечно, постмодернистской. В постмодернизме «вторичность», или «культурная опосредованность», является одним из главных принципов текстопорождения. Базируется этот принцип, как известно, на простой идее, что все уже было когда-то кем-то произнесено или написано. Думается, что замечание С. Аверинцева о том, что «мы живем в эпоху, когда все слова уже сказаны», очень точно передает ощущение большинства из тех, кто начинает «говорить» или «писать». Следовательно, все, что пишется или говорится, является в той или иной степени вторичным. М.М. Бахтин, указьгоая на «оговоренность» слов, вторичность высказываний, остроумно заметил, что одному Адаму была дана возможность создать что-то абсолютно «первичное»: «Только мифический Адам, подошедший с первым словом к еще не оговоренному девственному миру, одинокий Адам мог действительно до конца избежать этой диалогической взаимоориентации с чужим словом о предмете: конкретному историческому слову это не дано ...»[Бахтин 1979, 89].
Высказывания И. Ильина, С. Аверинцева и М. Бахтина, а также ранее приведенные высказывания тех, чьи имена символизируют философию постмодерна, ведут нас к неизбежному заключению: первичность как текстовая категория является относительной. В определенной степени все тексты можно считать и первичными, и вторичными одновременно.
Характерно в этом смысле утверждение мексиканского поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии (1990) О. Паза: «Every text is unique and, at the same time, it is the translation of another text. No text is entirely original because language itself, in its essence, is already a translation: firstly, of the non-verbal world and secondly, since every sign and every phrase is the translation of another sign and another phrase. However, this argument can be turned around without losing any of its validity: all texts are original because every translation is distinctive. Every translation, up to a certain point, is an invention and as such it constitutes a unique text» [Цит. no: Bassnett 2002,44]22.
Тот факт, что все тексты и первичны, и вторичны одновременно, означает, что текстовые категории первичности и вторичности носят условный характер, поскольку материал, с которым работает писатель, уже был до него культурно освоен. Текст не может быть абсолютно первичным, он есть совокупность (мозаика) маркированных и немаркированных цитат. «Приметой сегодняшнего текста служат кавычки, то и дело расставляемые как указание на безусловность любых сигнификаций» [Современная западная ... 1991, 239]. Нужно помнить, что сегодняшний человек - это «человек интерпретирующий», к тому же - играющий (ludens).
О. Вайнштейн, к работе которого мы уже обращались, подводя итог современному состоянию отношений «свое»/«чужое», современному научному дискурсу, пишет: «Новая мысль может возникнуть только на скрещивании уже известных идей, в соотношении с ними. Оттого рассуждение нередко превращается в цепь уточнений, разграничений, разговор ведется с оглядкой на авторитеты. Понятия «свое», «чужое» теряют свое прямое значение. На первый план выходит непосредственное развитие идеи или целого направления мысли, совершаемое коллективно, в русле традиции. А может быть, подобная ситуация связана с эсхатологическим ощущением конца времен, столь характерным для нынешней эпохи: все уже сделано, сказано, помыслено, и нам остается только перебирать, комбинировать или пародировать имеющееся (выд. наше-Н.Н.) [Вайнштейн 1989,184].
Мысль о цитатности, «вторичности» всей литературы (поэзии), о том, что она есть палимпсест, нашла и поэтическое выражение в хорошо известных строчках А. Ахматовой:
И опять хочется сказать, что цитатность, аллюзии различного рода, то, что называют прецедентными текстами и шире прецедентными феноменами - все это возникло «не вдруг» и не сейчас. Пушкинский «Евгений Онегин» - это интертекст, где почти каждая строчка (начиная с первой) являет собой отклик на «чужое слово». Это все рождает культурные и текстовые лакуны и множественность интерпретаций. «Фауст», «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и другие великие произведения суть варианты некого прототекста, своего рода «палимпсесты», хранящие в себе следы других текстов.
Перевод как объект междисциплинарных исследований
Наше время смело можно назвать временем особого интереса к феномену перевода. Популярность перевода в современном мире, бесспорно, связана со стремительным развитием межкультурных отношений, бурным ростом различного рода межъязыковых и межэтнических контактов, с крушением колониальной системы, с появлением постколониального сообщества и, соответственно, с все возрастающей потребностью освоения «чужой» и развития «своей» культуры. Всем нам хорошо известны такие периоды в истории определенных национальных культур, когда перевод оказывался особо востребованным, составляя существенную часть национальной культуры. Не зря считается, что «Западная Европа своей цивилизацией обязана переводчикам» («Western Europe owes its civilization to translators». L. Kelly).
Классический пример такого значимого влияния перевода на развитие национальной культуры - это, конечно, Древний Рим, в котором, собственно, и родилась наука о переводе. А если говорить о России, то это петровский и послепетровский периоды, «золотой» и «серебряный» века русской культуры35. Названные факторы и им подобные являются историческими, вызванными ходом развития культуры. Но есть другие, которые и представляют интерес для лингвистов, философов, культурологов. Это факторы, связанные с развитием самой науки, с бытующими в ней парадигмами, с пониманием как главного объекта исследования - перевода, так и объектов, непосредственно связанных с ним. А это, прежде всего, текст.
Текстово-семиотический поворот, который произошел в гуманитарных науках, не мог не отразиться на исследованиях феномена перевода. Глобальная текстуализация вызвала серьезные изменения в понимании сущности перевода. Аналогично «экспансии» понятия текста произошло и расширение понятия перевода. И если в первой главе было представлено современное понимание текста, то сейчас наша задача - во-первых, дать картину (конечно, далеко не полную) современных подходов к пониманию сущности перевода, тех ключевых проблем в его исследовании, которые связаны с рассмотренными нами философскими парадигмами; во-вторых, рассмотреть межтекстовые отношения оригинала и перевода как отношения первичного и вторичного текстов, проследить «историю» и «эволюцию» этих взаимоотношений, точнее, взглядов теоретиков и практиков на природу этих отношений.
Как уже не раз отмечалось, сегодня мы являемся свидетелями своего рода «переводческого бума», о котором говорят как зарубежные, так и отечественные исследователи. «Once perceived as a marginal activity, translation began to be seen as a fundamental act of human exchange. Today, interest in the field has never been stronger and the study of translation is taking place alongside an increase in its practice all over the world»36 [Bassnett 2002,1].
Приведенные слова принадлежат одному из ведущих современных теоретиков перевода S. Bassnett. Это цитата из предисловия к новому изданию ее широко известной книги «Translation Studies». В этом же предисловии она отмечает, что свидетельства острого интереса к феномену перевода сегодня можно видеть повсюду. Результатом такого интереса и той энергии, с которой сейчас исследуется перевод, стало множество направлений и школ. Представить их все - задача практически невыполнимая, хотя и очень заманчивая. Одним из показателей стремительного развития науки о переводе и изменения ее статуса можно считать и появление большого количества книг как по теории, так и по истории перевода. Среди таких изданий и очень серьезный труд - энциклопедия «Routledge Encyclopedia of Translation Studies», созданная авторским коллективом, включающим самых известных западных специалистов. Редактор этого уникального издания - Mona Baker, классик современной науки о переводе.
Однако здесь необходимо сделать специальную оговорку, что при анализе современного состояния перевода мы ориентируемся в основном на западное переводоведение. Это связано с тем, что сегодня можно наблюдать определенный разрыв между Россией и Западом в отношении понимания перевода. В отечественном переводоведении сравнительно мало крупных фундаментальных исследований нелингвистического характера: большая часть серьезных классических работ в нашей науке относится к «лингвистике перевода». Из наиболее известных «нелингвистических» работ можно назвать исследования А.Н. Крюкова, В.И.Хайруллина, Н.Л. Галеевой и Н.Э. Клюканова. Последнее исследование - единственное из известных нам, которое выполнено с опорой на философию постмодернизма.
Другую картину представляет западная наука о переводе: там появляется все больше и больше работ междисциплинарного (философско-культурологического) характера. Отличается и количество исследований и публикаций. К сожалению, сделать полный и глубокий обзор последних представляется практически невозможным, причем не только из-за объема информации, но и из-за недоступности источников.
Переводческий дуализм: foreignization и/или domestication
Как было показано в предыдущей главе, переводческий дуализм -неизбежное явление в практике перевода. Переводчик всегда оказывается в ситуации выбора одного из методов перевода, которые были предложены самой практикой и которые еще Цицероном и Иеронимом были определены как verbum pro verbo («слово словом») и sensus pro senso («смысл смыслом»). Об этом переводческом дуализме спорили такие мыслители прошлого, как Августин и Боэций, позднее Мартин Лютер, Джон Драйден и др. Можно сказать, что спор этот не утих и сегодня. Так, Susan Bassnett, один из наиболее авторитетных теоретиков современности, данный дуализм относит к тем «вечным» проблемам перевода, которые снова и снова с различной степенью остроты начинают обсуждаться в научных сообществах, при этом взгляд на проблему меняется в зависимости от доминирующих концепций языка и коммуникации [Bassnett 2002].
В лекции Ф. Шлейермахера, о которой речь шла выше, мы находим первую систематику видов перевода. Во-первых, он говорит о внутриязыковом и межъязыковом переводе, подчеркивая их онтологическую общность. Во-вторых, он рассматривает перевод устный и перевод письменный как разные виды перевода, при этом «переводом в собственном смысле слова» он считает только письменный перевод, т.к. это перевод «в сфере науки и искусства», в то время как устный перевод - это перевод в деловой сфере, и он не претендует на художественность, здесь все определяют заранее известные (готовые) межъязыковые соответствия. Создатель текста, предназначенного для устного перевода, мало проявляет себя в языковом творчестве, соответственно, и задача переводчика является достаточно простой. «И наоборот, чем больше собственного видения вещей и оригинальных ассоциаций высказал автор в своей работе, чем более он свободен в выборе своей задачи, тем более его труд приближается к высокой художественной сфере, и переводчик должен в этом случае обладать высокими возможностями и мастерством и совсем по-иному проникать в дух писателя и его язык, чем это может сделать устный переводчик» [Шлейермахер 2000, 128]. Вполне очевидно, что для анализа разных методов перевода интерес представляет только «перевод в собственном смысле слова», т.е. письменный, или литературный, поскольку, как очень точно подметил Майкл Риффатерр, «cthe simplest way to state the difference, between literary and non-literary translation is to say that the latter translates what is in the text, whereas the former must translate what the text only implies» [Riffaterre 1992,217]75.
Говоря о переводе «в собственном смысле слова» Шлейермахер и называет два метода перевода, различающихся по стратегии интерпетации исходного текста и порождения текста перевода. Такими способами он называет следующие: «Переводчик либо оставляет в покое писателя и заставляет читателя двигаться к нему навстречу, либо оставляет в покое читателя, и тогда идти навстречу приходится писателю. Оба пути совершенно различны, следовать можно только одним из них, всячески избегая их смешения, в противном случае результат может оказаться плачевным: писатель и читатель могут вообще не встретиться» [Шлейермахер 2000,133].
Как уже говорилось в предыдущей главе (параграф 3.3), Шлейермахер, исходя из гипотетического представления процесса перевода, выполняемого самим автором оригинала, видит только два способа перевода, а именно, переводить можно или «так, как бы перевел сам автор, зная язык перевода», или «так, как бы написал сам автор на языке перевода, если бы этот язык был для него родным». Первый метод - это тот, который ведет к «отчужденному» тексту, иностранное происхождение которого не скрывается переводчиком, а наоборот - подчеркивается (alienating). Второй способ перевода направлен на создание «естественного» для принимающей лингвокультурной среды текста (naturalizing). Другие термины, принятые в современном переводоведении для обозначения названных методов перевода - это foreignization и domestication (термины были предложены американским переводоведом Л. Венути).
Сам Шлейермахер - сторонник первого метода, именно так он и переводил Платона. Немецкий философ прекрасно понимал всю невообразимую сложность такой задачи, отношение к такому переводу читателя: «Что должен делать переводчик, который, пользуясь средствами родного языка, старается при этом создать у читателя впечатление чужеземности?» Здесь, считает Шлейермахер, есть один путь - создать особый язык, который не тождественен повседневному и является «результатом целенаправленной деятельности и демонстрирует некоторое сходство с иностранным языком». Создать такой язык - «это самая большая трудность, которую предстоит преодолеть переводчику», которая к тому же может остаться «неоцененной» как читателем (во всяком случае, «массовым»), так и критиком. В этой связи автор задает ряд риторических вопросов: «Кто согласится отказаться от легкой и естественной походки ради скованного и судорожного ковыляния? Кто захочет отпугнуть от себя читателя в попытке донести до него самое главное? Кто готов сделаться посмешищем, коверкая родной язык в угоду чужому? Кто стерпит снисходительно-сочувственные усмешки ученых знатоков, которые не в силах понять этот вымученный и корявый немецкий без помощи греческого и латинского оригинала. Вот те опасности, которым подвергает себя каждый переводчик, стремящийся сохранить иностранное звучание языка; как бы точно и тонко ни соблюдал он меру, угроза остается всегда, потому что меру каждый видит по-своему. ... Задача не в том, чтобы читателя на мгновение охватила совершенно чужая атмосфера, а в том, чтобы он почувствовал, пусть отдаленно, природу чужого языка, и то, чем обязано ей произведение» [Шлейермахер 2000,137-138].