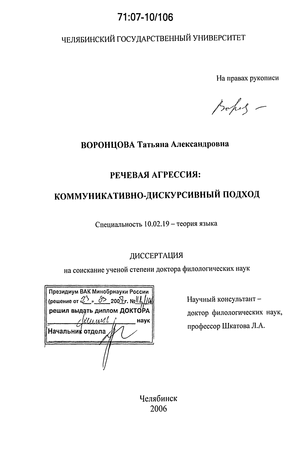Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Теоретические аспекты речевой агрессии 15
1.1. Принципы анализа агрессии в психологии и лингвистике 15
1.1.1. Агрессия как предмет научных исследований в психологии 15
1.1.2. Агрессия как предмет научных исследований в лингвистике 17
1.1.2.1. Лингвопсихологический подход к речевой агрессии 17
1.1.2.2. Лингвоэтический подход к речевой агрессии 26
1.2. Речевая агрессия в коммуникативно-дискурсивной парадигме 28
1.2.1. Агрессия как речевое поведение 31
1.2.2. Речевая агрессия и речевое воздействие 33
1.2.3. Речевая агрессия: установка на антидиалог 38
1.2.4. Объект агрессии 41
1.2.5. Критерий намерения 43
1.2.6. К вопросу о термине 48
1.3. Речевая агрессия в кругу смежных явлений 52
1.3.1. Речевая агрессия и коммуникативная неудача 52
1.3.2. Речевая агрессия и манипуляция 56
1.3.3. Речевая агрессия и конфликт 58
1.4. Речевая агрессия как преднамеренная деформация коммуникативного пространства 59
1.4.1. Понятие коммуникативного пространства 59
1.4.2. Коммуникативно-прагматические типы речевой агрессии 63
1.5. Публичный дискурс - эмпирическая база исследования речевой агрессии 66
1.5.1. Понятие публичного дискурса 66
1.5.2. Телевизионные дискуссии как жанр публичного дискурса 74
Выводы 78
Глава II. Вторжение в речевое пространство 81
2.1. Создание коммуникативного дисбаланса в межличностной коммуникации 81
2.2. Коммуникативный дисбаланс в публичном дискурсе 85
2.3. Смысловые способы установления коммуникативного дисбаланса 88
2.3.1. Фактор профессиональной компетентности 88
2.3.2. Фактор коммуникативной компетентности 109
2.3.3. Фактор истинности 119
2.3.4. «Обезличивание» оппонента 124
2.4. Структурно-смысловые способы создания коммуникативного дисбаланса 130
2.4.1. Нарушение мены коммуникативных ролей 131
2.4.3. «Школьный» вопрос 136
2.4.4. Риторический вопрос 139
2.4.5. Демонстративный отказ от коммуникации 149
2.5. Стратегии создания коммуникативного дисбаланса в публичном диалоге 152
Выводы 157
Глава III. Вторжение в аксиологическое пространство 160
3.1. Коммуникативно-прагматический смысл вторжения в аксиологическое пространство адресата 160
3.2. Оценка как инструмент речевой агрессии 165
3.3. Специфика выражения негативной оценки в устном публичном дискурсе 169
3.4. Способы создания негативной оценки 172
3.4.1. Ярлыки-аллюзии 172
3.4.2. Интертекстемы 178
3.4.3.Стилистические приемы создания негативной оценки 183
Выводы 193
ГЛАВА IV. Вторжение в когнитивное пространство 195
4.1. Формирование объектов речевой агрессии в социуме 195
4.2. Создание «образа врага» как результат вторжения в коллективное когнитивное пространство 207
4.2.1. Концепт «государство» 212
4.2.2. Концепт «исламизм («исламисты») 225
4.2.3. Концепт «олигарх» 238
Выводы 250
Заключение 253
Библиографический список 259
- Принципы анализа агрессии в психологии и лингвистике
- Создание коммуникативного дисбаланса в межличностной коммуникации
- Коммуникативно-прагматический смысл вторжения в аксиологическое пространство адресата
- Формирование объектов речевой агрессии в социуме
Введение к работе
Тому, что слово «агрессия» стало столь употребительным как в бытовом языке, так и в качестве термина в различных науках, в немалой степени способствовала сама жизнь. В обыденной жизни мы привыкли этим словом обозначать широкий диапазон самых различных действий: от косого взгляда до террористического акта.
Определение агрессии, которое содержится в Социологическом словаре, дает далеко не полное представление о сферах ее научного исследования: «Агрессия - 1. Действие, поведение, нацеленное на причинение ущерба (морального, физического и т. д., вплоть до полного уничтожения) другому существу или объекту. 2. В политической социологии - насильственное вторжение в границы чужого государства. 3. В международном праве - любое незаконное применение вооруженной силы одним государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. Включает в качестве обязательного признак первенства или инициативы (применение к.-л. государством вооруженной силы первым). 4. В психологии - трактуется либо как результат внутренне присущей человеку агрессивности (психологизм), либо как результат фрустрации (гипотеза фрустрации агрессии), либо как продукт процесса обучения, либо как следствие недостаточной или неудачной социализации» [Социологический словарь, 2000, с. 5-6].
Если в социологии, политологии и особенно в психологии проблема агрессии исследуется давно и активно (в соответствии с тем определением, которое соответствует данному термину в каждой из этих наук), то изучение агрессии как явления речевой коммуникации началось сравнительно недавно1.
1 В российской лингвистике, работы, посвященные речевой агрессии в современном ее понимании стали активно появляться только в конце XX века
Это связано, в первую очередь, со сменой приоритетов в языкознании второй половины XX века, когда на основе синтезирующих концепций языка, представленных в трудах В. Гумбольта [Гумбольт В., 2000], А.А. Потебни [Потебня А.А., 1999], И.А. Бодуэна де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ И.А., 1963], Л.В. Щербы [Щерба Л.В., 1974] и др. сложилась целостная системная теория языка. Как известно, синтезирующие концепции рассматривают язык и речь как совокупное единство, исходят из антропоцентрической роли языка, объясняют деятельностную природу языка его взаимодействием со средой. В языкознании второй половины XX века структурная лингвистика уступает место функциональной; господствующим принципом становится принцип антропоцентризма (см.: [Демьянков В.З., 1995]; [Кубрякова Е.С., 1995] и мн. др.). В фокусе лингвистических исследований оказывается homo eloquens, «человек говорящий», с его представлениями о коммуникативных действиях, намерениях, коммуникативной среде и принципах коммуникации. В связи с этим лингвистика активно обращается к междисциплинарным проблемам. В частности, одной из центральных в лингвистических исследованиях становится проблема оптимизации речевого общения. Изучение данной проблемы подразумевает анализ не только позитивной коммуникации (стратегий вежливости, толерантности и т.п.), но и тех речевых явлений, которые не соответствуют представлениям о корректном общении. К таким явлениям, безусловно, относится агрессия. О том, что проблема агрессии в коммуникации весьма актуальна, свидетельствует тот факт, что речевая (вербальная, словесная, языковая, коммуникативная) афессия стала сегодня весьма популярной темой лингвистических изысканий. Проводятся специальные тематические конференции, выпускаются сборники, посвященные данной проблеме [Речевая афессия, 1997; Афессия в языке и речи, 2004; Речевая афессия в современной культуре, 2005 и др.]. В современной лингвистике такие словосочетания, как речевая (словесная, языковая, вербальная, коммуникативная) агрессия, язык вражды, словесный экстремизм, дискурс
7 ненависти, стали почти терминологическими. Всплеск внимания и интереса к явлениям такого рода означает, что дискомфорт в общении остро ощущается как специалистами-языковедами, так и всеми носителями языка.
Ряд российских исследователей видят речевую агрессию в повышении эмоционального градуса общения, в активизации инвективной лексики и считают, что причины этого кроются в тех социально-политических изменениях, которые произошли в России в конце XX - начале XXI в. В связи с этим возникает вопрос: является ли речевая агрессия культурно-специфическим российским фактом, или все же речь идет о некой коммуникативной универсалии, которая может иметь место в любое время и в любой коммуникативной среде? Для того чтобы ответить на этот вопрос, важно увидеть не столько результат того, что называют речевой афессиеи, сколько процесс, и в связи с этим не просто выявить набор языковых и речевых инструментов, но и показать, как и для чего пользуется ими говорящий.
При этом статус речевой агрессии как лингвистического явления представляется весьма неопределенным. На это указывает ряд факторов.
Во-первых, само понятие агрессии не имеет в лингвистике четкого определения. При узком понимании агрессия в речи рассматривается как «форма речевого поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение вреда человеку, группе людей, организации или обществу в целом» [Быкова О.Н., 1999, с. 96], т.е. имеется в виду речевой акт, замещающий агрессивное физическое действие: оскорбление (в том числе грубая брань), насмешка, угроза, враждебное замечание, злопожелание, категоричное требование без использования общепринятых этикетных средств и т.д. При широком понимании под словосочетанием «речевая афессия» подразумеваются все виды наступательного, доминирующего речевого поведения. В таком случае, - отмечает Е.Н. Басовская, - «коммуникация вообще немыслима вне афессивных проявлений» [Басовская Е.Н., 2004, с. 257].
Во-вторых, обращает на себя внимание многообразие используемых терминов: наряду с наиболее распространенным словосочетанием речевая агрессия используются такие словосочетания, как вербальная агрессия, языковая агрессия, словесная агрессия, коммуникативная агрессия, причем, разные словосочетания могут встречаться в пределах одной статьи. Нередко варьируется и второй элемент: агрессия - агрессивность.
В-третьих, само явление речевой агрессии оценивается в лингвистической литературе неоднозначно. С одной стороны, речевая агрессия во всех ее проявлениях оценивается как явление, безусловно, нежелательное, с другой - речевая (вербальная) агрессия рассматривается либо как вполне приемлемое речевое действие, способствующее эмоциональной разрядке [Жельвис В.И., 1997, с. 35-430, Михальская А.К., 1996, с. 165 и др.], либо как проявление «пробивных» стратегий в деловой коммуникации [Ратмайр Р., 2004].
Список таких противоречий можно было бы продолжить далее. Ясно одно: отсутствие устойчивого термина и универсального определения, которое могло быть применимо к любому типу коммуникации и к любому дискурсу, свидетельствует, с одной стороны, о том, что речевая агрессия - это гораздо более сложное и многоаспектное явление, чем иногда кажется лингвистам, с другой - о том, что, несмотря на значительное количество современных исследований, так или иначе касающихся этой проблемы, речевая агрессия по-прежнему нуждается не только в оценочной констатации, но и в многоаспектном изучении.
Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена тем, что в работе осуществлен системный подход к речевой агрессии с позиций коммуникативной лингвистики. Такой подход дает возможность квалифицировать речевую агрессию как явление собственно лингвистическое. Определение коммуникативной сущности речевой агрессии позволяет выявить универсальные черты данного типа речевого поведения, проявляющиеся в
9 регулярном использовании определенных коммуникативных стратегий и тактик, которые, в свою очередь, предопределяют отбор языковых и речевых средств коммуникации. Таким образом, речевая агрессия включается в сферу исследования теоретических проблем речевой коммуникации, речевого взаимодействия и воздействия.
Предметом нашего исследования является речевая агрессия как тип речевого поведения.
Объектом исследования послужили коммуникативные единицы публичного дискурса (высказывания, дилогические единства, диалоги как фрагменты коммуникативных актов, коммуникативные акты).
Основную гипотезу диссертационного исследования можно определить следующим образом: речевая агрессия - конфликтогенное речевое поведение, в основе которого лежит установка на субъектно-объектный тип общения и негати визирующее воздействие на адресата. Речевая агрессия может проявляться в рамках любого типа общения (межличностного, группового, массового) и любого дискурса, независимо от его временных и национальных факторов. Речевые и языковые параметры данного типа речевого поведения определяются дискурсивными условиями.
Данная гипотеза определяет цель нашего исследования - дать теоретическое обоснование речевой агрессии в свете коммуникативно-дискурсивного подхода, выявить на материале современного публичного дискурса, как на основе определенных коммуникативно-прагматических установок адресанта происходят нежелательные для адресата изменения в различных сферах коммуникативного пространства.
Теоретическое осмысление речевой агрессии потребовало решения следующих задач:
1) обосновать на основе коммуникативно-дискурсивного подхода сущность речевой агрессии как особого типа речевого поведения;
2) выявить дискурсивные характеристики данного явления и выстроить
типологию речевой агрессии на основе коммуникативно-прагматических
установок адресанта;
провести позиционирование речевой агрессии в ряду смежных лингвистических явлений;
упорядочить терминологический аппарат, связанный с проблемой исследования речевой агрессии;
выявить способы и формы проявления агрессии на речевом уровне в непосредственной межличностной коммуникации;
установить, как влияет речевая агрессия на зону потенциальной коммуникации адресата;
определить, какое влияние оказывает речевая агрессия на процессы восприятия и осмысления адресатом окружающего мира;
представить в фокусе речевой агрессии и охарактеризовать с точки зрения коммуникативно-прагматических функций стилистические и риторические приемы, языковые и речевые средства.
Решение данных задач осуществляется в рамках интегративного подхода, который объединяет коммуникативный и когнитивный подходы к явлениям языка, что обусловило методологическую и теоретическую базу нашего исследования.
Методологической основой работы являются принципы системного подхода к изучению языковых и речевых явлений в условиях их функционирования в контексте определенного дискурса с учетом целей коммуникации. Наряду с общенаучными методами анализа и синтеза материала, мы использовали такие лингвистические методы, как метод прагматического анализа (исследование целей, намерений, коммуникативных действий, особенностей речевого взаимодействия участников коммуникации в условиях той иной коммуникативной ситуации), метод дискурс-анализа, который понимается нами как «интегральная сфера изучения общения с точки
зрения его формы, функции и ситуативной, социально-культурной обусловленности» [Макаров М.Л., 2003, с. 98], метод когнитивного анализа, методы риторического и стилистического анализа.
Теоретическую базу нашего исследования составили труды отечественных и зарубежных лингвистов, посвященные различным аспектам исследования речевой коммуникации:
а) прагмалингвистика (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицка, Т.Г. Винокур, Г.П.
Грайс, Т.А. ван Дейк, М.Л. Макаров, Дж. Серл, П.Ф. Стросон, И.А. Стернин,
И.П. Сусов, G.N. Leech; и др.);
б) теория диалога (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Ц. Тодоров, Р. Якобсон,
Л.П. Якубинский, E.Goffman, D.Tannen и др.);
в) прагматические аспекты оценки (Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, Ч.
Стивенсон, В.Н. Телия, P.M. Хэар, A.J. Ауег и др.).
г) риторика (Е.В. Клюев, А.К. Михальская, СИ. Поварнин, Г.Г.
Хазагеров, А. Шопенгауэр и др.);
д) когнитивная лингвистика (Н.Н. Болдырев, С.Г. Воркачев, В.З.
Демьянков, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ю.С.
Степанов и др.).
Новизна данного исследования заключается в том, что в работе впервые в рамках функциональной парадигмы, объединяющей коммуникативно-прагматический и когнитивный подходы к анализу языковых явлений, дано теоретическое обоснование речевой агрессии как коммуникативно-дискурсивного явления, определена специфика речевой агрессии как типа речевого поведения, раскрыты механизмы агрессивного речевого воздействия на трех уровнях коммуникативного пространства: речевом, аксиологическом и когнитивном. Это позволило создать целостную концепцию речевой агрессии как особого типа речевого поведения, в основе которого лежит преднамеренная деформация адресантом коммуникативного пространства адресата.
12 Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что в работе осуществлен системный подход к речевой агрессии, в результате чего речевая агрессия приобретает статус собственно лингвистического (а не социопсихологического) явления. Это позволило на основе коммуникативно-прагматических установок адресанта выстроить типологию речевой агрессии, выявить, при помощи каких стратегий и тактик, средств и приемов реализуется каждая из разновидностей данного типа речевого поведения. Определено место речевой агрессии в ряду смежных лингвистических явлений. Скорректирован и упорядочен терминологический аппарат, связанный с проблемой исследования речевой агрессии. Кроме того, в связи с выбором эмпирической базы исследования теоретически обосновано понятие публичный дискурс vs. дискурс СМИ и публичная речь Выбор данного материала исследования позволил органично вывести исследование типов речевой агрессии в сферу риторики.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы в курсах лекций и спецкурсах, связанных с проблемами коммуникации: общее языкознание, теория и практика речевой коммуникации, прагмалингвистика, культура речи, когнитивная лингвистика, социолингвистика, стилистика и риторика. Кроме того, данное исследование может быть полезно тем, кто занимается практическими проблемами коммуникации: журналистам, спичрайтерам и специалистам по речевому имиджу.
В качестве основной эмпирической базы исследования взят материал устного публичного дискурса. Само понятие публичный дискурс потребовало уточнения в связи с изменившейся экстралингвистической ситуацией. Основным материалом для исследования явились 450 телевизионных дискуссий (телепрограммы «Свобода слова»; «Основной инстинкт», «Времена», «Версты» и др.) что составляет при расшифровке около 5000 страниц текста. Кроме того, нами исследовано более 1000 печатных текстов и текстов Интернет-публикаций (в общей сложности около 2000 страниц
13 печатного текста). Предмет и задачи нашего исследования обусловили широкий диапазон единиц анализа: отдельное высказывание, диалог, коммуникативный акт. Детальному исследованию подвергнуто свыше 5000 указанных коммуникативных единиц.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях Академической лаборатория межкультурных коммуникаций Челябинского государственного университета (2004, 2005, 2006 гг.), заседании Челябинского отделения РАЛК (2006 г.), заседаниях кафедры теории языка Челябинского государственного университета (2005 г.) и кафедры стилистики и риторики Удмуртского государственного университета (2004 г.); а также были представлены в виде докладов и сообщений на конференциях: межвузовских («Средства массовой информации в современном мире», Санкт-Петербург, СПбГУ, 2002; «Стилистика и риторика: прошлое, настоящее, будущее», Ижевск, УдГУ, 2005); межрегиональных («Язык и литература как способы проявления национального менталитета», Челябинск, ЧелГУ, 2003); всероссийских («Современные тенденции в преподавании иностранных языков», Набережные Челны, НГЛУ-Набережночелнинский филиал НГЛУ, 2003; «Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста и речи», Соликамск, СГПИ, 2004; «Новая Россия: новые явления в языке и науке о языке», Екатеринбург, УрГУ, 2005; «Третьи Лазаревские чтения. Традиционная культура сегодня: теория и практика, Челябинск, ЧГАКИ-ЧелГУ, 2006) международных («Слово, высказывание текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах», Челябинск, ЧелГУ, 2001, 2003; «Языки профессиональной коммуникации», Челябинск, 2003, «Интертекст в художественном и публицистическом дискурсе», Магнитогорск, МаГУ, 2003; «Язык. Культура. Деятельность: Восток - Запад», Набережные Челны, НГЛУ - Набережночелнинский филиал НГЛУ, 2002; «Современная политическая лингвистика», Екатеринбург, УрГПУ, 2003; II Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык:
14 исторические судьбы и современность», Москва, МГУ, 2004; «Социальные варианты языка - III», Нижний Новгород, НГЛУ, 2004; «Диалог языков и культур в гуманистической парадигме», Челябинск, Чел ГУ, 2004; «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного», Москва, МГУ, 2004; «Язык. Культура. Коммуникация», Челябинск, Университет Российской академии образования, 2005; «Язык в современных общественных структурах», Нижний Новгород, НГЛУ, 2005; «Русский язык и русская речь в XXI веке: проблемы и перспективы», Ижевск, УдГУ, 2006).
Основное содержание исследования представлено в монографии «Речевая агрессия: вторжение в коммуникативное пространство» (15 п. л.) и 27 публикациях.
Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка.
Принципы анализа агрессии в психологии и лингвистике
Для изучения агрессии как явления речевой коммуникации особую значимость приобретают психологические исследования в данной области. Это связано с тем, что изучение агрессии в речи - это точка, где пересекаются интересы и психологов, и лингвистов. Психологические теории агрессии оказали заметное влияние на принципы анализа данного явления в лингвистике.
В психологии, несмотря на давнюю традицию изучения агрессии, нет единого понимания этого явления. Основными теоретическими подходами, объясняющими происхождение, становление, причины и механизмы агрессивного поведения, традиционно считаются психоаналитический, этологический, фрустрационный и бихевиористский. Как отмечают сами психологи, подобное деление весьма условно, поскольку влияние различных подходов заметно во многих эмпирических исследованиях.
В этологическом и психоаналитическом подходах проявляется биологизаторское понимание агрессивности как врожденного инстинкта.
Психоаналитический подход («теория влечений») связан с именем 3. Фрейда. 3. Фрейд и его последователи считают, что агрессия берет начало из врожденных инстинктивных источников, является результатом конфликта между эросом (сохранением жизни) и танатосом (разрушением жизни). Агрессивная энергия, по Фрейду, должна постоянно разряжаться через внешнее проявление эмоций, тем самым уменьшая опасность неконтролируемых насильственных действий. [Фрейд 3., 2002].
Этологический подход нашел свое отражение в работах К. Лоренца [Лоренц К., 1994]. По К. Лоренцу, агрессия берет начало из врожденного инстинкта борьбы за выживание, который развился в процессе эволюции. Данный инстинкт присутствует как у животных, так и у людей. Агрессивная энергия накапливается в организме спонтанно и постоянно и при наличии стимулов выплескивается вовне. При этом К. Лоренц считает, что человеческое поведение можно регулировать за счет воспитания и усиления моральной ответственности.
Фрустрационная концепция агрессии (теория фрустрации - агрессии), сформулированная Д. Доллардом и др. [Dollard J., 1980], исходит из того, что агрессия всегда является следствием фрустрации (лат. frustratio - обман, неудача, тщетная надежда). В несколько модифицированном виде данная концепция представлена также в работах Н. Миллера (теория смещенной агрессии) [Miller N.E., 1941, 1948] и Л. Берковица (теория посылов) [Berkowitz L., 1965,1969].
В бихевиористских концепциях агрессия рассматривается как специфическая форма социального поведения, которая приобретается, усваивается и поддерживается путем наблюдения за агрессивными действиями других людей (теория социального научения А. Бандуры [Bandura А., 1983], исследования А. X. Басса [Buss А.Н., 1961]).
А.Х. Басе ввел последовательное деление на физическую и вербальную агрессию [Buss А.Н., 1957; Buss А.Н., 1961]. Он определяет вербальную агрессию как выражение негативных чувств либо через форму (крик, визг), либо через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы) Как известно, А.Х. Басе выделяет четыре типа вербальной агрессии: 1) вербальная - активная - прямая (словесное оскорбление или унижение другого человека); 2) вербальная - активная - непрямая (распространение злостной клеветы или сплетен о другом человеке); 3) вербальная - пассивная - прямая (отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на его вопросы); 4) вербальная -пассивная - непрямая (отказ дать словесные пояснения или объяснения. Например, отказ высказаться в защиту человека, которого незаслуженно критикуют) [Бэрон Р., 2001, с. 29].
В современных социопсихологических исследованиях агрессия, в том числе и вербальная (речевая, языковая), изучается весьма активно [Бэрон Р., 2001; Крэйхи Б., 2003; Хекхаузен X., 1986; Щербинина Ю.В., 2004, 2006; Infante D., 1995; 1996, и мн. др.]. Не случайно Н.Д. Голев называет речевую агрессию «монстром социальной психологии» [Голев Н.Д., 1999, с. 40]. Растет количество научно-популярных психологических изданий, где даются рекомендации, как противостоять вербальной агрессии (см., например: [Глас Л., 2004; Хок П., 2005; Эванс П., 2004, 2004 а и др.]).
Там, где появилось понятие «вербальный» (речевой, языковой), появилась и сфера интересов лингвистики, поэтому то, что проблема агрессии в последнее время стала объектом пристального внимания лингвистов, является вполне закономерным.
Создание коммуникативного дисбаланса в межличностной коммуникации
«Коммуникационный процесс предполагает создание сферы совместных действий, консенсуальной лингвистической (или семиотической) сферы. Данная сфера обладает свойствами марковского процесса, т.е. каждый последующий деятельностныи шаг опирается на предыдущий» [Болдырева А.А., 2001, с. 58]. В межличностной коммуникации создание такой «консенсуальной сферы» достигается при конвенциональных формах речевого поведения участников коммуникации. «Право на речь» каждого из коммуникантов определяется, во-первых, характером дискурса, во-вторых конкретной речевой ситуацией. И.А. Стернин вводит понятие коммуникативного равновесия как соблюдения в процессе общения ролевых норм. В зависимости от характера дискурса он выделяет горизонтальное и вертикальное коммуникативное равновесие. «Горизонтальное коммуникативное равновесие - это выполнение в соответствии с принятыми в обществе правилами роли равного - по степени знакомства, по возрасту, по служебному положению, по социальному положению и др. ... Вертикальное коммуникативное равновесие связано с соблюдением норм общения, принятых для лиц, находящихся в неравных отношениях по вертикали: начальник -подчиненный, старший - младший, занимающий более высокое служебное положение - занимающий более низкое служебное положение, стоящий выше в социальной иерархии - стоящий ниже в социальной иерархии» [Стернин И.А., 2001, с. 70-71].
Такие формы дискурса, как, например, разговорный реплицирующий диалог, предполагают равное участие коммуникантов в создании коммуникативного пространства. В нарративном диалоге один из коммуникантов добровольно передает коммуникативную инициативу партнеру, оставляя за собой функцию поддержания контакта в виде эмоциональных реакций, речевых поддержек, уточнений и т.п. [Борисова И.Н., 2001, с. 274-277]. Коммуникативное неравноправие как различная степень речевого участия может являться условием гармоничной коммуникации, например, при общении профессионала и непрофессионала (учитель - ученик; врач - больной). Если такое коммуникативное неравноправие признается всеми участниками коммуникации, то нет необходимости специально акцентировать его при помощи языковых и речевых средств или коммуникативных приемов.
Другое дело, если приоритетное «право на речь» одного из коммуникантов не предусмотрено условиями дискурса или речевой ситуацией и, соответственно, не признается другими участниками коммуникации. В основе такого некооперативного речевого поведения лежит установка адресанта на стремление строить коммуникацию по своему собственному сценарию, не считаясь с интересами речевого партнера. В этом случае речь идет о вторжении в речевое пространство адресата, т.е. о речевой агрессии. Адресант стремится захватить речевое пространство вопреки желанию речевого партнера, условиям коммуникации, конвенциональным нормам общения, т.е. создать коммуникативный дисбаланс. Нарушение речевого паритета может проявляться, во-первых, как намеренный захват вербальной инициативы («слова не дает сказать»), во-вторых, как пренебрежительное отношение к содержательной стороне высказываний речевого партнера («мели, Емеля, -твоя неделя!»).
В бытовом (иногда не только в бытовом) дискурсе на выполнение этой задачи направлены, например, инвективные номинации адресата, выраженные при помощи грубо-просторечной лексики. Это может быть негативная оценка адресата по этическим, нравственным, интеллектуальным и др. параметрам: дурак, идиот, паразит, сволочь и т.д. Это может быть лексика, подчеркивающая возрастное, социальное, национальное, половое и др. неравенство: молокосос, сопляк, чурка, жид, хохол, вотяк, баба, телка (девушка, женщина) и т.д. Это может быть подчеркивание физических недостатков адресата: урод, хромой, косой и т.д. В сущности, это не что иное, как известный риторический прием argumentum ad personem или «последняя уловка» [Шопенгауэр А., 1997, с. 437]. Применительно к ситуации спора прием argumentum ad personem представлен как некорректный во всех учебных пособиях по риторике. Лучшую инструкцию по применению этого приема дал в одном из своих монологов М. Жванецкий: «...Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным...» (М. Жванецкий «Стиль спора»). Как отмечает В. Борисевич, «...экстралингвистические признаки коммуникантов отрицательно маркируются при помощи языковых средств. Последние и выступают своеобразным катализатором нарушения, поскольку социальная, культурная, этническая принадлежность коммуникантов, их психическое состояние нередко требуют определенных форм выражения интенции. Языковые единицы и конструкции эту принадлежность выявляют (или потенциально способны к такому выявлению), что в некоторых контекстах и ситуациях разрушает коммуникацию» [Борисевич В., 2003, с. 186].
Коммуникативно-прагматический смысл вторжения в аксиологическое пространство адресата
Как известно, одной из особенностей высказывания является его способность выражать позицию говорящего в конкретной ситуации речевого общения. По М.М. Бахтину, композицию и стиль высказывания определяет не только предметно-смысловое содержание высказывания, но и «субъективное эмоционально оценивающее отношение говорящего» к предмету речи [Бахтин М.М., 1979, с. 263-264]. Экспрессия рождается только «в процессе живого употребления» [Там же, с. 266]. Слово проникается экспрессией говорящего постольку, поскольку он имеет «с ним дело в определенной ситуации, с определенным речевым намерением» [Там же, с. 268]. Когда одной прагматических установок адресанта экспрессивного высказывания является выражение негативного отношения к адресату или предмету речи (референту высказывания), можно говорить об агрессивном речевом поведении.
Если объект агрессии находится вне коммуникации, то выразить свое отношение к нему адресант может прежде всего посредством оценочного высказывания. Оценка и оценочное высказывание как способ воздействия на адресата неоднократно становились предметом лингвистических исследований.1 Однако замечание, сделанное В.З. Демьянковым более двадцати лет назад, о том, что «практическое приложение моделей эмоциональных аспектов коммуникации пока что остается за пределами основного внимания специалистов» [Демьянков В.З., 1984, с. 145], не утратило своей актуальности до сегодняшнего дня.
Если семантические аспекты оценки исследуются особенно активно, то коммуникативно-прагматический аспект данной проблемы представлен в современной лингвистической литературе гораздо меньшим количеством исследований. Для нашего исследования важно то, что оценочные высказывания адресанта как проявление агрессивного речевого поведения реализуют осознанную прагматическую цель - подчинить оценочные (аксиологические) установки адресата собственным коммуникативным интересам. Как уже отмечалось, коммуникативное пространство можно представить как зону реальных и потенциальных контактов каждого из участников коммуникации с точки зрения говорящего (адресанта). Эта зона в значительной степени определяется оценочными (ценностными) установками адресата. Стремление говорящего (адресанта) навязать адресату посредством деструктивных форм речевого поведения негативное отношение к предмету речи (к референту) есть не что иное, как вторжение в его аксиологическое пространство.
Такое речевое поведение имеет особый коммуникативно-прагматический смысл, потому что в данном случае говорящий исходит из того, что референт высказывания является для адресата потенциальным коммуникативным партнером (в широком смысле). Именно поэтому в качестве референта таких агрессивных высказываний выступает конкретное лицо (персонифицированный объект) или группа лиц, объединенных по какому-либо признаку (множественный, но в принципе исчисляемый объект). Следовательно, можно говорить о прямой и косвенной адресации такого агрессивного высказывания. По отношению к референту как к косвенному адресату речевая агрессия проявляется как дискредитация. По отношению к прямому адресату навязывание негативного отношения к референту является способом негативизирующего воздействия.
В исследованиях, посвященных тем или иным проблемам коммуникации, навязывание оценки как деструктивная форма речевого поведения рассматривалось неоднократно [Клушина Н.И., 2000, 2004; Михальская А.К., 2001; Шейгал Е.И., 2000 и др.]. На уровне речевых стратегий такое речевое поведение распространено, например, в рекламном дискурсе [Булик Ю.В., 2003; Булыгина Е.Ю., 2000 и др.], в политическом агитационном дискурсе [Шейгал Е.И., 2000; Иссерс О.С., 2003 и др.] и т.д. В данном случае естественно возникает вопрос: можно ли ставить знак равенства между навязыванием оценки как деструктивной формой речевого поведения и речевой агрессией как вторжением в аксиологическое пространство? Как нам представляется, стремление адресанта навязать ту или иную оценку не всегда может рассматриваться как речевая агрессия.
В принципе, навязываться может как отрицательная, так и положительная оценка. Однако только при навязывании отрицательной оценки целевой установкой адресанта является инициирование реального или потенциального коммуникативного конфликта между объектом речевой агрессии (референтом высказывания) и адресатом. Если адресант, давая положительную оценку референту высказывания, использует некооперативные формы речевого поведения, в его задачу все равно никоим образом не может входить дисгармонизация коммуникативных отношений между предметом речи (референтом высказывания) и адресатом. Образцы такого речевого поведения широко представлены, например, в агитационном дискурсе или в рекламе. В этом случае психологическое раздражение у адресата может возникнуть лишь от осознания несоответствия формы и содержания высказывания или вследствие недоверия к речевому жанру как таковому.
Формирование объектов речевой агрессии в социуме
Речевая агрессия как негативизирующее речевое поведение, реализующееся в деструктивных формах, может быть направлена не только на разбалансирование процесса межличностной коммуникации или изменение оценки конкретного референта, но и на изменение представления о том или ином объекте. Специфика данного типа речевой агрессии заключается в том, что отдельный адресант, выражая прямо или косвенно негативное отношение к предмету речи, выбирает его обозначение, руководствуясь в первую очередь задачами максимального негативизирующего воздействия, не учитывая или сознательно игнорируя негативизацию стоящего за данным словом концепта.
По поводу термина «концепт» сегодня написано столько, что простое перечисление даже самых значительных работ российских и зарубежных ученых может занять не одну страницу.1 В данном исследовании мы рассматриваем концепт как ментальную сущность, оперативную единицу сознания, представленную в значениях языковых единиц [Кубрякова Е.С., 1996, с. 90]. «...Концепт-это некий отдельный смысл, некая идея, имеющаяся у нас в сознании, но, по всей видимости, главное, что такая идея существует как оперативная единица в мыслительных процессах, причем единица, выступающая как гештальт - вполне самостоятельная и четко выделимая отдельная от других сущность» [Кубрякова Е.С., 2004, с. 316].
Большинство исследователей сходятся на том, что, в отличие от понятия, концепт не имеет четких границ, обладает нежесткой структурой [Демьянков B.3., 2001; Кубрякова Е.С., 1996; Попова З.Д., 2001 а; Степанов Ю.С., 2004 и др.]. Концепт включает в себя весь тот опыт, который человек приобретает в процессе освоения окружающего мира, и потому не исчерпывается словарным значением слова.1 Наиболее реальный путь к изучению содержания концепта -это исследование языковых средств, объединенных общностью концептуального содержания [Попова З.Д., 2001, с. 22].
В принципе, как справедливо замечает С.Г. Воркачев, «при любом понимании концепт как операционная единица мысли - это способ и результат квантификации и категоризации знания, поскольку его объектом являются ментальные сущности признакового характера, образование которых в значительной мере определяется формой абстрагирования, модель которого задается самим концептом, тем самым он не только описывает свой объект, но и создает его» [Воркачев С.Г., 2003, с. 6].
Речевая агрессия как вторжение в когнитивное пространство адресата может быть связана с актуализацией одного из компонентов смысловой структуры концепта, с привнесением нового содержания в его структуру, с изменением соотношения смысловых компонентов.
На уровне индивидуального высказывания такая речевая агрессия осуществляется, как правило, двумя путями. Во-первых, это может быть актуализация негативно-оценочного значения, находящегося на периферии концептуального поля. Например: «Для блондинок это слишком сложно». Как известно, в современном бытовом речеупотреблении слово блондинка наряду с основным, общеизвестным значением женщина со светлыми волосами получает значение недалекая, легкомысленная женщина (девушка). Смысловой сдвиг (оценка интеллектуальных способностей по цвету волос) усиливает негативизирующее воздействие, т.к. основан на приеме расширения: все блондинки глупые.
Во-вторых, негативизирующее воздействие на адресата может достигаться за счет контекстуального окружения, которое привносит отрицательную оценку в соответствующий концепт: «Женщина за рулем - все равно что обезьяна с гранатой!».
Как видим, в основе такого негативизирующего воздействия обычно лежат так называемые универсальные высказывания, которые не подлежат верификации [Поппер К., 2004], а потому, с точки зрения психологов, обладают особой воздействующей силой. В зависимости от ряда факторов, например, от кратности воздействия, авторитетности адресанта и т.п., такого рода высказывания способны изменить оценку целого класса объектов, стоящих за данным концептом.1 На уровне межличностной коммуникации подобные высказывания не приводят к реструктуризации концепта. Даже вследствие весьма активного употребления такого рода высказываний вряд ли можно предположить, что ядерную зону концепта блондинка будет составлять значение недалекая, легкомысленная женщина (девушка), а концепта женщина - значение л що, не способное управлять автомобилем.
Однако «речевое общение есть тотальный процесс, который... функционирует как в пределах отдельных индивидуальных речевых актов, так и в масштабе всего общества... Если в индивидуальном коммуникативном акте достигаются ограниченные цели взаимопонимания партнеров по определенному конкретному объекту (духовному или физическому), то в рамках общества устанавливается взаимопонимание относительно использования, вообще говоря, закономерностей материального мира» [Колшанский Г.В., 1984, с. 148].
Реструктуризация концепта происходит в коллективном когнитивном пространстве. По определению В.В. Красных, коллективное когнитивное пространство - это определенным образом структурированная совокупность знаний и представлений, которыми обладают все представители того или иного социума [Красных В.В., 2001, с. 164].