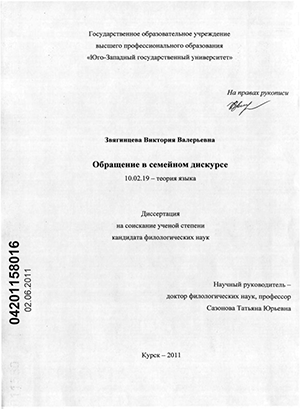Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Определение понятия дискурса и обращения в свете прагмалингвистического подхода 11
1.1. Дискурс в рамках деятельностно-прагматического подхода . 11
1.2. Семейный дискурс. Границы семейного дискурса 19
1.2.1. Место семейного дискурса в ряду дискурсивных практик 20
1.2.2. Концепт «Семья» / «Family» в семейном дискурсе 23
1.2.3. Универсальные и уникальные характеристики семейного дискурса 29
1.3. Обращение, его основные, дополнительные и ситуативные коммуникативные функции 33
1.3.1. Иллокутивная сила обращения и интенциональность высказывания 40
1.3.2. Коммуникативный контекст и его роль в интерпретации обращений семейного дискурса 54
Выводы по главе 1 56
Глава 2. Анализ русских и английских обращений в рамках семейного дискурса 59
2.1. Прагматический и семантический аспекты обращения 59
2.1.1. Антропонимы 65
2.1.2. Термины родства 86
2.1.3. Прозвища и половозрастные обращения 100
2.1.4. Эмоционально-оценочные обращения 110
Выводы по главе 2 124
Заключение 127
Библиографический список 130
Список источников 145
Список использованных словарей 147
- Семейный дискурс. Границы семейного дискурса
- Обращение, его основные, дополнительные и ситуативные коммуникативные функции
- Коммуникативный контекст и его роль в интерпретации обращений семейного дискурса
- Прозвища и половозрастные обращения
Введение к работе
Актуальность исследования. На современном этапе развития лингвистических наук, когда проблемы языка как формы и среды жизнедеятельности человека остаются в центре внимания ученых, любое исследование дискурса в конкретной сфере человеческой деятельности способно открыть новое в уже известных языковых явлениях. Ввиду этого настоящее диссертационное исследование, посвященное изучению особенностей функционирования различных форм обращения в рамках русского и английского семейного дискурса, обладает несомненной актуальностью.
Исследование лингвокультурологических особенностей одного из крупнейших европейских социумов – России, и не менее значимой в масштабе человечества и мировой культуры – Великобритании, продиктовано рядом причин. Во-первых, Россия и Великобритания состоят в отношениях длительного интеркультурного диалога, способствовавшего установлению межнациональных контактов в разных областях: дипломатия, искусство, литература и т.п. Во-вторых, история развития данных социумов позволяет говорить о том, что они обладают как общими чертами, так и этнографической самобытностью в экономической, политической, демографической и других сферах. В-третьих, с лингвистической точки зрения русский и английский языки представляют собой различные типы: синтетический и аналитический соответственно – что обуславливает различия в их устройстве, в частности, в их семантических системах. Таким образом, обращение к материалам двух лингвокультур позволяет изучить национально-культурные особенности речевого поведения носителей языка и тем самым выявить общие и различные черты в функционировании обращений в рамках русского и английского семейного дискурса.
Необходимо отметить, что в связи с появлением большого количества фундаментальных исследований, посвященных разговорной речи, обращение как лингвистический объект оказалось в центре внимания многих ученых. Авторы подвергают анализу средства адресации, функционирующие в системах славянских, германских и романских языков, предпринимают попытки изучения его синтаксических и семантических аспектов (В.П. Проничев, В.Е. Гольдин, А.М. Погорелко, И.В. Дорофеева, C.T. Onions, Л.Н. Зубрилина, А.М. Серебренников, О.Г. Минина, О.Н. Линкевич), проводят исследования обращений с позиций морфологии (R.B. Long, G.O. Curme, O.A. Jespersen, В.Г. Дыкова).
Появление и дальнейшее развитие прагмалингвистического подхода к изучению языка и языковых единиц позволили ученым рассматривать обращение в рамках теории речевых актов как функционально-прагматическую систему речи (Н.Д. Арутюнова, D. Wunderlich, О.Г. Минина, В.Г. Дыкова), выявлять особенности использования апеллятивов на различных дистанциях общения (И.В. Дорофеева, Г.А. Газиева), проводить сопоставительный анализ апеллятивов в коммуникативно-прагматическом аспекте (В.Г. Дыкова, А.М. Погорелко), устанавливать место обращений в коммуникативно-прагматической типологии речевых актов (Г.Г. Почепцов, Н.И. Формановская), изучать феномен обращения как функциональный компонент коммуникативного акта (Л.П. Рыжова).
Прагмалингвистика не обошла стороной и вопрос, связанный с уточнением понятия «дискурс». Определение дискурса как сферы анализа языковых явлений в определённом коммуникативно-прагматическом пространстве, в котором взаимодействуют говорящий/пишущий и слушающий/читающий и для характеристики которого важны конкретные указания на место и время их речевого взаимодействия, связанные с актом общения цели и ожидания (И.П. Сусов), позволило ученым использовать термин по отношению к самым разнообразным сферам человеческой деятельности (дискурс СМИ, политический, медицинский дискурсы). Однако до сих пор в русской лингвистике не было дано точной дефиниции семейного дискурса. Остаются открытыми для исследования основные вопросы, касающиеся уточнения границ, характерных особенностей и субъектов взаимодействия семейного дискурса.
Такая языковая единица, как обращение, также является малоизученной с точки зрения ее функционирования в рамках русского или английского семейного дискурса. До настоящего времени не сделано подробного освещения особенностей функционирования обращений на основе анализа их прагматического и семантического аспектов.
Таким образом, возрастающий интерес лингвистов к проблемам языка и культуры, к изучению мира знаний человека при помощи анализа лингвистических данных, недостаточная разработанность вопроса прагматического и семантического аспектов русских и английских обращений, функционирующих в рамках семейного дискурса, обусловили актуальность данного исследования.
Объект исследования составляют функциональные особенности обращений русского и английского семейного дискурса.
Предметом исследования является обращение, функционирующее в современном русском и английском семейном дискурсе.
Цель исследования – выявить особенности функционирования различных форм обращения как особого вида речевых актов в английском и русском семейном дискурсе в прагматическом и семантическом аспектах.
В соответствии с целью исследования определены следующие задачи:
1) изучить понятия коммуникации и дискурса в современной лингвистике;
2) дать определение понятию семейного дискурса, уточнить границы функционирования семейного дискурса в ряду дискурсивных практик, провести исследование семейного дискурса с помощью анализа определяющего концепта «Семья» / «Family», выявить характерные особенности семейного дискурса;
3) осуществить краткий обзор теоретических подходов, в русле которых обращение исследуется в русской и британской лингвистике, в том числе в свете теории речевых актов, а также обзор взглядов различных авторов на определение коммуникативных функций английских и русских обращений;
4) определить приоритетность основных коммуникативных функций, выполняемых обращением в рамках семейного дискурса, выделить дополнительные коммуникативные функции обращения, установить зависимость между позицией обращения и выполняемыми им дополнительными функциями;
5) исследовать возможности выполнения обращением в изолированном положении ситуативных функций, отражающих коммуникативную цель высказывания;
6) доказать необходимость анализа неапеллятивной части речевого акта и коммуникативного контекста в целях корректной интерпретации обращения и речевого высказывания в целом;
7) отобрать практический материал в соответствии с целями и задачами данного исследования;
8) исследовать семантический аспект обращения с помощью анализа семантической оценочности, фиксирующей различные оттенки отношения к адресату;
9) исследовать иллокутивную силу русских и английских обращений семейного дискурса на основе их семантических и функциональных особенностей, систематизировать сходства и различия данных обращений на основе практического материала.
Поскольку анализ теоретического материала позволяет говорить об обращении как о многогранном феномене в русской и английской лингвокультурах, нам представляется необходимым использование комплексного междисциплинарного подхода при исследовании данных языковых единиц в сфере семейной коммуникации.
Теоретической базой для данного исследования выступили следующие подходы: прагмалингвистический подход к изучению языка (Дж. Остин, Дж. Серль, А. Вежбицкая, С.М. Эрвин-Трипп, Н.И. Формановская, Г.Г. Матвеева, Ю.С. Степанов, Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик, Дж. Лич); теория речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серль, М. Гейс, Г.Г. Почепцов); семантический подход к исследованию обращения (Б.А. Серебренников, В.И. Карасик, Л.Н. Зубрилина, Л.П. Рыжова, В.Е. Гольдин); семантико-грамматический подход к исследованию обращения (А.Н. Печников, Дж. Керм, О. Ясперсен); синтаксический подход к исследованию обращений (В.П. Проничев, О.Г. Ветрова, А.Ф. Кулагин, Ч. Анионс).
Определение семейного дискурса в русле прагмалингвистического подхода предопределило условия подбора практического материала исследования. В него вошла совокупность текстов, темой которых является семья и взаимоотношения между членами семьи, независимо от того, в какой речевой деятельности получают воплощение эти тексты – в семейных разговорах, дружеских беседах, прессе или художественных произведениях.
Таким образом, материалом исследования послужили около 350 фрагментов художественных произведений английских и 420 фрагментов произведений русских авторов ХХ-ХХI вв., около 250 фрагментов русско- и англоязычных текстов того же периода, цитирование которых приводится в Национальном корпусе русского языка и в British National Corpus, расположенных на сайтах http://www.ruscorpora.ru/ и http://www.natcorp.ox.ac.uk/ соответственно, а также результаты личных наблюдений над речевым поведением русских и англичан. Всего было проанализировано 233 русских и 181 английское обращение.
В работе использовались следующие методы исследования: системно-структурный метод лингвистического описания различных групп обращений, функциональный (коммуникативно-семантический) метод; описательный метод (приёмы наблюдения, сопоставления, дифференциации исследуемого материала); метод компонентного анализа (для анализа семантической структуры обращения); метод контекстуального анализа; метод социолингвистического анализа; метод непосредственного наблюдения за речевой практикой коммуникантов.
Основные положения, выносимые на защиту.
1) Наиболее значимыми коммуникативными функциями обращения в семейном дискурсе являются вокативная и характеризующая функции; социально-регулятивная функция оказывается второстепенной. Приоритетность выполняемой обращением коммуникативной функции зависит также от того, к какому виду апеллятивов семейного дискурса относится обращение.
2) Дополнительными функциями обращения в семейном дискурсе являются инференционное прогнозирование высказывания, усиление иллокутивной силы высказывания, ввод имплицитного значения. В изолированном положении обращение может самостоятельно реализовывать ситуативные функции (упрек, восхищение, угрозу и т.д.), отражая коммуникативную цель высказывания.
3) Апеллятивы семейного дискурса могут выражать шесть оттенков оценочности: фамильярность, одобрение, гипокористический оттенок, неодобрение, иронию, презрение.
4) Дифференцированное использование обращений в семейном дискурсе зависит от сложившейся на момент общения ситуации, особенностей взаимоотношений коммуникантов, их принадлежности к тому или иному статусу семейной иерархии, норм, традиций и условностей отдельно взятой семьи и лингвокультуры в целом.
5) Семейный дискурс определяется как речевая деятельность во всей совокупности текстов, объединенных сферой семейных отношений.
Научная новизна исследования заключается в интегративном подходе к проблеме обращения, а именно в анализе рассматриваемой языковой единицы с точки зрения ее прагматического и семантического аспектов в сфере русского и английского семейного дискурса; систематизация сходств и различий данных обращений на основе их семантической и прагматической дифференциации проводилась впервые.
Теоретическая значимость исследования состоит в создании целостного представления об обращении как о языковой единице, рассматриваемой с точки зрения особенностей выполняемых ею функций в рамках семейного дискурса, а также в уточнении понятия «семейный дискурс», выявлении его характерных особенностей.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в лекционных курсах по теории языка, лингводидактике, в разработке лексикографических практических пособий при обучении языку, а также в дальнейших исследованиях различных сфер дискурса и средств адресации с целью выявления национально-культурных особенностей речевого поведения носителей языка.
Апробация основных положений диссертационного исследования. По результатам настоящего исследования опубликовано 9 научных статей, в том числе 2 статьи в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. Основные положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории языка КГУ, кафедры иностранных языков ЮЗГУ; международной конференции «Письменная коммуникация. Межкультурный аспект» (Курск, 2007); международной научной конференции «Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик» (Курск, 2009); VI Международных Березинских чтениях (Москва, 2010); научно-практической конференции «Язык для специальных целей: система, функции, среда» (Курск, 2008).
Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, списка источников, послуживших материалом исследования, и списка использованных словарей.
В первой главе определяется понятие семейного дискурса, дается краткий обзор исследований обращения, уточнение его основных и выявление дополнительных коммуникативных функций, изучается проявление иллокутивной функции обращения в семейном дискурсе.
Во второй главе на основе семантико-прагматического подхода анализу подвергаются пять категорий обращений, функционирующих в рамках русского и английского семейного дискурса. Результаты исследования представляются в виде табличных регистров.
В заключении приводятся итоги исследования.
Семейный дискурс. Границы семейного дискурса
Одной из основных практических проблем нашего исследования является необходимость определения понятия, «семейный дискурс» в русле праг-малингвистического подхода. Для решения данной задачи требуется: 1) иметь первоначальное представление о том, где провести границу, отделяющую семейный дискурс от смежных с ним дискурсов, чтобы обозначить место семейного дискурса в ряду дискурсивных практик (вопрос о типологии дискурсов); 2) выявить «знаковый характер» [Григорьева 2007: 41] семейного дискурса, обозначить участников семейного дискурса; 3) определить характерные особенности семейного дискурса в русской и английской лингвокультурах. Далее попытаемся осветить поставленные вопросы в заявленной последовательности. Как уже было отмечено, прагматические подходы к изучению языка и дискурса, появившиеся во второй половине XX века и позволившие рассматривать дискурс как совокупность организованных и контекстуализованных с функциональной точки зрения единиц «языка в употреблении», представляют наибольший интерес для нашего исследования. К этой группе следует отнести работы 70-х годов: исследования в области повседневного дискурса (конверсационный анализ) (Э. Щеглофф; Дж. Джефферсон; Дж. Ричарде; Р. Шмидт); анализ институциональных диалогических дискурсов (Дж. Синклэр; М. Кулхард); появление теории речевых актов (Дж. Остин; П. Грайс; Дж. Сёрль) и работы по феноменологической социологии (А. Шюц; П. Бергер; Т. Лукман), благодаря которым область бытового дискурса становится предметом научного исследования. Исследователи акцентируют внимание на экстралингвистических измерениях дискурса, к которым относятся: интенции говорящего; убеждения, ценности и установки коммуникантов; цели коммуникативных действий; коммуникативные позиции адресата и адресанта; социокультурный контекст общения, который составляют предписания, ожидания, нормы, предъявляемые к организации и содержанию общения. Это позволяет утверждать, что при исследовании дискурса необходимо ориентироваться не только на изучение его «концептуального аппарата» (характерного языка, тематики, текстов и т.д.), но и на анализ границ дискурсного поля, то есть на обнаружение междискурсивных пространств, в которых заканчивается один дискурс, начинается другой с его иерархией смыслов и значений, с его правилами «сцепления высказываний» [Аникушина 2007], с его условиями воспроизводства текстов.
Проблема определения дискурсного поля представляется нам неразрывно связанной с проблемой типологии дискурсов. Это означает, что через изучение определенных параметров и типовых особенностей того или иногодискурса можно зафиксировать «предел дискурса», то есть обнаружить его границу. Многогранность феномена «дискурс» и возможность его изучения с различных позиций прагмалингвистики, психолингвистики, лингвокультуро-логии и других наук обусловливает неоднородность классификаций дискурса. К примеру, за основу типологии дискурса можно принять когнитивно-интрепретируемый уровень (по И.П. Сусову), тезаурусный уровень (по Ю.Н. Караулову), тип группы, имеющий более или менее устоявшуюся по-зиционно-ролевую структуру, свой набор типов деятельности (соответственно целям и предметам общения), прямо и опосредованно сопряженные с ним показатели уровня формальности, конвенциональности и ритуальности, кооперации и конфликта, социально-психологической когезии, единства и расхождения установок, пространственно-временной локализации, норм и по-рядка взаимодействия (по М.Л. Макарову). По мнению многих лингвистов, тип дискурса, его официальность или неофициальность зависит от видов и сферы- коммуникации, социальных ролей коммуникантов, характера отношений между коммуникантами [Девкин 1979; Волгин 1981; Сиротинина 1983; Habermas 1989; Миронова 1997; Карасик 2000а; Анисимова 2000]. Такой подход к типологии, выявляющий прагматическую основу понятия «дискурс», принят нами в исследовании. Говоря о типах дискурса в рамках какого-либо национально-культурного сообщества, В.В. Красных подчёркивает, что сюда относятся «модификации» последнего, определенным образом «адаптированные» в соответствии с той сферой, в которой он функционирует [Красных 1999: 187]. Можно даже сказать, что разновидностей дискурса столько, сколько сфер деятельности человека, поскольку каждая сфера деятельности порождает свой собственный вид дискурса с присущей ему лексикой и стилистикой. Повседневное общение на бытовые темы порождает бытовой, разговорный и просторечный дискурс, криминальную деятельность представляет специфический дискурс криминалитета, который можно отнести к арготическому дискурсу. Итак, взаимодействие индивидов происходит в определенной сфере коммуникации. Прежде всего, это позволяет исследователям на основе структурных отличий выделять два типа дискурса - институциональный и неинституциональный (разговорный) [Кашкин 2000, Макаров 2003]. Наименее структурированным — неинституциональным — типом можно считать дискурс бытового речевого общения, представляющегося в форме устного разговора. В.Б. Кашкин определяет его как «дискурс сферы бытовой коммуникации» [Кашкин 2000: 21]. Данный дискурс, в свою очередь, может быть поделен на более «мелкие» дискурсы: подростковый дискурс, дискурс дружеского общения, дискурс супружеских отношений и т.д. Более объемным и содержательным нам представляется семейный дискурс, непосредственными участниками которого являются членьь семьи, близкие и дальние родственники. Специфика бытового общения, детально отраженная в разговорной- речи, «является естественным исходным типом дискурса, органически усваиваемым с детства» [Карасик 2000а: 5]. Известно, что институт семьи — один из первых социальных институтов.
Поэтому дискурс семьи можно рассматривать как комплекс смыслов и значений, выполняющих функции статусно-ролевых предписаний и дисциплинарных нормативов поведения1 в семье. При этом для каждой социально-исторической. общности дискурс семьи специфичен, имеет собственные культурные и этнические особенности. Таким образом, семья может быть рассмотрена как регулируемый обществом институт отношений и как часть социума, живущая по неписаным законам внутрисемейных взаимоотношений [Воронецкая 2003: 2].
Обращение, его основные, дополнительные и ситуативные коммуникативные функции
Как в отечественной (советской и постсоветской), так и в британской лингвистике исследование обращений характеризуется определенными традициями, изучается с точки зрения всевозможных аспектов и ведется в разнообразных направлениях. Обращение представляет собой одну из наиболее употребительных языковых единиц, но до сих пор, как показывает практика, нет единого мнения о том, что относить к понятию «обращение». Что касается работ отечественных лингвистов, то довольно часто термин «обращение» используется авторами наряду с термином «апеллятив», что говорит об их синонимичности. Так, О.С. Чеснокова употребляет в своей работе термины «обращение», «форма обращения» и «апеллятив» как равнозначные [Чеснокова 1985: 5]. Подобная взаимозаменяемость двух терминов наблюдается и в работах Б.А. Серебренникова [Серебренников 1982] и В.Г. Дыковой [Дыкова 2003]. Практически нет разногласий в вопросе об определении обращения у авторов, изучающих его в аспекте морфологической и синтаксической проблематики. Авторы используют термин «обращение» по отношению к синтаксически обособленной языковой форме наименования того, к кому мы обращаемся [Зубрилина 1980: 7] с целью вызвать у него определенную реакцию на последующее сообщение или вынудить его к совершению действия [Про-ничев 1971:3]. Британские авторы в своих работах довольно часто употребляют термины «address», «direct address» и «vocative» как взаимозаменяемые. Термин «vocative» изначально предназначался для обозначения не самого обращения, а так называемого звательного падежа (вокатива), сохранившегося лишь в готском языке.
В связи с этим в своей работе О.Г. Минина указывает на ряд проблем и противоречий, возникающих при изучении обращения с точки зрения морфологического, стилистического и семантического ракурсов исследования. Подобная неоднозначность обнаруживается в работах О. Есперсена, называющего вокатив падежом, форма которого совпадает с формой номинатива и, в то же время, приравнивающего вокатив к обращению как к самостоятельной синтаксической единице [Jespersen 1954: 184]. Некоторые словари английского языка также дают схожие определения понятий «address» и «vocative»: Address — the name or title you give someone when you speak or write to them [Macmillan English Dictionary 2002: 16]; Vocative - a type of noun in some languages that is used for showing that a particular person or thing is being spoken to [Macmillan English Dictionary 2002: 1601]. Различие в понимании терминов «вокатив» и «обращение» в отечественной лингвистике связано, прежде всего, с понятием объективного содержания данных речевых единиц и их способностью своим лексическим составом выражать мысль. А.Ф. Кулагин характеризует обращение как «всего-навсего слова или словосочетания, выполняющие номинативную функцию», а вокативные предложения «несут в себе не только и не столько значение обращения к лицу, сколько значение сообщения данному лицу тех или иных мыслей, чувств, волеизъявлений» [Кулагин 1972: 15]. Возможно понятие «вокатив» наиболее точно выражает характерные особенности средств адресации с точки зрения деятельностного подхода. Однако, на наш взгляд, «способность вокативов передавать мысли собеседнику своей интонационной структурой» [Печников 1963: 85] не является основной для всех средств адресации семейного дискурса. В нашем исследовании наряду с термином «обращение» мы будем использовать синонимичный ему термин «апеллятив», поскольку оба термина отражают характерные функциональные способности средств адресации - номинацию, звательность и в известной степени информативность. Определение обращения становится более четким, если принять во внимание его функциональные характеристики, рассмотрение которых возможно в рамках функционально-прагматического аспекта, что и явилось одной из задач настоящего исследования. И все же представляется необходимым предварительно уточнить, какие части речи могут выступать в роли апеллятивов, представляющих предмет исследования. Если исходить из функционального критерия и относить к обращению языковые единицы, выполняющие функцию адресации, позволяющие адресату идентифицировать себя как получателя речи [Арутюнова 1976: 355], то круг единиц, способных выступать в качестве обращений, окажется довольно широким. Данную функцию могут выполнять имена существительные (Марина, зайка, Johnny, honey), имена прилагательные (милый, любимая, dear, lovely), местоимения (ты, вы, you). О. Есперсен рассматривает в качестве обращений и сочетания типа two of you, и местоимения someone, anybody, somebody [Jespersen 1954: 471]. Ряд авторов относит к группе обращений притяжательные местоимение both [Ветрова 1979: 31] и наречия here и there [Велтистова 1964: 13]. В нашем исследовании в качестве обращений мы будем рассматривать языковые единицы, обозначающие лицо, которому адресована речь [ЛЭС 1990: 340], выраженные именем существительным (собственным или нарицательным), именем прилагательным, а также их грамматически связанные сочетания. Для лучшего понимания сущности той или иной единицы языка необходимо рассмотреть вопрос о ее функционировании в речевом потоке.
Это особенно важно для апеллятива, понятие которого имеет двойственное толкование: с одной стороны, как функции языковой единицы, заключающейся в подчеркивании направленности сообщения адресату, а с другой, самих слов в позиции обращения, выполняющих его функции [Гольдин 1987: 115]. Большинством авторов выделяются следующие коммуникативные функции, выполняемые русскими и английскими обращениями: - номинативная функция [Петрова 1983] или функция наименования адресата в речи; - вокативная [Рыжова 1982; Карасик 1992; Минина 2000]; - социально-регулятивная функция или этикетная [Гольдин 1987], позволяющая говорить об общении как о процессе, протекающем в соответствии со сложившимися в данном обществе (социальной группе) конвенциональными нормами поведения для различных социальных ситуаций; - оценочно-характеризующая [Рязанова 1983] функция или функция демонстрации личного отношения к адресату [Погорелко 2001]. В зависимости от аспекта исследования авторы видоизменяют традиционные и выделяют дополнительные функциональные особенности обращения. Изучение номинативной функции прослеживается в работах Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1976], Л.П. Рыжовой [Рыжова 1982], Т.А. Петровой [Петрова 1983], В.Е. Гольдина [Гольдин 1987], A.M. Погорелко [Погорелко 2001], Б.А. Серебренникова [Серебренников 1982]. Б.А. Серебренников говорит о двойственности номинативной функции обращения, которая ведет к тому, что в позиции последнего сочетаются идентифицирующие номинации с номинациями субъективно-оценочного типа [Серебренников 1982: 34]. Эта функциональная двойственность обращений позволила автору выделить два типа номинаций: релятивные номинации, т. е. имена, обозначающие родственные, социальные, эмоциональные отношения {отец, шеф, соседушка) и оценочные номинации, указывающие не на обоюдное, а на одностороннее отношение говорящего к адресату {дорогой, милый, негодяй). Мы принимаем во внимание подобное типовое разделение апеллятивов, но, исходя из исследуемого нами материала, указываем на присутствие в английском и русском языках обращений, сочетающих в себе идентифицирующие и оценочные черты {любимая дочурка, naughty boy). К этому типу апеллятивов справедливо относить обращения-антропонимы и обращения родства, несущие предикатный (характеризующий) компонент вследствие суффиксальных преобразований {Машенька, сыночек, Jackie, daddy).
Коммуникативный контекст и его роль в интерпретации обращений семейного дискурса
Важную роль в интерпретации обращения играет коммуникативный контекст в его широком понимании, указывающий на статусы и роли коммуникантов, особенности их взаимоотношений, место, время, тему диалога. Вне контекста исследовать обращение, его функциональные особенности, оценить иллокутивную силу и просчитать перлокутивный эффект не представляется возможным. Контекст - это фрагмент текста, включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения этой единицы [Амосова 1968]. Мы анализируем микроконтекст - минимальный отрезок речи, в котором обращение реализует свои функции. Он представлен в работе в письменной форме. Микроконтекст присутствует даже тогда, когда апелля-тив употреблен в речи изолированно как самостоятельный речевой акт без слов автора. Это связано с тем, что обращение всегда выполняет хотя бы одну из присущих ему функций, например, вокативную, что в устной речи выражено повышением интонации, а в письменной маркируется восклицательным знаком: - Маша! СоппіеГ [MESS: 125]. В большинстве случаев макроконтекст - окружение исследуемой единицы, позволяющее установить ее функцию в тексте как целом [ЛЭС 1990: 238] - также необходим. Однако мы считаем нецелесообразным представлять макроконтекст каждого обращения на страницах работы, но нам приходится учитывать его, если микроконтекст является недостаточным. Рассмотрим примеры: — Ну, Олежка, ну давай, ну поедем... [Сухинина: 214]. В данном случае микроконтекст позволяет утверждать, что речевой акт содержит обращение в форме краткого имени с уменьшительным суффиксом и адресован лицу мужского пола. Иллокуция обращения предполагает две цели: привлечение внимания адресата и выражение положительного отношения к нему, что созвучно общей цели речевого акта — мольбе об определенном поступке со стороны адресата.
Однако, не обратившись к макроконтексту, нельзя утверждать, что это высказывание прозвучало в рамках семейного дискурса, и, тем более, что адресатом является муж автора слов. С live (in a panic). Матап... [MED: 153]. В данном примере макроконтекст выявляет отсутствие на сцене третьих лиц, следовательно, непосредственная функция апеллятива — звательность не является первичной. Судя по микроконтексту (авторская ремарка и много точне), основная иллокутивная цель обращения — выразить чувство беспокойства адресату, который приходится говорящему матерью. Используя анализ контекста, представляется возможным проследить случаи употребления апеллятивов, не являющихся нормой для коммуникантов, например: Louise (shocked). Pamela! What a thing to say [MED: 107]. (Обычно в данной коммуникативной среде все обращаются к девушке по краткому имени «Рат»). Или выявить имплицитный, завуалированный способ выражения интенции: Clive (rising). Votre Majeste. My Empress! [MED: 98]. Поскольку в контексте неформальной ситуации общения сына и матери данная этикетность избыточна, можно проследить нарушение максимы Качества (по П. Грайсу). В результате этого возникает имплицитная иллокутивная сила, выражающаяся в желании адресанта продемонстрировать ироничное отношение к статусу матери в семье. Контекст позволяет также отграничить обращение от схожих с ним речевых актов: — Марина. Познакомьтесь, это Илья. Таким образом, контекст дает возможность более детально интерпретировать обращение, входящее в его состав, распознать иллокуцию, импли-цитность речевого намерения, получить информацию о коммуникантах и третьих лицах, участвующих в разговоре. Поэтому функционирование различных форм обращения семейного дискурса будет необходимо рассматривать в рамках метода контекстуального анализа. Семейный дискурс — речевая деятельность во всей совокупности текстов, объединенных сферой семейных отношений; выступающая в виде процесса и результата, включающая как экстралингвистический, так и лингвистический аспекты. Участниками русского и английского семейного дискурса являются члены социума, связанные субъективно-оценочным ощущением общности и привязанности друг к другу. Семейный дискурс обладает рядом универсальных характеристик (сег-ментированность дискурсивного потока, наличие макро- и микроуровней в структуре дискурса, субъективность, интерсубъектность и интертекстуальность) и уникальных особенностей. Каналом репрезентации семейного дискурса чаще всего является устная речь, реже письменная.
Способ семейного дискурса — диалог или полилог, организованный согласно правилу мены коммуникативных ролей. Коммуникативная цель варьируется в зависимости от ситуации, в которой происходит процесс общения (побуждение, убеждение, объяснение и т.д.). Тема семейного дискурса — это тема семьи, семейных взаимоотношений. Одной из наиболее употребительных единиц русского и английского семейного дискурса является обращение, которое может быть представлено как особый речевой акт (в случае, если оно употребляется в речи изолированно) или как составляющая речевого акта, выполняющая основные и дополнительные функции в прямой зависимости от соотношения между иллол-локутивой силой обращения и интенциональностью высказывания. Удельный вес основных коммуникативных функций обращения в семейном дискурсе неодинаков: на первом месте выступает вокативная функция, далее представляется оценочно-характеризующая функция, социально-регулятивная функция является второстепенной.
Прозвища и половозрастные обращения
Источник имени собственного — это всегда имя нарицательное, образная основа которого связана с экстралингвистическими факторами: внешностью, родом деятельности, характером и пр. Отсюда такие основанные на сходстве имена и фамилии, как Роза, Violet; Виктор, Кузнецов, Smith и др. Таким образом, прозвище, которое явилось источником подобных именных категорий можно смело считать самой древней антропонимической единицей. К прозвищам относятся 12% русских обращений и 9% английских обращений, содержащихся в практическом материале исследования.
Прозвища являются коннотирующими именами, они не просто называют (обозначают) что-либо, но и указывают на характерное качество того или иного лица. То есть в отличие от имени, отчества или фамилии они тесно связаны с образными переживаниями и содержат в себе эмоциональную оценку [Сергеева 1993:147].
Есть еще одно определение, согласно которому прозвище — это неофициальное оценочное имя, которое употребляется в дополнение к антропониму или вместо него [Дыкова 2003: 26]. Данная дефиниция, с нашей точки
зрения, является наиболее подходящей для рассмотрения прозвищ в рамках семейного дискурса. Во-первых, главная функция таких прозвищ все же во-кативная, особенно, если речь идет о постоянных, устоявшихся апеллятивах. Разумеется, характеризующий момент просматривается в каждом из них, однако его роль второстепенна: мы предполагаем, в большинстве случаев коммуниканты могут не задумываться над смысловой нагрузкой подобных обращений, поскольку со временем причины возникновения прозвищ могут забыться. Во-вторых, прозвища, находящиеся в лексиконе членов семьи, не могут быть единственными обращениями. В отличие от прозвищ, употребляемых в дружеском дискурсе, с успехом вытесняющих и заменяющих официальные номинации, прозвища семейной коммуникации лишь дополняют и вносят разнообразие в общение. Они могут появляться на тех уровнях семейной иерархии, где члены семьи равноправны или же находятся в условиях снисхождения старших к младшим. Достаточно часто они встречаются в коммуникации братьев и сестер, где подобные фамильярные обращения отражают особенность взаимоотношений молодого поколения.
Мы разграничиваем в нашей работе понятия «прозвище» и «фатиче-ское имя». Последнее производится от фамилий и выполняет функцию установления контакта, например: Плот (Плотников), Кузя (Кузнецов), Gorby (Горбачев). Мы относим такие имена к группе сокращенных фамильных вариаций. Прозвищами же они становятся в том случае, если содержат коннотацию и оценку, например: Дрема (Дремова, ленивая, апатичная), Foxy (Fox, хитрый) и др. В качестве апеллятивов могут выступать имена и фамилии литературных героев и исторических личностей, например: Ньютон (знаток физики), Обломов (лентяй), Gulliver (высокий) и др. Одной из наиболее многочисленных групп прозвищ являются общенародные номинации характеристик человека по его внешним признакам {Бочонок, Пышка, Minnie), чертам характера {Плакса, Speedy), интеллекту {Тормоз, Доцент, Turnip). В русской лингвокультуре одно и то же прозвище может сохранять прямо противоположные коннотации, связанные с пейоративной или мелиоративной характеристикой адресата {Голова — человек с огромной головой или умный, образованный). При образовании прозвища могут использоваться фонетические средства выражения эмоциональной оценки — отступление от нормативного произношения {Татиана, Кинстинтин) или употребление экспрессивных звукосочетаний {Кхе-Кхе, Ням-Ням, Wow-wow): — Милый наш Хрю-Хрю, ты куда подевался? Мама обращается к ребенку, за которым замечена нечистоплотность. Роль прозвищ могут исполнять зоо- и фитоморфизмы, переносящие на человека какой-либо признак, присущий тому или иному животному или растению, выделенному языковым коллективом [Клушин 1991: 32]. По словам М.А. Клушина, процесс образования зоо- и фитоморфизмов двухэтапен: «сознание человека вначале интерпретирует свойства животного или растения в человекоподобных признаках, а затем переносит их на человека же» [Клушин 1991: 20]. В русской и английской лингвокультурах найдется бесчисленное множество таких номинативных единиц, которые, в силу своей образности, свободно функционируют в речи в качестве обращений. Так, зооморфизм «слон» имплицирует признак «неуклюжий», «баран» - «глупый», фитоморфизм «березка» несет в себе значение «стройный», «роза» - «красивый». Сравним в английском языке: «lamb» — признак «наивный», «bear» -«неуклюжий», «scrub» - «неважный, мелкий». Ассоциации, вызывающие наши представления о людях и служащие мотивом для эмоционального компонента, базируются на так называемых квазистереотипах - традиционных для данной лингвокультурной общности символах, хранителях информации [Клушин 1991: 103]. Зачастую иллокутивная функция таких обращений состоит в демонстрации нежных чувств к собеседнику