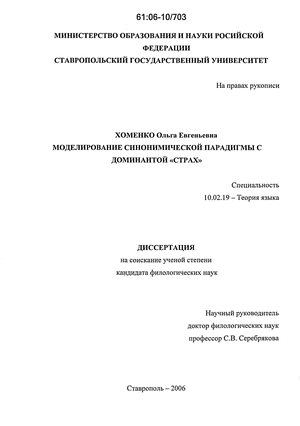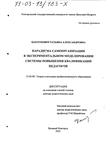Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Подходы к изучению семантических явлений и сущности синонимии
1.1. Лингвистические традиции изучения синонимических отношений 12
1.2. Исследовательские подходы к описанию синонимических отношений 17
1.2.1. Трактовка синонимических отношений на парадигматическом уровне 21
1.2.2. Синтагматический подход к определению синонимических отношений 29
1.2.3. Интеграция исследовательских подходов в целях моделирования многомерной синонимической парадигмы 31
1.3. Критерии синонимичности, релевантные для изучения семантики абстрактного имени 37
1.3.1. Семантическая структура абстрактного имени 38
1.3.2. Семантическая близость как условие нейтрализации семантического различителя 42
1.3.3. Функциональная эквивалентность синонимических единиц в сходных контекстах 48
1.3.4. Семантическая самостоятельность как результат противопоставления по какому-либо признаку 52
1.4. Синонимические отношения в сфере обозначения эмоций 55
Выводы 64
Глава 2. Моделирование синонимической парадигмы с доминантой «страх»
2.1. Дистрибутивно-статистический анализ как лингвистическая процедура выявления системных лексических отношений 67
2.2. Моделирование синонимических отношений с доминантой «страх» в парадигматике
2.2.1. Моделирование синонимической парадигмы со значением «страх» по данным толковых словарей 71
2.2.2. Моделирование синонимической парадигмы со значением «страх» по данным двуязычных словарей 85
2.3. Текстовое представление синонимической парадигмы с доминантой «страх»
2.3.1. Текст как основа изучения языка в действии 98
2.3.2. Специфика применения процедур дистрибутивно-статистического анализа при изучении текстового представления синонимических отношений 103
2.3.3. Моделирование синонимической парадигмы со значением «страх» на основе текста 104
2.3.4. Специфика реализации закона синонимической аттракции в романах С. Кинга 122
2.3.5. Лингвопереводческая специфика синонимической парадигмы с доминантой «страх» 128
2.4. Концептуализация эмоции «страх» во фразеологических единицах и паремиях
2.4.1. Особенности вербализации концепта «страх» во фразеологических единицах и паремиях 135
2.4.2. Специфика образной составляющей фразеологических выражений со значением «страх» 148
Выводы 160
Заключение 164
Библиографический список 170
- Лингвистические традиции изучения синонимических отношений
- Исследовательские подходы к описанию синонимических отношений
- Дистрибутивно-статистический анализ как лингвистическая процедура выявления системных лексических отношений
- Моделирование синонимических отношений с доминантой «страх» в парадигматике
Введение к работе
Лингвистика рубежа веков характеризуется смещением акцентов в сфере описания языковых единиц. Именно изучение семантических явлений на различных языковых уровнях приобретает первостепенное значение в современной исследовательской парадигме.
Словарный запас в высшей степени динамичен, это открытая система, поскольку новые факты действительности, попадающие в сферу человеческой деятельности, новые понятия, формирующиеся на этой основе, получают непосредственное отражение в словарном составе языка. Лексика языка связана с разными внешними коммуникативными участками речевой деятельности. На лексико-семантическом уровне смыкается и перекрещивается внутренняя и внешняя структура языка. Следует отметить, что лексика языка системно организована, то есть наблюдается логическая подчиненность и со-подчиненность словарного запаса, что находит отражение во многих явлениях языка, в частности, в синонимии.
Интерес лингвистов к эмоциональной сфере и различным способам ее языковой экспликации обусловлен тем, что механизмы синтаксиса взаимосвязаны с механизмами психики, так как речевая деятельность теснейшим образом связана с соответствующими функциями головного мозга, с мыслительными и эмоциональными процессами, с поведенческими реакциями. Эмоции, мышление и речь - продукты психической деятельности человека и его сознания, причем, «язык, речь являются сознательной формой отражения действительности, посредством которых человек организует и контролирует психологические процессы. Они составляют основу самосознания человека, его отношения к себе, оценок общественных действий, своего места в природной и социальной среде» (Краткий психологический словарь 1998: 229).
Слово представляет собой основную структурно-семантическую единицу языка, которая служит для именования предметов, их свойств, явлений, процессов и качеств. Любое высказывание субъекта соотносится с окружающей его обстановкой или ситуацией, оно ориентировано на участников речи.
Очевидно, что все носители языка говорят только развернутыми высказываниями и даже текстами, а не разрозненными словами и не отдельными фразами. Если мы хотим получить полное представление о значении какого-либо слова, следует исходить из того, что слова в реальном общении включены в предложения, в тексты и ситуации. Таким образом, семантика изолированных слов может значительно отличаться от семантики слов в тексте, поскольку только в тексте слово получает свое полное значение и осмысление. Текст - не хаотическое нагромождение единиц разных языковых уровней, а упорядоченная система, в которой все взаимосвязано и взаимообусловлено.
Актуальность исследования обусловлена, во-первых, возросшим интересом к исследованию синонимии. Комплекс проблем, связанных с лексической синонимией, приобретает новые очертания, согласуясь с современными подходами к лингвистическим исследованиям. Во-вторых, недостаточной разработанностью четких и достоверных критериев синонимичности, определяющих не только характер, но и степень сходства и различий слов, образующих определенный семантический блок. В-третьих, возросшим интересом к исследованию семантики абстрактного имени и, в частности, специфики номинаций концептосферы эмоций в различных лингвокультурах, являющейся пластичной, открытой и быстро меняющейся языковой подсистемой, оценочно определяющей бытие человека. В-четвертых, важностью исследования текстовой реализации представленных в работе единиц, способствующего их более полному лексикографическому портретированию. Именно в рамках текста прослеживается «приращение смыслов» эмотива, которое в нашем исследовании понимается, как способность текста расширять смысловое содержание лексемы, дать информацию об оттенках значения группы слов, соотнесенных с одним понятием, путем анализа их дистрибутивных свойств с учетом специфики эмоциональной ситуации. В-пятых, поскольку национальные особенности мышления и поведения фиксируются в знаках языка и отражаются в нем, особый интерес для исследования национальной специфики эмоциональных концептов, способов их восприятия и идиоматизации в рамках отдельно взятой лингвокультуры представляют фразеологические единицы языка. Понимание эмоции, обозначенной словом, модифицируется национальной культурой; соответственно, смысл слова, называющего одно и то же явление в разных языках, не будет совпадать. Масштаб дивергенции значений слов, называющих один и тот же феномен, соответствует расхождению национальных культур.
Объектом исследования является лексикографическое и текстовое представление синонимической парадигмы с доминантой «страх».
Предметом исследования выступают семантические отношения в границах синонимической парадигмы с доминантой «страх» в английском и русском языках.
Цель работы - моделирование синонимических отношений в границах единой семантической парадигмы с общим значением «страх» на парадигматическом и синтагматическом уровне.
Указанная цель предполагает решение следующих задач:
• изучить основные направления в исследовании синонимических отношений лексических единиц;
• выделить основные критерии определения степени синонимичности слов;
• установить специфику парадигматических и синтагматических отношений внутри изучаемой синонимической парадигмы;
• разработать модель синонимической парадигмы с доминантой «страх»;
• определить семантическое расстояние и семантический объем исследуемых единиц;
• выявить лингвокультурологические особенности идиоматизации эмоционального концепта;
• дать сравнительную характеристику наполнения синонимических парадигм с составляющей «страх» в русской и английской лингвокульту-рах.
Теоретической базой исследования послужили работы ведущих отечественных и зарубежных лингвистов и когнитологов, в том числе занимающихся исследованиями в области лингвистики эмоций: В.Н. Гридина (1979), В.И. Шаховского (1987), Л.В. Шевелевой (2001), Н.А. Красавского (2001) и др.; работа содержит обзор трудов по теории синонимии, в частности, таких языковедов, как В.Г. Вилюман (1980), А.П. Евгеньева (1966), Д.Н. Шмелев (2003), Ю.Д. Апресян (1995, 1996), В.В. Виноградов (1975), С.Г. Бережан (1973), Л.О. Чернейко (1997), СВ. Серебрякова (2002); большое внимание уделяется трудам лингвистов, посвященным лингвистическому анализу текста: О.И. Москальской (1981), Н.С. Валгиной (2003), Б.А. Серебренникова (1988), А.А. Уфимцевой (2002), Л.Г. Бабенко (2003).
Материалом исследования послужили лексикографические источники английского и русского языков, художественные тексты на английском языке и их переводы на русский язык (романы С. Кинга), в которых выявлялись лексические единицы, выступающие в качестве составляющих синонимической парадигмы с доминантой «страх». Исследовательская картотека составляет свыше 4000 контекстов.
Основными методами исследования являются дистрибутивно-статистический анализ языковых единиц, который позволяет рассмотреть составляющие исследуемого эмоционального концепта в совокупности всех их окружений, а также метод компонентного анализа, способствующего более глубокому раскрытию семантики лексических единиц и определению характера взаимоотношений центра и периферии в рамках синонимического ряда.
В соответствии с задачами работы целесообразно использование некоторых приемов описательного метода с целью изучения синонимии как явления языка в целом (выделение единиц описания, их свойств, признаков, характеристик) в синхроническом аспекте. Этот метод поможет нам синтезировать существующие подходы к изучению данного явления, классифицировать различные типы отношений между синонимами; психолингвистический метод позволит проследить соотношение лингвистических процессов и созна ния; сопоставительный метод способствует проведению системного описания и исследования синонимических отношений лексических единиц английского и русского языков, с целью прояснения их специфичности; полевый метод, предполагающий описание семантически однопорядковых языковых единиц, поможет получить более достоверные лингвокультурологические данные о бытовании эмоциональных концептов в английской и русской кон-цептосферах; дефиниционный анализ словарных статей является отражением функционирования моделируемых лексем в парадигматическом аспекте.
Гипотеза исследования может быть сформулирована следующим образом. Выявление словарного представления и текстового функционирования семантической подсистемы английского и русского языков позволит, по нашему мнению, осуществить моделирование иерархически организованной семантической парадигмы со значением «страх» с учетом данных парадигматического и синтагматического уровней. Рассмотрение вербализации эмоционального концепта в паремиях и фразеологизмах приведет к выявлению некоторых лингвокультурологических особенностей языковой презентации исследуемой эмоции в английском и русском языках.
Научная новизна работы обусловлена следующими моментами. Интеграция парадигматического и синтагматического подходов позволила осуществить моделирование иерархически организованной синонимической парадигмы, с опорой на верифицированные, подтвержденные количественными показателями, данные о сильных и слабых синонимических отношениях лексических единиц в языковой системе и речевых реализациях. Изучение и паспортизация контекстных употреблений слов-синонимов со значением «страх» способствовали получению достоверной информации о семантической наполненности лексем, о степени семантической близости выявленных слов-синонимов, динамике изучаемой подсистемы. Выход на текстовой уровень, характеризующийся расширением синонимических отношений, позволил установить многомерность эмоциональных состояний, в частности страха, для описания которых потребовалась актуализация окказиональных лек сических единиц, расширяющих границы текстовой синонимии. Рассмотрение особенностей функционирования синонимичных лексем со значением «страх» в составе фразеологических выражений, расширяющих на особых основаниях границы синонимического ряда, способствовало получению новых знаний о содержательной стороне концепта «страх» в английской и русской лингвокультурах.
Теоретическая значимость работы определяется кругом поставленных проблем, освещение и решение которых станет основанием для дальнейшей разработки некоторых теоретических основ лексикологии и лингвокультуро-логии. Результаты, полученные в ходе исследования, являются доказательством необходимости интегрированного подхода к изучению семантики слов-синонимов. Учет двух взаимосвязанных аспектов при описании особенностей функционирования лексем в языке - парадигматического и синтагматического - позволил получить полную информацию о семантической наполненности слова, о его месте в пределах выделенной синонимической парадигмы по отношению к доминанте ряда, обусловленном авторской интен-циональностью. Именно комплексный подход к изучению функционирования синонимичных лексем абстрактной семантики в языке и речи способствует получению полной картины выражения эмоциональных состояний языковыми средствами. Работу можно считать определенным вкладом в теорию лексической синонимии. Алгоритмизация исследовательских процедур, снабжение семантических компонентов числовыми показателями позволяет построить иерархически организованную синонимическую парадигму высокой степени достоверности.
Практическая значимость работы заключается в возможности использовать материалы проведенного исследования в лексикографической практике при составлении тематических и толковых словарей, словарей синонимов нового поколения, в лекционных курсах по лингвокультурологии, лексикологии, сопоставительному языкознанию, теории перевода, а также в переводческой практике.
На защиту выносятся следующие положения диссертации:
1. В основе лексической синонимии лежит семантическая близость слов особого характера. Синонимические связи - не единственный вид семантических отношений в лексике, основанный на близости значений, но близость синонимического характера проявляется во всем предметно-логическом содержании лексического значения. От других группировок слов на предметно-логической основе (тематические, ассоциативные, антонимические и др.) синонимы отличаются характером предметно-смысловой общности: в основе их семантической связи лежит тождество / близость значений.
2. Специфика структуры образуемых оппозиций определяется тем, что слова-синонимы семантически самостоятельны, так как противопоставлены друг другу в тождественных условиях; семантически близки друг другу, так как взаимозаменяемы в контекстах, отмеченных наличием слов, семантически связанных с дифференциальным признаком оппозиции, что и представляет собой условия нейтрализации семантического различителя. Тенденцию к нейтрализации обнаруживают языковые единицы, совокупность общих признаков которых нетривиальна, наряду с релевантностью дифференциального признака.
3. Синонимическая парадигма рассматривается нами как модель, демонстрирующая последовательное расположение членов ряда, наделенных одной «сферой смысла», и характеризующаяся внутриядерной системностью. Основой для моделирования иерархической структуры внутри парадигмы является семантический параметр, предполагающий наличие как совпадающего, так и различительного компонента в семантике противопоставляемых слов.
4. Исследование синонимических лексем, основывающееся на дистрибутивно-статистическом анализе, делает возможным получение квантитативного подтверждения качественным характеристикам языковых единиц, способствуя тем самым полноценному описанию функционирования слов-синонимов в парадигматическом и синтагматическом планах языка. Семантические свойства слова, проявляемые в обеих подсистемах, представляют неодинаковую информацию о внутренней силе семантических связей в каждой из них: они не покрывают друг друга без остатка, а являются взаимодополняющими. Достоверная информация о семантике слова может быть получена только при его комплексном рассмотрении в статическом и динамическом аспектах.
5. Получение полной картины о функционировании синонимичных лексем в речи возможно в рамках когнитивного подхода, который позволяет выделить стоящие за языковыми формами когнитивные структуры презентации знаний. Изучение устойчивых речевых высказываний, содержащих информацию об оригинальности языкового мышления того или иного языкового общества, позволяет установить отношение представителей различных лингвокультур к тому или иному факту действительности, в частности к переживанию эмоциональных состояний.
Апробация работы. Основные результаты исследования отражены в; публикациях по материалам конференций различного статуса: IV международного конгресса «Мир на Северном Кавказе через язык, образование, культуру» (Пятигорск, 2004); Всероссийской научно-практической конференции «Лингвистическое образование: профессия, миссия, карьера» (Ставрополь, 2003); научно-методической конференции «Университетская наука - региону» (Ставрополь, 2003); межвузовской научной конференции «Актуальные проблемы социальной теории и практики» (Москва, Ставрополь, 2003); XI годичного научного собрания Северо-Кавказского Социального института «Современное гуманитарное знание о проблемах социального развития» (Ставрополь, 2004). Наиболее важные проблемы настоящего диссертационного исследования обсуждалась на заседании кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Северо-Кавказского Социального института и кафедры теории и практики перевода Ставропольского государственного университета.
В структурном плане работа состоит из Введения, 2-х глав, Заключения и Библиографического списка.
Лингвистические традиции изучения синонимических отношений
Синонимия относится к универсальным типам отношения языковых единиц, заключающихся в полном или частичном совпадении их значений. Интерес к проблеме синонимии имеет давнюю традицию как в отечественном, так и зарубежном языкознании. Х.А. Малявнова, Т. Шиппан, Г.Е. Нойес приводят в своих работах обзор истории становления науки о синонимах на материале разных языков (Малявнова 1968: 8; Noyes 1951: 951-970; Shippan 1992: 246). Так, например, первое упоминание о синонимах в русском языке встречается в работе П. Берынды «Лексикон славяно-российский и имен толкование», вышедшей в 1627 году в Киеве. В немецком языке термин «синоним» впервые был употреблен в сборнике «Немецкая синонимия или родственные по значению слова» в 1794 году; в английской литературе, как справедливо замечает Г.Е. Нойес, развитие науки о синонимах «...начинается непосредственно под влиянием французской лингвистической науки» (Noyes 1951: 951), с появлением работы Дж. Траслера «Различия между словами, считающимися синонимами в английском языке», которая явилась практически дословным переводом труда известного французского лингвиста Г. Хи-рара «Правильность французского языка», вышедшего в свет в 1718 году.
Современное языкознание располагает несколькими концепциями, касающимися изучаемого явления. Следует отметить общие черты большинства таких определений (Вилюман 1980, Апресян 1995, Евгеньева 2002, Постникова 1984, Чернейко 1997 и др.), которые можно подразделить на два основных направления в трактовке слов-синонимов, определяющих их как: слова, семантически тождественные, но различающиеся местом в системе стилей, с одной стороны, и слова, тождественные по каким-либо своим значениям (или лексико-семантическим вариантам), с другой. Указанные определения синонимов перекрещиваются между собой, так как тождест венные значения разных слов могут также различаться в сис теме стилей языка. Следовательно, прямое значение одного слова и синонимичное ему переносное значение другого слова не могут рассматриваться как семантические эквиваленты, тождественные друг другу;
2) слова, рассматриваемые с позиций семантического тождества и семантической близости по отношению друг к другу. Такое определение, используемое и в нашей работе, воспроизводит более широкое понимание слов-синонимов и выделяет в качестве основной цели их анализа установление четких различий, что способствует распределению синонимичных лексем по разным функциональным стилям. Во-первых, все они не могут быть признаны в полной мере точными, так как сравнение значений не опирается на какую-либо формальную процедуру, а понятие оттенка значения не имеет достаточно ясного содержания. Исчерпывающее определение синонимии как явления языка требует полного освещения значений слов данной лингвокультуры, с учетом метаязыка рассматриваемого выражения.
Во-вторых, в большинстве определений упор делается не на общие свойства слов-синонимов, а на различия между ними. Слова, совпадающие по значению, все чаще рассматриваются как лексические дублеты, варианты. Подлинными синонимами признаются слова, расходящиеся по каким-то вариантам значения (см.: Апресян 1996, Постникова 1984 и др.).
Одни ученые полагают, что синонимичность слов «... является просто-напросто фикцией» (Винокур 1929: 85). Отрицание существования синонимии происходит в случае отождествления синонимии вообще и ее разновидности, абсолютной синонимии, в частности. В современной лингвистике уже стало аксиомой, что абсолютной синонимии не существует. Подтверждением этого факта может стать высказывание Л. Блумфилда об абсолютных сино нимах: «Каждая лингвистическая форма имеет постоянное и специфическое значение. Если формы фонетически различны, мы предполагаем, что их значения также различны... Мы предполагаем, короче говоря, что действительных синонимов нет» (Bloomfield 1964: 145). Существует мнение, что полную (тотальную) синонимию можно нередко встретить в технической или научной терминологии: Caecitis - Typhlitis, Spirants - Fricatives, Lautehre - Pho-netik. Однако отмечается, что в подобных случаях «два (или более) тотально синонимичных термина могут в принципе существовать в профессиональной среде в течение непродолжительного времени, однако затем из них будет выбран и закреплен за данным значением только один, а его «соперники» либо исчезнут из употребления, либо разовьют новые значения» (Лайонз 2004: 138). С. Ульман отмечает, что абсолютная синонимия идет вразрез с нашим отношением к языку. Очень мало слов полностью синонимичных в смысле взаимозаменяемости в любом контексте без малейшего изменения номинативного значения, эмоциональной окраски или эвокативного значения» (U11-mann 1984: 141).
По мнению других, синонимами могут являться только слова, полностью совпадающие по значению (Brekle 1992: 88) или же по своим отдельным компонентам (Бережан 1973: 81). Некоторые считают синонимами слова, обозначающие один и тот же предмет или мысль (Томашевский 1959: 20).
В своем исследовании мы согласимся с трактовкой синонимов как слов, близких по значению, вслед за рядом лингвистов (Шмелев 2003; Апресян 1995; Серебрякова 2002), с учетом того, что «во множестве слов, обычно признаваемых синонимами, следует различать синонимы в узком смысле этого слова и квазисинонимы: они ведут себя по-разному относительно системы перефразирования» (Апресян 1996: 220). Принимая за основу это определение, можно говорить о различной степени синонимичности слов, объединенных одним понятием в семантическую подсистему.
Ж.П. Соколовская замечает, что для характеристики синонимов, наряду с решением вопроса о критерии синонимичности, «необходимо дать однозначный ответ на вопрос о характере тех различий, которые могут быть допустимы в пределах синонимичности, то есть о тех различиях, которые могут наблюдаться между словами-синонимами, поскольку сам факт наличия тех или иных различий признается всеми исследователями» (Соколовская 1970: 44). Каждое из таких слов имеет свой оттенок в значении, который функционирует внутри понятия, в пределах его логической схемы, не затрагивая категориальных функций значения слова. Оттенок значения играет особо важную роль в синонимике языка. Несмотря на то, что слова, входящие в одну лекси-ко-семантическую группу, зачастую лишь близки по значению, они могут выступать в речи как эквиваленты соответствующего понятия. Именно вопрос о смысловых отличиях слов-синонимов является спорным.
Исследовательские подходы к описанию синонимических отношений
В рамках современной лингвистической научной парадигмы язык принято рассматривать как инструмент коммуникации, представляющий собой систему знаков, и как речевую деятельность. Причем, «материалом лингвистики являются, прежде всего, все факты речевой деятельности человека с охватом всех форм выражения», при этом «речевая деятельность непознаваема, так как неоднородна» (Соссюр 1977: 44). Лингвистический анализ слова как системы знаков и как речевой деятельности - два пути изучения языка как деятельности, следовать которыми одновременно невозможно (см.: Соссюр 1977). Такое смещение акцента с рассмотрения отношений между собственно знаками на анализ коммуникативного контекста, представленного посредством знаков, является причиной смены логической модели языка.
При изучении лексико-семантического уровня языка мы исходим из того, что главной его единицей выступает слово как носитель лексического значения. Современная семасиология не располагает точным определением термина «значение»: включая в себя разные аспекты, это понятие трактуется и как «...особая языковая форма отражения действительности, и как отношение между звуковым комплексом и понятием, и как отнесенность звукового комплекса к явлениям действительности» (Шмелев 2003: 69). Анализ различных подходов к толкованию значения слова позволяет заметить, что невозможно определение значения как «чисто языкового явления».
В.А. Звегинцев замечает, что такого рода определения неудовлетворительны тем, что в них «значение слова выносится за пределы языка, превращается во внеязыковой факт и поэтому, естественно, устанавливается нелингвистическими терминами и методами» (Звегинцев 1957: 122). В то же время вряд ли можно остановиться и на исключительно лингвистическом подходе к определению сущности термина «значение слова», так как, по меткому замечанию Д.Н. Шмелева, «...мы, по существу, очутились бы перед «уравнением со всеми неизвестными...мы должны бы были определять одни величины другими, еще не определенными, величинами» (Шмелев 2003: 73). Очевидно, что такой подход приемлем лишь при условии построения рациональных правил, позволяющих учитывать сочетаемость слов. Согласно В.А. Звегин-цеву, именно сочетаемость отдельно взятого слова является условием существования его лексического значения: «В плане чисто лингвистическом, значение слова определяется его потенциально возможными сочетаниями с другими словами, которые составляют так называемую лексическую валентность слова. Совокупность таких возможностей слова фактически и обусловливает существование лексического значения как объективно существующего явления или факта системы языка» (Звегинцев 1957: 123).
В истории языкознания значение слова нередко отождествлялось с понятием. Учитывая обобщающую и классифицирующую природу значения лексемы, мы не можем обойти содержание термина «понятие». «Слово есть средство образования понятия, и притом не внешнее, а внушенное природою человека и незаменимое» (Потебня 1976: 165). Понятие определяется как «мысль о классе предметов, как совокупность существенных, отличительных признаков, по которым вычленяется из действительности определенный класс предметов или явлений» (Гречко 2003: 223). Основное отличие понятия
от значения состоит в том, что, будучи явлениями разного порядка, первое выступает как категория мышления, второе носит чисто лингвистический характер. В логической семантике принято различать два основных вида значения: экстенсиональное (предмет или класс предметов, обозначаемых данным выражением) и интенсиональное (смысл выражения) (Уфимцева 2002: 5). В настоящем исследовании мы согласимся с мнением ряда ученых, полагающих, что значение слова «выступает как диалектическое единство языкового и внеязыкового содержания» (Шмелев 2003: 75). Связанное с определенным звуковым комплексом, оно образует слово, которое непосредственно связано с другими единицами языка.
Являясь отражением каких-либо явлений внеязыковой действительности, слово содержит определенные понятия об этой действительности. В языке существуют разные по структуре типы словесных знаков: одни из них отражают действительность, а другие преломляют ее, «представляя собой результат осмысления сложного мира состояний, отношений, связей, свойств, создают идеальные объекты, не постигаемые эмпирически» (Чернейко 1997: 173). Данные модели словесных знаков в обширной литературе по лингвистике представляются в качестве «дихотомии конкретное / абстрактное имя» (там же).
Основное исследовательское внимание нацелено в данной работе на изучение специфики абстрактных имен, в частности номинантов эмоции «страх». Как уже отмечалось выше, абстрактное имя может быть представлено в виде акустической оболочки, состоящей из инвариантной (общая часть для всех значений), и вариативной (производная от опыта языковой личности) частей по причине расплывчатости и неопределенности его семантического образа. По своему содержанию означаемое отстает от означающего, тем самым делая инвариантную часть значения ощутимо меньшей по отношению к вариативной. Таким образом, основное понятие абстрактного имени кроется в слове, превращая речь в дискурс, требующий многоаспектного рассмотрения.
Лексико-семантический уровень аккумулирует и закрепляет итоги познавательной деятельности говорящего коллектива / индивида, выработанные в практике общения. В силу этого лексико-семантический уровень существенно отличается от всех других аспектов языка. Языковеды указывают на ряд определяющих его характеристик. Словарный состав подвижен и проницаем, это открытый уровень языка: новые факты действительности, попадающие в сферу человеческой деятельности, новые понятия, формирующиеся на этой основе, получают непосредственное отражение в словарном составе языка. Этот факт свидетельствует о «неисчерпаемости мира и ограниченности познавательных возможностей» (Чернейко 1997: 177).
Дистрибутивно-статистический анализ как лингвистическая процедура выявления системных лексических отношений
Одним из наиболее точных методов лингвистического исследования является дистрибутивно-статистический анализ, принадлежащий к отдельной области языкознания - лингвистической статистике. Он основан на адаптации приемов и методов теории вероятностей и математической статистики к языковым явлениям и процессам. При этом основное внимание уделяется не только определению количественных характеристик явления, а обязательному анализу их соотношений, определению степени их взаимосвязи, что позволяет расширить возможности исследования, а также накопить достаточный объем качественных и количественных характеристик исследуемых единиц. Именно поэтому метод дистрибутивно-статистического анализа широко применяется при исследовании синонимичных и антонимичных лексем (см.: Серебрякова 2002). Так как предметом исследования выступают номинанты эмоции «страх», наше внимание будет сконцентрировано на анализе семантически родственных и близких по значению слов-синонимов с целью выявления характера и силы семантической связи между ними.
Изучение семантических связей между языковыми единицами основывается на предварительном отборе материала. В основе лежит принцип индукции, то есть выдвигается рабочая гипотеза, согласно которой определяется круг слов, между которыми предполагается наличие семантических связей. Ассоциативный подход к исследованию слов-синонимов нецелесообразен, так как некоторые оттенки значения «не всегда поддаются однозначной интерпретации» (Серебрякова 2002: 75). Несмотря на то, что некоторые языковеды считают невозможным количественное определение степени синонимичности слов (Будагов 1978: 40), мы все же попытаемся выявить степень синонимичности в границах группы близких по значению лексем.
Исследование языковых процессов традиционно заключается в рассмотрении таких понятий, как языковая способность (устное высказывание) и текстовая реализация лексем. Причем, большее внимание уделяется анализу текстовой реализации тех или иных лексических единиц, так как при их изучении рассматривается не только содержание и структура, но и условия их функционирования и сфера применения. Любое исследование в современной лингвистике направлено как на синтагматический, так и на парадигматический аспекты языка. Принцип перехода от изучения текстуальных связей (синтагматических) к системным (парадигматическим) лежит в основе дистрибутивно-статистических методик и может быть сформулирован следующим образом: парадигматические связи, связи второго порядка, должны выводиться из связей синтагматических. Два элемента связаны парадигматически, если оба они синтагматически связаны с какими-то третьими элементами. Значит, представляется возможным предположить, что сила парадигматической связи должна возрастать с увеличением числа и силы общих синтагматических связей (Шайкевич 1976: 370). Таким образом, анализ распределения (лат. distributio - распределение, разделение) единиц в потоке речи, а также в текстовом фрагменте, составляет основу различных разновидностей дистрибутивно-статистического анализа.
Парадигматические отношения возникают между словами, принадлежащими к одной части речи и имеющими некоторое общее значение. Эти слова образуют совокупность единиц, выбираемых для построения высказывания и способных заменять друг друга в одной и той же позиции внутри высказывания. Парадигматические отношения имплицитны, они вскрывают отношения между языковыми единицами только в результате лингвистического анализа. Сходство и различие между синонимичными лексемами в парадигматическом аспекте языка определяются методом анализа их дефиниций по толковым и двуязычным словарям. В данном случае под дистрибуцией понимается «совокупность лексических единиц, линейно окружающих заданную единицу (совместно встречающуюся с ней) в определенном интервале текста (в нашем случае, в словарной статье словаря, то есть термин «дистрибуция» в первом смысле используется только по отношению к словарному тексту как к особому виду метатекста)» (Серебрякова 2002: 234). Единицами описания лексических значения слов являются те или иные семантические признаки, на основании которых и формируется парадигмо-система. Отношения между членами парадигмы определяют ее структуру: выделяется центр (имя поля), ядро (наиболее частотная и информативная его часть), околоядерная зона, зоны ближней и дальней периферии, отличающиеся разной степенью семантической близости с ядром и друг с другом. Если имя и ядро парадигмы выражаются лексемами с наиболее абстрактным значением, состоящим из минимального количества сем, то дальнюю периферию формируют более конкретные по своему значению слова.
Следует обратить внимание на взаимосвязь составляющих синонимического ряда: «Взаимодействие центра и периферии регулируется центростремительными силами, обновляющими центр за счет периферии, и центробежными силами, наполняющими периферию. При этом могут образовываться новые смысловые центры, выходящие за пределы данной группы и поля» (Конецкая 1998: 24). Полученные данные могут служить основанием для выделения пар сильных и слабых синонимических единиц в парадигматике, то есть сильных и слабых парадигмо-синонимов. В данной работе применяется методика анализа словарных дефиниций существительных, поскольку, по общему мнению исследователей, существительные с логической точки зрения обладают более широкой семантикой, чем другие части речи. Конечно же, необходимо учитывать, что словарные дефиниции не всегда являются безупречным материалом для исследования, так как иногда страдают неточностью и тавтологией. Информация, представленная в словарях, не может быть семантически исчерпывающей, так как познание мира человеком постоянно видоизменяется и углубляется. При условии, что дефиниция признана носителями языка не ошибочной или уместной (Шубин, Троицкая 1971)ю
Моделирование синонимических отношений с доминантой «страх» в парадигматике
Для описания лексических значений указанных единиц могут привлекаться также и данные двуязычных словарей. Используя методику дистрибутивного анализа, основанную на учете совместной встречаемости рассматриваемых слов в статьях двуязычных словарей, представляется возможным определение силы семантических (парадигматических) связей между ними.
Нами были рассмотрены статьи в словарях, в которых дается перевод на русский язык с девяти языков, принадлежащих германской, романской и славянской группам. Сначала были проанализированы все иностранные слова, которые использовались для перевода исследуемых русских лексем в русско-иностранных словарях; затем, с учетом данных, полученных из статей иностранно-русских словарей, озаглавленных выписанными иностранными словами, учитывалась частота совместной встречаемости заданных русских слов. Примечание: I - Англо-русский словарь (Мюллер 1990); II - Немецко-русский Лангендшадтский словарь (1996); III - Французско-русский словарь (Ганшина 1987); IV - Польско-русский словарь (Гессен, Стыпула, 1988); V -Итальянско-русский словарь (Зорько, Майзель, Скворцова, 1999); VI -Португальско-русский словарь (Старец, Феерштейн, 1989); VII -Нидерландско-русский словарь (Дренясова, Миронов, Шечкова, 1999); VIII -Испанско-русский словарь (Ногейра, Туровер, 1995); IX - Датско-русский словарь (Крымова, Эмзина, 2000).
Наибольшее число семантических связей с другими словами данной группы имеет слово страх, за ним в порядке убывания следуют лексемы опасение, уэюас, боязнь, испуг, тревога, беспокойство, волнение, паника, смятение, подозрение, шок, малодушие.
По данным, приведенным в таблице, становится очевидным, что наиболее сильная семантическая связь наблюдается между лексемами страх и опасение (12 связей), страх и ужас (10 связей), страх и боязнь (9 связей), опасение и волнение (9 связей), страх и испуг (8 связей); не отмечено связи между словами опасение и паника, смятение, шок, малодушие; ужас и беспокойство, волнение, смятение, подозрение, испуг и тревога, беспокойство, волнение, смятение, подозрение; тревога и паника, шок, малодушие; беспокойство и малодушие; волнение и шок, малодушие; смятение и шок, малодушие.
Количественные данные, полученные из толковых и двуязычных словарей, не совсем совпадают. Однако, принимая во внимание, что данные лексикографические источники отражают парадигматический план языка, полученные показатели могут быть рассмотрены как дополняющие друг друга.
С целью определения структуры рассматриваемой группы существительных в парадигматическом аспекте, был произведен подсчет данных о величине семантических объемов и степени семантической связи лексем со значением «страх», полученных из всех обследованных двуязычных и толковых словарей.
Наибольшим семантическим объемом обладает лексема страх (65 связей), затем в порядке убывания следуют лексемы опасение (31 связь), беспокойство (30 связей), тревога (25 связей), уэюас (24 связи), боязнь (23 связи), испуг (22 связи), волнение (19 связей), паника и смятение (по 7 связей), шок (3 связи), подозрение и малодушие (по 2 связи).
Условимся считать лексемы, которые совместно встретились в обследованных лексикографических источниках 7 и более раз, сильными парадигмо-синонимами, 6 и менее раз - слабыми парадигмо-синонимами. Следует заметить, что установление разного порога синонимичности при исследовании синонимичных лексем в толковых и двуязычных словарях обусловлен различным количественным представлением лексикографических источников. Данные о частоте совместной встречаемости лексем позволяют выделить среди исследуемых существительных сильные парадигмо-синонимы: страх — опасение (16 связей), тревога - беспокойство (12 связей), страх -ужас (11 связей), страх - боязнь (11 связей), страх - испуг (11 связей), опасение - волнение (10 связей), тревога - волнение (8 связей), беспокойство -волнение (7 связей), опасение - тревога (7 связей), опасение - беспокойство (7 связей). Слабыми парадигмо-синонимами можно считать пары страх -тревога (3 связи), страх — беспокойство (2 связи), страх - волнение (1 связь), страх — паника (1 связь), страх — смятение (1 связь), страх - подозрение (1 связь), страх- шок (1 связь), страх - малодушие (2 связи), опасение — боязнь (4 связи), опасение — испуг (1 связь), опасение — смятение (1 связь), опасение — подозрение (1 связь), ужас - боязнь (6 связей), ужас - испуг (3 связи), ужас - тревога (3 связи), ужас — паника (4 связи), ужас — смятение (2 связи), ужас - шок (3 связи), боязнь - испуг (4 связи), боязнь — тревога (4 связи), боязнь — беспокойство (4 связи), боязнь - волнение (2 связи), боязнь -паника (1 связь), боязнь — смятение (1 связь), боязнь —малодушие (1 связь), испуг — тревога (2 связи), испуг — беспокойство (2 связи), испуг — паника (1 связь), испуг - смятение (1 связь), испуг - шок (1 связь), тревога — смятение (3 связи), тревога - подозрение (2 связи), беспокойство - паника (1 связь), беспокойство — смятение (5 связей), беспокойство — подозрение (2 связи), волнение — паника (1 связь), волнение - смятение (2 связи), волнение — подозрение (2 связи), смятение - шок (1 связь). Не обнаружено связей между словами опасение — паника, опасение — шок, опасение — малодушие, ужас — волнение, ужас - подозрение, ужас - малодушие, боязнь — шок, испуг — волнение, испуг - подозрение, испуг - малодушие, тревога - паника, тревога - шок, тревога — малодушие, беспокойство — шок, беспокойство — малодушие, волнение - шок, волнение - малодушие, паника — смятение, паника — подозрение, паника — шок, паника - малодушие, смятение — подозрение, смятение — малодушие, подозрение — шок, подозрение — малодушие, шок - малодушие, ужас — беспокойство.