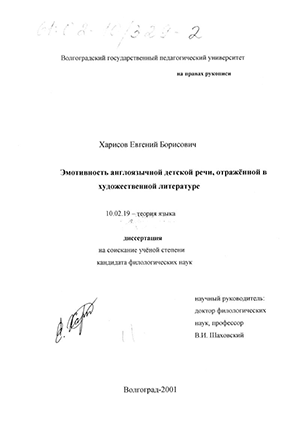Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Соотношение эмоций и когниции как основы формирования эмотивного фрагмента языковой картины мира англоговорящих детей 12
1. Отражение детского эмоционального мышления в языке художественной литературы 21
2. Значение междометий для исследования эмотивности детской речи, отражённой в художественной литературе 41
3. Фрагмент содержания детской эмотивной компетенции, отражённой в художественной литературе 48
Выводы по первой главе 60
Глава 2. Средства вербализации эмоций англоговорящими детьми-персонажами художественных произведений ...:... 63
1. Косвенное называние эмоций в речи детей-персонажей художественной литературы 69
2. Выражение эмоций в речи детей-персонажей художественной литературы 79
2.1 Лексические средства выражения детских эмоций в художественной коммуникации 81
2.1.1 Аффективы в речи детей-персонажей 81
2.1.2 Коннотативы в речи детей-персонажей 93
2.1.3 Эмотивные дериваты с суффиксом -у/-іе в речи детей-персонажей 97
2.2 Синтаксические средства выражения детских эмоций в художественной коммуникации 105
3. Стилистические средства детской эмотивности 112
Выводы по второй главе И
Заключение ^1
Библиография 1^6
Приложение *45
- Значение междометий для исследования эмотивности детской речи, отражённой в художественной литературе
- Фрагмент содержания детской эмотивной компетенции, отражённой в художественной литературе
- Выражение эмоций в речи детей-персонажей художественной литературы
- Эмотивные дериваты с суффиксом -у/-іе в речи детей-персонажей
Значение междометий для исследования эмотивности детской речи, отражённой в художественной литературе
Как известно, в лингвистике существует большое количество теоретических работ, посвященных описанию различных гипотез о происхождении человеческого языка (см., н-р, А.А. Реформатский, 1998; Б.В. Якушин, 1985 и др.). До сих пор велись и ведутся многочисленные споры и дискуссии по вопросу их состоятельности как научных гипотез. Для того, чтобы вести речь о значении лингвистического наследия междометной теории для исследования детского языка, необходимо напомнить её главные предпосылки. В 18 веке Ж.Ж. Руссо определил эту гипотезу как гипотезу эмоционального происхождения языка, объясняя её тем, что эмоции, страсти и желания вызывали у первобытного человека первые звуки голоса (Будагов, 1965:377). Позднее эта теория получила своё развитие и стала называться междометной. Так, по утверждению Д.Н. Кудрявского, в междометиях звук и значение у примитивного человека ещё были соединены неразрывно. По мере же превращения междометий в слова, звук и значение разошлись, причём переход междометий в слова был связан с возникновением членораздельной речи (там же). Однако при изучении междометий современного языка учёные пришли к выводу, что они являют собой совокупность формы и содержания: тьфу! (выражение) есть сам плевок (содержание), ой! (выражение) есть сама боль (содержание), ого! (выражение) есть сама эмоция удивления (содержание) и т.п.
Думается, что главным наследием этой гипотезы для изучения детского языка является идея о том, что каждый человек в начале своей «языковой жизни» прибегает именно к употреблению междометий, которые позволяют ему более кратко и точно передать свои желания и эмоциональные состояния. Так, в возрасте 10-18 месяцев, в период перехода от лепета к речи, дети начинают использовать звуковые элементы языка для более полной и адекватной передачи своих эмоциональных состояний. Эти единицы функционально и структурно соответствуют междометиям: ой-ой-ой! (мальчик испугался собаки), Oh! My! (удивление), боз э MOJ (Боже мой)(произносит девочка радостно, увидев собаку), Lordy! Wow! (страх, восхищение) (Лепская, 1997:25-27).
Таким образом, осознавая лингвистические предпосылки междометной теории для исследования детской речи, современные языковеды используют их с целью объяснения особенностей овладения детьми различными формами коммуникации (Lise Menn, 1992; Лепская, 1996, 1997). Однако в этом исследовании мы рассмотрим междометия как основообразующие языковые средства детской эмоциональной коммуникации в рамках эмоциональной компетенции, начиная с 6-7 летнего возраста, когда дети уже могут манипулировать междометиями сообразно своим целям общения. В данном параграфе мы рассмотрим коммуникативные функции междометий, которые позволят объяснить наличие эмоциональной прагматической потенции в детской коммуникации. Коммуникативная функция используемого детьми междометия определяет также эмоциональный образ картины мира данного фрагмента коммуникации. Отметим, что эти функции междометий играют важную роль в коммуникативном портретировании говорящего ребёнка в ситуации эмоционального общения. На базе имеющегося портрета ребёнка, отражённого в художественной литературе, можно дать личностно-психологическую характеристику его эмоционального речевого поведения, которое определяет тенденции в становлении языковой личности ребёнка и его эмоционального дейксиса (Жура, 1999).
Под междометиями в детской речевой коммуникации понимается лексико-грамматический класс слов, служащих для краткой и точной передачи детьми своих эмоциональных состояний. Выбор адекватного междометия детьми в речевой ситуации обусловлен их желаниями или эмоциональными состояниями, которые они испытывают в общении. Употребление детьми междометий в высказываниях эмоционально окрашивает их. За счёт этого в детской коммуникации (начиная с 6-7 летнего возраста, когда дети, по мнению И.Н. Горелова и К.Ф. Седова (1997), уже способны порождать самостоятельные речевые тексты, в том числе и эмоциональные) формируется эмоциональная прагматическая потенция. Она образует в детском языковом сознании эмпирическое понимание у детей того, что можно использовать междометия в своей речи для передачи собеседнику и донесения до него определённого эмоционального текста. В результате этого в сознании ребёнка появляются эмоциональные образы эмотивных речевых текстов, содержащих междометия. Эмоциональные образы накапливаются и постепенно формируют в детском сознании эмоциональный фрагмент языковой картины мира.
Теперь перейдём непосредственно к рассмотрению коммуникативных функций междометий на базе проанализированной художественной литературы, которые несут в себе эмоциональную прагматическую потенцию. Выделяется три коммуникативные функции междометий в речи англоговорящих детей. Каждая коммуникативная функция может быть передана различными междометиями, поскольку в речевом общении их словарное значение изменяется в зависимости от эмоциональной тональности и ситуации самой коммуникации. 1) Экспрессивно-эмоциональная функция проявляется в ненамеренных, спонтанных реакциях ребёнка на внешние вербальные и невербальные раздражители. Приведём примеры: Нана, няня-собака, почувствовав, что пришло время отходить ко сну, неожиданно начала толкать мальчика Майкла 8 лет к ванной комнате, чтобы тот искупался и ложился спать. Последний отчаянно запротестовал: 1. "Oh dear, oh dear. I shan t love you any more, Nana. I tell you I won t be bathed, I won t, I won t!" (Barrie, p. 19). - Господи! Я не люблю тебя больше, Нана. Я говорю тебе, я не буду, не буду купаться! Гек 11 лет показал Тому Сойеру дохлую кошку. Последний пощупал её и выразил своё удивление: 2. "Lemme see him, Huck. My, he s pretty stiff. Where d you get him?" (Twain, 66). - Гек, дай посмотреть. Ой, она очень твёрдая. Где ты её достал? В данных примерах дети с помощью междометий выражают свою реакцию (в первом - реакция негодования, возмущения, во втором -удивления), в основе которой лежит эмоционально-физиологический импульс от неприятного ощущения. 2) Фатическая функция направлена на речевую реализацию аппелятивных намерений ребёнка: Мальчик 10 лет, который находится в заложниках у бандитов, обращается к ним, чтобы привлечь их внимание: "Ha! cursed paleface, do you dare to enter the camp of Red Chief, the terror of the plains" (O Henry, p. 197). - Xa! проклятый бледнолицый, ты посмел войти в лагерь вождя краснокожих, ужаса всех равнин. Кэрол 12 лет попыталась привлечь внимание других девочек, чтобы сообщить им важную информацию: "Неу_, kids. What kind of a party are we going to give Julie? Tomorrow is her birthday. Let s plan something good..." (Beim, 1967:25). - Эй, народ. Какую вечеринку мы организуем для Джулии? Завтра её день рождения. Давайте придумаем что-нибудь хорошее... Здесь междометия используются детьми для привлечения внимания адресата или установления с ним контакта. Естественно, что выбор соответствующего междометия определяет общую тональность следующего за междометием высказывания.
Фрагмент содержания детской эмотивной компетенции, отражённой в художественной литературе
Известно, что сознание человека способно сформировать «идеальный образ внешнего мира», включающий «знание об объекте познания и эмоциональное переживание» (Постовалова, 1988:20), т.е. когницию и эмоцию. Они являются основными и «главными критериями или способностями человеческого ума, человеческого опыта с его индивидуальными и социальными аспектами» (Danes, 1987:169). Нельзя сказать, что проблема корреляции эмоций и когниции является новой для лингвистики и психологии. Она была предметом рассмотрения в работах многих отечественных и зарубежных учёных (С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, A.M. Шахнаровича, В.З. Демьянкова, В.И. Шаховского, Ф. Данеша, А. Вежбицкой, К. Изарда, Ж. Пиаже и многих др.). Достаточно вспомнить ряд авторитетных мнений. Так, Л.С. Выготский, говоря об отношениях мышления и речи, полагал, что в сознании существует некая динамическая смысловая система, представляющая собой единство аффективных и интеллектуальных процессов (Выготский, 1934:14). «Психические процессы, взятые в их конкретной целостности, - это процессы не только познавательные, но и аффективные, эмоционально-волевые. Они выражают не только знание о явлениях, но и отношение к ним; в них отражаются не только сами явления, но и их значение для отражающего их субъекта, для его жизни и деятельности. Подлинной конкретной единицей психического (сознания) является целостный акт отражения объекта субъектом». Это образование «...всегда в той или иной мере включает единство двух противоположных компонентов - знания и отношения, интеллектуального и аффективного ..., из которых то один, то другой выступает в качестве преобладающего» (Рубинштейн, 1946:264, цит. по: В.П. Петренко, 1997:181).
Ф. Данеш, анализируя природу соотношения эмоций и когниции, пришёл к выводу, что когниция способна вызывать эмоции по той причине, что она эмоциогенна, а эмоции, в свою очередь, могут влиять на когницию, т.к. они вмешиваются во все уровни когнитивных процессов (Danes, 1992:168-179) и др.
Однако с появлением новой отрасли науки - онтолингвистики - вопрос о корреляции эмоций и когниции, по нашему мнению, может помочь объяснить процессы формирования и развития эмоциональной компетенции, языковой картины мира и языковой личности ребёнка. Как отмечает А.А. Леонтьев, «личность - это относительно поздний продукт как общественно-исторического, так и онтогенетического развития» (Леонтьев, 1975:176). Поэтому, когда мы говорим о языковой личности ребёнка, мы имеем в виду результат динамики тех процессов, которые наполняют и сопровождают её становление. Одним из них является постепенное формирование фонда вербализации соотношения эмоций и когниции.
В своей монографии «Язык ребёнка» Н.И. Лепская показала, как меняются средства выражения эмоций у ребёнка при переходе от доречевой стадии к речевой. Если на доречевом этапе ребёнок пользуется паралингвистическими средствами для выражения своих эмоций и желаний, то на начальном этапе речевой стадии к ним добавляются голофразы, сопровождаемые экспрессивно-эмоциональной интонацией. Например, словом «мама» ребёнок может передавать либо эмоцию радости, либо призыв к кормлению, либо состояние одиночества. Взрослый различает эти состояния ребёнка по интонации, с которой он произносит это слово (Лепская, 1997).
В ходе своих научных наблюдений за речевым развитием англоговорящего ребёнка Л. Блум пришла к очень интересным выводам. Она обнаружила, что новые слова, которыми овладевал ребёнок, не могли помочь ему адекватно выражать свои эмоции. Дело в том, объясняет она, что уже на речевой стадии дети начинают изучать язык как новую систему выражения тех содержаний, которые стоят за их желаниями и потребностями; однако параллельно дети продолжают выражать свои чувства в отношении этих содержаний через внешнее проявление аффекта, авербально (Ad Foolen, 1997:20).
В этой связи у немецких лингвистов К. Каншке и Г. Клан-Делиус имеется предположение, что высокая позитивная и негативная невербальная экспрессивность детей является показателем эмоциональной доминанты и низкой когнитивной способности. Они считают, что дети, которые очень часто выражают аффективные состояния авербально, меньше используют вербальные средства для выражения своих внутренних состояний (Kanschke, Klann-Delius, 1997:173-195). Эти экспериментальные наблюдения за русскоязычными, англоязычными и немецкоязычными детьми подчёркивают большую роль эмоционального фактора при переходе от доречевого языка к речевому и доказывают его универсальность независимо от языка и специфики национально-культурного окружения ребёнка. Наличие эмоционального фактора как на доречевой, так и на речевой стадии языкового развития ребёнка свидетельствует о цельности динамики формирования эмотивного фрагмента его языковой картины мира и его эмотивной компетенции. Иными словами, они начинают формироваться ещё задолго до того, как дети научаются говорить, а связь, которую осуществляет эмоциональный фактор, между этими стадиями никогда не прерывается. Однако не стоит забывать о когнитивном факторе, являющемся «движителем» языкового развития ребёнка и проявляющемся во всех языковых сферах детской коммуникации, в том числе и эмотивной. Это проявляется, к примеру, в умении детей правильно называть свои эмоциональные состояния, а не только выражать их. Многие отечественные и зарубежные лингвисты почти единогласно склоняются к мнению, что, начиная с 20 месячного возраста, у ребёнка развивается способность называть свои экспрессивные формы поведения (плач, поцелуй) и свои эмоции - Я рад, Мне грустно и т.д. Глаголы умственного восприятия типа знать и думать появляются гораздо позже - к 2,8 годам.
В основе умения ребёнка называть свои эмоции лежат сложные интеллектуальные процессы генерализации и отражения объективной действительности. Сам механизм этих процессов в сознании ребёнка осуществляется путём объективации образов предметов и элементарных понятий, т.е. когницией. В.З. Демьянков считает, что в онтогенезе процесс когниции меняется по мере взросления ребёнка. Он объясняет это тем, что ментальность с возрастом вступает на всё новый и новый путь мышления. Он связывает процесс взросления и с выработкой механизма ожиданий (возможна эмоциональная антиципация), т.е. мышление по мере роста ребёнка начинает работать в терминах времени, причинности и вероятности (Демьянков, 1994:26). Из вышесказанного относительно роли когнитивного фактора в языковом развитии ребёнка следует, что в процессе становления его языковой личности наблюдается развивающееся соотношение эмоций и когниции, которое подвергается постоянному преобразованию и оязыковлению. Корреляция эмоций и когниции, по нашему мнению, находится в балансирующем состоянии. В психическом и языковом развитии ребёнка это выражается превалированием тех или иных поведенческих форм. Их выбор можно объяснить первичностью мотивационного источника - аффекта либо познания, который необходим ребёнку в конкретной ситуации.
Выражение эмоций в речи детей-персонажей художественной литературы
Рассмотрение эмотивной лексики будет осуществляться посредством анализа её употребления в различных контекстных условиях с целью выявления речевого пространства эмотивности, раскрывающегося в различных ситуациях эмоционального общения.
Анализ выражения эмоций посредством аффективов (междометий и детских инвектив) ориентирован на эмоциональные ситуации общения, в которых англоговорящие дети-персонажи наиболее часто их употребляют. Эти эмоциональные ситуации способствуют накоплению эмпирического опыта эмотивной коммуникации у детей, который является частью их развивающейся эмотивной компетенции. Наиболее частотными ситуациями, в которых дети-персонажи употребляют междометия, являются эмоциональные ситуации страха, сожаления, радости, удивления, восхищения, пренебрежения. Ниже мы предлагаем список из 32 междометий, используемых англоговорящими детьми в эмоциональных ситуациях общения, представленных в художественной литературе на текстовом пространстве в 3729 страниц. Словарные дефиниции значений междометий взяты из Longman Dictionary of Contemporary English, 1992. Рассмотрим наиболее часто встречавшиеся в проанализированной художественной литературе ситуации эмоционального общения, которые могут в определённой степени помочь в выявлении границ формирующегося речевого эмотивного пространства употребления междометий англоговорящими детьми-персонажами. а) Эмоциональная ситуация «удивления». Мэгги увидела на станции своего приятеля, который пришёл проводить её в летний лагерь отдыха. Для неё его появление было удивительным и приятным. И единственное, что она сказала: "Oh!" (Beim, 1967:9). Ситуация «удивления» в этом примере передана междометным предложением Oh. В этой ситуации реализуется одно из словарных значений междометия Oh!, выражающего эмоцию удивления. Для выражения эмоций удивления англоговорящие дети-персонажи иногда могут использовать и сочетание междометий: Бэкки Тэтчер сказала Мэри Остин, что её мама собирается организовать для Бэкки и её друзей пикник. Мэри была удивлена таким поворотом в их общении, поскольку до этого между ними были несколько холодноватые отношения: "My ma s going to let me have a picnic." "Oh. goody, I hope she ll let me come." (Twain, 1956:144). - Моя мама разрешит мне провести пикник. - Ого! Здорово! Надеюсь, она разрешит и мне прийти. Этот пример показывает, что эмоция удивления может передаваться двумя междометиями: oh и goody. Первое междометие обозначает эмоцию удивления, а второе - удовольствия. Эмоциональная доминанта удивления в данном контексте, главным образом, выражается междометием oh, о чём свидетельствует авторское описание ситуации общения и речевая реакция Мэри на заявление Бэкки. Мэгги и её мама просматривали старые альбомы на чердаке. Вдруг начался сильный дождь. Мэгги была просто поражена тому, как быстро меняется погода - ещё утром было солнечно, а теперь дождь. Она даже воскликнула от удивления: "Boy, listen to that." (Beim, 1956:2). - Ого! Только послушай. В этом примере эмоция удивления выражена местоимением boy, которое Мэгги использовала для передачи своего удивления резкими переменами в погоде. б) Эмоциональная ситуация «радости». Эта ситуация, как видно из художественной литературы, может передаваться различными междометиями. Мисс Райт, директор детского летнего лагеря, одобрила идею девочек о надписи над дверью с названием палаты. Девочки радостно восприняли её похвалу: "Gold star today. This is the nicest looking bunk in the camp today. Keep it up" "Yea! Yippee! Goody!" (Beim, 1967:38). - Сегодня вы получаете золотую звезду. Это самая прекрасная палата в лагере сегодня. Так держать! -Ура! Здесь эмоциональная ситуация радости передана междометиями Yippee! и Goody!, выражающими эмоции радости и удовольствия. Автор показал, как дети радуются своему первому коллективному успеху. Для этого он использовал выше названные междометия с целью ретрансляции соответствующей эмоции. В данном контексте эмоциональную доминанту задаёт междометие yippee, а междометие goody дополняет и усиливает её. Отец сообщил Дэнни, что тот не пойдёт в пятницу в школу. Дэнни был на седьмом небе от счастья: "No, you won t. You ll be suffering from a very nasty cold on Friday and I shall be forced to keep you home from school". "Hooray!" (Dahl, 1978:88). - Нет, ты не пойдёшь. В пятницу ты будешь жутко болеть, а я буду вынужден оставить тебя дома. -Ура! В этой коммуникативной ситуации ярко выражена эмоция радости, которая реализуется с помощью междометия hooray. в) Эмоциональная ситуация «сожаления». Вэл поинтересовалась у девочек, сколько человек полетят с её родителями на самолёте на пикник. Джули огорчённо объяснила, почему она не может полететь: "How many of us are going? Let s see, are you with us, Julie?" "Gee, I can t go. We d have to take Bobbie and my father says it s too much and he d rather stay night here" (Beim, 1967:77). - Сколько из нас собирается? Давайте посмотрим. Джули, ты с нами? - Эх, я не могу. Нам бы пришлось брать Бобби. Отец говорит: и так много народу. Он лучше бы остался здесь на ночь. Словарным значением междометия Gee является эмоция удивления. В данном контексте реализуется эмоция сожаления, переданная этим междометием. В ситуации, когда после летнего лагеря отдыха Мэгги встретила своих родителей, она воскликнула: "Gosh, it will seem awful not to have my bunk mates tonight." "So you ended up by liking it?" "Liking it? I loved it. Just as you said I would." (Beim, 1967:118). - Боже мой! Кажется ужасным, что я буду ночевать сегодня без своих подружек по палате. - С окончанием смены ты полюбила лагерь? - Полюбила? Да я обожаю его. Всё, как ты говорила.
Эмотивные дериваты с суффиксом -у/-іе в речи детей-персонажей
Ещё одной группой коннотативной лексики в детской англоязычной речи, как показывает анализ художественной литературы, являются эмотивные дериваты с суффиксами эмотивно-субъективной оценки. Нами было проанализировано около 150 случаев употребления англоговорящими детьми-персонажами эмотивных дериватов с суффиксом -у/-іе. В детской художественной литературе нам встречались случаи добавления его к существительным, прилагательным и даже междометиям. В результате анализа были получены следующие эмотивно окрашенные морфологические структуры: noun + -y/-ie; adj.+ -y/-ie; name + -y/-ie; verb + y/ie; interj. + -y/-ie. Прежде, чем привести примеры употребления этих структур в речи детей, необходимо сказать, что суффикс -y/-ie является среди остальных суффиксов эмотивно-субъективной оценки (-ling, -let, -kin, -ette, -ard, -monger, -ster, on, -aster, -eer), выделенных В.И. Шаховским (1969), наиболее часто встречающимся в речи англоговорящих детей-персонажей. Этот суффикс очень активно используют в своей речи и взрослые. Г. Коуэн привёл достаточно объемный список слов из языка взрослых, в которых суффикс -y/-ie сохраняет оттенки смыслов, вложенных в него детьми. Это слова типа: a baddie, a biggie, a doggie (in doggie-bag = unfinished portion of a steak dinner in a restaurants), eentsy-weentsy, feely-goody, footsy, goody, a hidey-hole, horsie, itty-bitty, kiddie, kissy-kissy, meanie, nicey-nicey, oldies but goodies, patty-cake, рее-pee (to urine), piggy, in piggy bank, tenny-weeny, tippieoes (verb), tootsie (foot), toughie, tummy (stomach). (Cohen, 1992:1-10).
Перейдём непосредственно к примерам употребления суффикса эмотивно-субъективной оценки в речи англоговорящих детей-персонажей, обнаруженных нами в художественной литературе, с целью показать морфологические возможности этого суффикса и выявить место дериватов с этим суффиксом в речевом пространстве детской эмотивности. Рассмотрим случаи использования эмотивных дериватов в различных ситуациях эмоционального общения. а) Англоговорящие дети-персонажи употребляют суффикс -y/-ie с именами собственными: фамилиями и личными именами. Существует несколько способов употребления этого суффикса с именами собственными: 1) Англоговорящие дети-персонажи добавляют его к фамилиям. В летнем лагере отдыха директором была мисс Браун. В начале самой смены она собрала детей для того, чтобы объявить программу отдыха на смену. Детям настолько понравились её идеи, что они после её выступления стоя аплодировали ей, выкрикивая: "Yeah, Brownie"(Beim, 1967:19). С помощью этого суффикса, добавленного к фамилии директора, они выразили своё положительное отношение (одобрение, восхищение) к мисс Браун и её идеям. 2) Англоговорящие дети-персонажи добавляют его к полным именам личным. Джон Элиот пришёл проводить свою подружку Мэгги в лагерь отдыха. Она была очень рада его видеть и обрадовалась тому сладкому подарку, который он принёс для неё. Естественно было услышать от неё: "Why, Johny. Gee, thanks!... Chocolate and bubble gum. Oh, that s swell. Thanks again." (Beim, 1967:13). - Вот, Джони. Боже, спасибо!...Шоколад и жвачка. Ой, здорово! Ещё раз, спасибо. В этом суффиксе содержится значение нежного, дружеского отношения, которое Мэгги испытывала к Джону. 3) Англоговорящие дети-персонажи добавляют суффикс -y/-ie к усечённым именам собственным: Том Сойер встретил своего старого приятеля Геккельбери Фина, которого он давно не видел и с которым он находиться в хороших, дружеских отношениях: "Say, Hucky, when you going to try the cat?" (Twain, 1956:69). - Скажи, Гек, когда ты собираешься попробовать кошку? Том Сойер сократил полное имя Huckleberry до Huck и добавил к нему эмотивный суффикс -у, в который он вложил своё отношение дружеской любви и симпатии. Другие производные с этим суффиксом отмечены в художественных текстах: Magg + ie от Margaret, Val +іе от Valeria, Rogg+ie от Rogger etc. 4) Англоговорящие дети-персонажи используют суффикс -у/-іе для образования прозвищ своих сверстников. Как-то толстый мальчик признался своему сверстнику Ральфу, как ребята называли его в школе: "I don t care what they call me, so long as they don t call me what they used to call me at school." Ralph was faintly interested. "What was that?" The fat boy glanced over his shoulder, then leaned towards Ralph. He whispered. "They used to call me Piggy ." Ralph shrieked with laughter. He jumped up. "Piggy! Piggy!" "Ralph-please!" Piggy clasped his hands in apprehension (Golding, 1982:45). - Мне наплевать, как они называют меня, только если они не называют меня так, как они называли меня в школе. Ральф слегка заинтересовался. - И как? Толстяк глянул через плечо и наклонился к Ральфу. Он прошептал. - Они называли меня Хрюша. Ральф так завизжал от смеха, что даже подпрыгнул. - Хрюша! Хрюша! - Ральф, пожалуйста. Хрюша сжал пальцы рук от страха.
Эта ситуация показывает, что суффикс -у как словообразовательный элемент в составе прозвища может вызывать различные эмоции у детей. У Ральфа прозвище Хрюша вызвало смех и чувство безудержного веселья. У самого Хрюши даже произнесение этого прозвища вызывает чувство страха перед насмешками со стороны своих сверстников, вложивших в прозвище иронично-пренебрежительное отношение к толстому, неуклюжему и близорукому мальчику в очках. Итак, главным фактором, обусловливающим добавление англоговорящими детьми-персонажами суффикса эмотивно-субъективной оценки -y/-ie к именам собственным, является необходимость в выражении положительных или отрицательных эмоций, которые дети испытывают только в ситуациях эмоционального общения. б) В речи англоговорящих детей-персонажей употребляется большая группа слов различных частей речи, к которым они добавляют эмотивный суффикс -y/-ie. 1) Существительные. Алиса сидела в своём кресле и вязала. Её котёнок забрался к ней на руки и начал мурлыкать. Она, засыпая, нежно прошептала ему: "Now, if you ll only attend, kitty, and not talk so much, I ll tell you all my ideas about Looking-Glass House" (Carroll, 1956:38). - Если ты будешь только слушать, киска, и не болтать так много, я расскажу тебе все свои мысли о Зазеркалье. С помощью суффикса -у Алиса выразила своё нежное отношение к любимому котёнку. 1) Адъективные существительные. Том Сойер, завидев чужака на своей территории, начал дерзкое наступление: "Smarty! You think you re some, now, don t you?.. Oh! what a hat!" (Twain, 1956:32). - Франт! ты что о себе вообразил, а?.. Ой ты! Какая шляпа! Суффикс -у использован для выражения пренебрежительного отношения к адресату. 3) Существительные, обозначающие членов семьи (granny, daddy, mommy etc.).