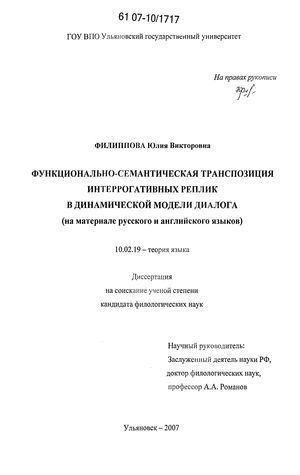Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Функционально-семантическое описание диалогического дискурса с интеррогативными репликами 12
1. Основные характеристики вопросно-ответного диалогического единства 12
2. Роль интеррогативных реплик во фреймовой структуре речевого акта вопросно-ответного типа 32
2.1. Структура фреймовой организации типового диалогического взаимодействия 32
2.2. Участие интеррогативных реплик в формировании регулятивных действий 57
ВЫВОДЫ по первой главе 72
Глава вторая. Особенности прагматической транспозиции интеррогативных реплик в диалоге 76
1. Понятие прагматической транспозиции 76
2. Внутритиповая транспозиция иллокутивного типа «Вопрос» 89
3. Межтиповая транспозиция иллокутивного типа «Вопрос» 101
4. Комплексная прагматическая транспозиция иллокутивного типа «Вопрос» 111
Выводы по второй главе 124
Заключение 128
Библиографический список 134
- Основные характеристики вопросно-ответного диалогического единства
- Структура фреймовой организации типового диалогического взаимодействия
- Внутритиповая транспозиция иллокутивного типа «Вопрос»
- Комплексная прагматическая транспозиция иллокутивного типа «Вопрос»
Введение к работе
Предметом диссертационного исследования является анализ функционально-семантической транспозиции интеррогативных реплик в диалогическом дискурсе. Являясь единицами речевого общения, интеррогативные высказывания, как правило, представляют собой запрос об осведомленности слушающего и предполагают подлежащие выяснению элементы какой-либо конкретной ситуации. Вместе с тем в ходе речевой интеракции интеррогативные реплики могут выходить за пределы нормативных употреблений синтаксических конструкций. Функционально-семантическая транспозиция, исследованию которой посвящено настоящее диссертационное исследование, имеет непосредственное отношение к выходу прагматического значения определенной синтаксической единицы за пределы свода нормативных правил, устанавливающих первичное употребление такой единицы (см.: Николаева, 1985: 90 - 94, Романов, 1986: 113 - 114; Романов, 1988: 149; Рыжов, 2003: 17). Примерами реализации транспонированных интеррогативных реплик в процессе речевой интеракции могут служить речевые действия коммуникантов в нижеприведенных диалогических фрагментах на русском и английском языках: (1)Таисия Петровна (преувеличенно громко). Чаю кому налить? Коля! А Коля! Вы чай или кофе растворимый будете? Н и к о л а й (из комнаты). Ладно тебе, мам! Федор Иванович. Не лезь к ним, видишь, они недовольны.
(Петрушевская, 1989: 16) (2) "Where were you last night?" she answered. The words were hot as they came. "Who were you driving with on Washington Boulevard? Who were you with at the theatre when George saw you? Do you think I ll sit at home here and take your too busys and can t come, while you parade around and make out that I m unable to come? I want you to know that lordly airs have come to an end so far as I am concerned. You can t dictate to me nor my children. I m through with you entirely." "It s a lie," he said, driven to a comer and knowing no other excuse. (Dreiser, 1958: 214)
Актуальность темы исследования определяется недостаточной разработанностью проблемы прагматического описания диалогического дискурса и рассмотрения функционально-семантической транспозиции интеррогативных реплик в процессе речевого взаимодействия коммуникантов. Малоизученной остается роль интеррогативных реплик в структуре фреймовой организации типовой речевой интеракции вопросно-ответного типа. Прагматическая характеристика вербальной коммуникации, связанная с эффективностью реализации языковых знаков в плане воздействия речевой интеракции на поведение коммуникантов в условиях конкретной ситуации, являлась и является предметом изучения ряда отечественных и зарубежных ученых (Леонтьев, 1969, 1974; Сусов, 1979, 1980, 1984; Романов, 1979, 1985, 1988, 2002, 2005; Арутюнова, 1970, 1984; Степанов, 1975, 1981; Колшанский, 1980, 1984; Падучева, 1982, 1985; Austin, 1962, 1963; Downes, 1977; Fraser, 1975; Gale, 1976; Searle, 1962, 1975, 1977; Strawson, 1964; Wunderlich, 1970,1972,1976).
Формирование высказываний с установкой на речевое воздействие включает в себя интра- и экстралингвистические факторы, содействующие достижению поставленной цели, содержащейся в определенном речевом акте коммуниканта. В качестве основного компонента вопросно-ответного диалогического единства выступает интеррогативное высказывание, направленное на получение необходимой инициатору речевого общения информации. Репликовые шаги интеррогативной направленности в ходе развертывания иллокутивного фрейма «Вопрос» на грамматико-синтаксическом уровне являются высказываниями, маркированными определенными частицами и союзами, соответствующим порядком слов, знаком вопроса, а при произнесении - вопросительной интонацией.
Прагматическая сила языковых единиц в отношении интеррогативных реплик предполагает ответную реакцию партнера, возникающую вслед за действием «спрашивания», в виде согласия, несогласия, утверждения, переспроса или какого-либо другого соответствующего действия. «Каждая реплика, как бы она ни была коротка и обрывиста, обладает специфической завершенностью, выражая некоторую позицию говорящего, на которую можно ответить, в отношении которой можно занять ответную позицию» (Бахтин, 1986:264).
Проблема постановки вопроса, побуждения собеседника к ответу рассматривалась и рассматривается в работах по философии, логике и лингвистике в рамках различных научных школ и направлений (Берков, 1972; Белнап, Стил, 1981; Булыгина, Шмелев, 1982; Девкин, 1979; Жинкин, 1998; Зуев, 1961; Мирсеитова, 1991; Наумова, 2005; Падучева, 1981; Почепцов О.Г., 1979; Романов, Ходырев, 2001; Рыжов, 2003; Фирбас, 1972; Чахоян, 1979; Шимберг, 1998; Bach, 1971; Holmberg, 1979; Langaker, 1965; Sadock, 1974; Schiffer, 1972).
Интеррогативные реплики в структуре диалогического единства имеют исключительно важное значение. Основной функцией подобных высказываний является запрос информации об осведомленности собеседника. Инициатор речевой интеракции обращается к партнеру с целью восполнить пробел в знании и получить необходимую для него информацию. Как правило, выраженный интеррогативным высказыванием репликовый шаг тесно связан с речевым или неречевым действием партнера, которое непосредственно предшествовало появлению интеррогативной реплики, или с коммуникативной ситуацией, которая образовалась в процессе речевого взаимодействия. Интеррогативное высказывание, актуализированное говорящим, предполагает возникновение ответной реакции со стороны слушающего. Взаимосвязь инициирующей и ответной реплик представляет собой структурное целое вопросно-ответного диалогического единства.
Вместе с тем интеррогативные реплики весьма часто употребляются в других целях: для установления контакта, поддержания внимания слушателя, выражения тактичной заинтересованности во взгляде, мнении собеседника и предмете разговора, обращения к адресату с предложением, приглашением, просьбой, выражения различных эмоциональных состояний. Понимание коммуникантами определенных эмоций закреплено в сознании языкового коллектива: «эмоция, оценка, экспрессия чужды слову языка и рождаются только в процессе его живого употребления в конкретном высказывании» (Бахтин, 1986: 281). Выражение направленных эмоций обладает прагматическим характером: заставить адресата что-либо сделать, оказать на него воздействие в нужном говорящему русле, выполнить просьбу, вселить уверенность, вызвать сомнение, зародить определенное чувство и т.д. Целенаправленное усиление высказывания средствами языкового выражения рассчитано на определенную поведенческую реакцию адресата.
В настоящем диссертационном исследовании объектом исследования является функционально-семантическая транспозиция, в основе которой лежит выход коммуникативной функции, определяемой конкретной синтаксической единицей, за пределы ее функциональных возможностей.
Транспозиция как языковое явление, предполагающее использование языковой формы в функции ее противочлена в структуре языковых единиц, связанных парадигматическими отношениями, исследовалась в работах отечественных и зарубежных лингвистов (Балли, 1955; Курилович, 1962; Кубрякова, 1974; Москальская, 1974; Степанов, 1981; Ehrich, Saile, 1975; Sokeland, 1980; Grewendorf, 1975; Motsch, 1978). Проведенный анализ работ выявил круг вопросов, которые остались малоизученными либо оказались недостаточно разработанными. В реферируемой диссертации представляется важным рассмотреть особенности функционально-семантической транспозиции интеррогативных реплик в речевой интеракции, дать комплексное описание интеррогативных реплик в ходе реализации субъектами речевых действий регулятивной деятельности. Обращение к теме диссертации обусловливается необходимостью обозначения функционально-семантической роли интеррогативных реплик в структуре фреймовой организации диалогического дискурса вопросно-ответного типа. В ходе работы требуется определить единство контекстуальных условий, совокупность всех пресуппозиционных факторов, а также реализацию целеустановки высказывания в виде прагматического результата и, как следствие, достижение цели самой речевой интеракции.
Цель исследования состоит в комплексном описании функционально-семантической транспозиции интеррогативных реплик и определении их коммуникативной роли в рамках динамической модели диалога, разработанной профессором А.А. Романовым (1983; 1985; 1986; 1986а; 1988; 1992; 2001; 2002; 2005 и др.).
В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании решаются следующие задачи:
определить роль интеррогативных реплик во фреймовой структуре речевого акта вопросно-ответного типа;
рассмотреть основные характеристики вопросно-ответного диалогического единства;
- выявить механизмы реализации функционально-семантического потенциала интеррогативных реплик в вопросно-ответных диалогических единствах;
- определить отношения между языковыми знаками и условиями их употребления в коммуникативно-прагматическом пространстве, в котором взаимодействуют субъекты диалога и для характеристики которого важны конкретные указания на место и время их речевой интеракции;
исследовать особенности функционально-семантической транспозиции интеррогативных реплик, связанной с варьированием форм первичного и вторичного употребления грамматических конструкций, в которых раскрывается характер отношений между иллокутивным потенциалом и иллокутивной силой репликовых шагов конкретного функционально-семантического представления иллокутивного фрейма.
Характер объекта исследования и поставленные задачи определили выбор методов исследования. Основной общенаучный метод исследования в диссертации представляет собой гипотетико-дедуктивный метод. В работе используются методы контекстуального и функционального анализа, метод фреймового моделирования, метод семантической и прагматической интерпретации. В диссертационном исследовании также применены социально-контекстуальные методы, позволяющие определять коммуникативные роли партнеров и характер социальных и межличностных отношений между коммуникантами в процессе речевой интеракции.
Материалом исследования послужили 3000 примеров, представляющие собой диалогические фрагменты из художественных произведений отечественных и зарубежных авторов на русском и английском языках.
Теоретической базой исследования особенностей функционально-семантической транспозиции интеррогативных реплик явились труды отечественных и зарубежных ученых в области теории речевых актов, теории коммуникации, семиотики, прагма-, социо- и психолингвистики, риторики, анализа дискурса и конверсационного анализа. За основу данного исследования берется концепция динамической модели диалогического общения, разработанная профессором А.А. Романовым (1983; 1985; 1986; 1986а; 1988; 1992; 2001; 2002; 2005 и др.).
Научная новизна предлагаемого исследования заключается в исследовании особенностей функционально-семантической транспозиции интеррогативных реплик в речевом взаимодействии, анализе интеррогативных реплик диалога в рамках функционально-семантического представления типового иллокутивного фрейма, включающего в себя совокупность регулятивных отношений между партнерами по речевой интеракции.
На защиту выносятся следующие теоретические положения:
1. Интеррогативные реплики, коммуникативной функцией которых является запрос информации относительно некоторого фрагмента окружающей действительности, могут участвовать в реализации прагматически транспонированных коммуникативных функций. Выход за рамки системы нормативных правил функционирования синтаксических единиц позволяет коммуникантам решать дополнительные задачи, сопряженные с условиями реализации таких синтаксических единиц.
2. Схожесть условий интенционального выражения типового иллокутивного потенциала обусловливает возможность установления внутритиповой транспозиции интеррогативных реплик в реквестивы (просьба, мольба), суггестивы (советы, предложения), инвитивы (приглашения) в пределах директивного иллокутивного фрейма.
3. Общность дополнительных факторов предварительных условий и условий ожидаемого действия типового иллокутивного потенциала лежит в основе межтиповой транспозиции иллокутивного типа «Вопрос», которая раскрывает вариативный характер достижения коммуникативной цели типового функционально-семантического представления контактивно- регулятивного или информативно-дескриптивного фрейма.
4. Совмещение особенностей интеррогативных конструкций, транспонированных по внутритиповому и межтиповому принципу, образует комплексную прагматическую транспозицию интеррогативных реплик в диалоге. Интенциональную структуру интеррогативного репликового шага образуют экспозитивный (угроза) и инструктивный (запрет) компоненты.
Теоретическая значимость результатов, полученных в ходе исследования, заключается в комплексном подходе к описанию функционально-семантической транспозиции интеррогативных реплик в речевой интеракции. Проведенное исследование способствует развитию теорий речевого воздействия и речевой деятельности в частнолингвистическом и общелингвистическом планах и является вкладом в развитие теории коммуникации, теории речевого воздействия, общей теории прагматики общения.
Практическая значимость работы обусловливается возможностью применения ее основных положений, выводов и методик анализа при разработке теоретических курсов по семантике и прагматике речевого общения, теории речевого воздействия, теории и интерпретации диалогического дискурса. Полученные в ходе исследования результаты могут быть применены на занятиях по обучению русскому языку и иностранным языкам с использованием коммуникативно-ориентированных методик.
Апробация работы проходила на заседаниях кафедры английской лингвистики и перевода Института международных отношений Ульяновского государственного университета. Концепция и основные положения диссертационного исследования обсуждались на научно-практической конференции «Теоретические и прикладные аспекты лингвистики» (Ульяновск, 2004), международной научно-практической конференции «Языковая личность в дискурсе: Полифония структур и культур» (Тверь, 2005), научно-практической конференции, посвященной исследованиям в области романских, германских и русского языков (Саратов, 2005), научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и краеведческой лингвистики» (Ульяновск, 2006), всероссийской заочной научно-практической конференции «Язык. Культура. Коммуникация» (Ульяновск, 2007), международной научно-практической конференции «Стабилизация производства и развитие агропромышленного комплекса региона на основе внедрения инновационных технологий» (Тверь, 2007).
Содержание диссертации отражено в 8 публикациях объемом 2,6 п.л., в том числе 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ.
Структура работы включает введение, две главы, заключение, библиографический список, состоящий из списка использованной литературы и списка литературных источников, схемы - 8, приложения - 2.
Во Введении обосновывается выбор темы, определяется цель и задачи исследования, устанавливается актуальность и научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость, дается характеристика методов и материала исследования, формулируются теоретические положения, выносимые на защиту.
В первой главе представлены общие принципы функционально-семантического описания диалогического дискурса с использованием интеррогативных реплик, рассматриваются основные характеристики вопросно-ответного диалогического единства, описывается структура фреймовой организации диалогического дискурса, определяется роль интеррогативных реплик в формировании регулятивных действий.
Во второй главе рассматривается понятие прагматической транспозиции интеррогативных реплик в динамической модели диалога, исследуются виды транспозиции иллокутивного типа «Вопрос», описывается комплексная прагматическая транспозиция интеррогативных реплик в диалоге, определяется роль варьирования форм первичного и вторичного употребления синтаксических конструкций, раскрывающих характер отношений между иллокутивной силой и иллокутивным потенциалом репликовых шагов функционально-семантического представления иллокутивного фрейма «Вопрос», в формировании регулятивной деятельности на различных этапах речевой интеракции.
В Заключении представлены результаты проведенного исследования и определены перспективы дальнейших исследований в предлагаемом направлении.
Основные характеристики вопросно-ответного диалогического единства
В последнее время проблема вопросно-ответного диалогического единства стала предметом глубокого и всестороннего изучения, вызвав большой научный интерес со стороны российских и зарубежных ученых. В качестве минимальной смысловой и структурной единицы диалогического текста выступает единство двух реплик - стимулирующей и реактивной, получивших название диалогического единства (Афанасьев, 1977: 122). С помощью вопроса говорящий предпринимает попытку устранить сомнение, неясность, некоторую неопределенность в знании и получить новое, более полное и точное знание (Берков, 1972: 43). Вопрос также позволяет говорящему достичь более отчетливого понимания некоторого положения дел, установок, мыслей и потребностей собеседника.
В диалогическом дискурсе вопрос, который задает говорящий, фиксирует неизвестные и подлежащие выяснению элементы какой-либо ситуации или задачи. «Вопрошающий должен что-то полагать, допускать, выделять, связывать, разъединять, предполагать о действительности, для того чтобы на его мысль получился ответ. ... В вопросе должно быть такое полное содержание, которое имело бы смысл передавать другому» (Жинкин, 1998:92-93).
При этом обнаруживается очевидная связь вопроса с ответом, определенная обусловленность ответного суждения тем или иным вопросом. Говорящий, выражая свое желание узнать нечто от собеседника, вызывает его ответную языковую реакцию, побуждает собеседника высказать определенные суждения, утвердительные или отрицательные. Выступая в виде запроса, обращенного к слушателю в целях получения информации, вопрос в то же время является стимулом к ответу, от формы и содержания которого во многом зависит и сам ответ-реакция (Афанасьев, 1977: 123).
С помощью вопросно-ответного диалогического единства реализуется передача информативного тематического пространства: знания и представления одного лица целенаправленно передаются другому в процессе вопросно-ответной интеракции. Роль отправителя в таком взаимодействии состоит в том, чтобы реализовать свое сообщение и доставить его получателю, а получатель, в свою очередь, должен обработать его в соответствии со сценарной проспекцией и выразить желание и готовность поменяться с ним коммуникативными ролями, чтобы переадресовать ход и направленность воздействия. При передаче информации говорящему субъекту необходимо описать желаемый результат, определить средства достижения такого результата, обозначить необходимость реализации этих средств для решения поставленных задач в диалоге (Романов, 1988: 7 - 8).
Получатель, со своей стороны, должен, прежде всего, реконструировать намерения отправителя, осуществив поиск исходного или любого другого фрагмента речевой интеракции, который соотносится с конечным результатом. Представления о предлагаемом результате позволяют реконструировать и цель действия, которая дает возможность получателю понять последующие шаги партнера, спланировать в дальнейшем свои собственные действия. В случае несовпадений между реальными и предсказываемыми типовым сценарием действиями гипотеза получателя соответствующим образом модифицируется относительно выбранной цели или намерений партнера (Романов, 1988: 7 - 8).
«Итак, всякое реальное целостное понимание активно ответно и является не чем иным, как начальной подготовительной стадией ответа (в какой бы форме он ни осуществлялся)» (Бахтин, 1986: 260).
В диалогическом дискурсе в ходе решения вопроса происходит его снятие. Выступая средством фиксации проблемной ситуации, вопрос является требованием устранения неопределенности в знании, неполноты, незаконченности мысли и соответственно получения нового, более полного, глубокого и точного знания (Берков, 1972: 43). Опираясь на известное, вопрос предполагает выход за его пределы:
(Островский, 1973:305) Наиболее благоприятные возможности для проведения прагмалингвистического анализа предоставляет диалогическое единство, поскольку диалог позволяет выявлять правила интерактивного речевого поведения коммуникантов, устанавливать единицы языкового общения, исследовать все многообразие видов интеракции между коммуникативными интенциями адресанта и адресата и между их речевыми ходами, изучать языковые знаки с точки зрения их отношения к носителям языка, производителям языковых знаков (Сусов, 1984: 9).
Уже однократный обмен действиями, интеракция, представляющая собой минимальное звено любой деятельности, нацеленной на взаимодействие между людьми, включает в себя два взаимосвязанных действия (или поступка) и является отражением природы человеческого общения. Существуя как двуединство, интеракция предполагает реализацию двухчастных интерактивных речевых блоков, которые зачастую выступают в качестве частей более сложных образований. Они, в свою очередь, становятся достаточно самостоятельными, относительно замкнутыми в определенных коммуникативных условиях диалогами (Сусов, 1984: 8).
Структура фреймовой организации типового диалогического взаимодействия
Любому коммуникативному акту присуща та или иная форма коммуникативного взаимодействия, основу которой составляет корреляция с ситуацией-типом. Некоторая схема или фреймовая структура (Ф-структура) с характерными для нее свойствами и функциональными условиями репрезентируют ситуацию-тип (Романов, 1988: 30). Группы слов «мотивируются, определяются и взаимно структурируются особыми унифицированными конструкциями знания или связанными схематизациями опыта» (Филлмор, 1988: 54).
Создатель теории фреймов американский ученый, специалист по искусственному интеллекту Марвин Минский полагает, что фрейм представляет собой структуру данных для понятийного представления стереотипной ситуации на фоне общего контекста знаний о мире. Теория фреймов основывается на том, что индивидуум, стремясь осмыслить какую-либо новую, незнакомую ситуацию или по-другому посмотреть на уже привычные обстоятельства, вычленяет из своей памяти определенную структуру данных (образ) с той целью, чтобы, изменяя в ней некоторые составляющие, применить ее для познания более широкого класса явлений, знаний или процессов.
Система фреймов представляет собой группы фреймов, семантически близких друг к другу. Результаты существенных действий образуют трансформации между фреймами, что позволяет использовать в системах фреймов различные методы представления информации и подтверждает эффективность применения фреймов в системах искусственного интеллекта (Минский, 1979:7-9).
Профессор В.А. Звегинцев отмечает, что наличие в нашем сознании определенной стереотипной модели, структуры некоторых данных способствует возникновению конкретных концептов (локализованных во времени и в пространстве), которые в своей совокупности образуют конкретный эпизод. Конкретные концепты, в свою очередь, подпадают под категориальную классификацию и образуют родовые концепты, в которых уже отсутствуют признаки конкретности. Процесс вербализации завершается приданием слову формы, в которой оно актуализируется в предложении, описывающем конкретный эпизод. Основная модель вербализации предполагает наличие других факторов (в частности, влияние эмоционального состояния, принятие во внимание особенностей адресата высказывания и т.п.), вследствие чего она может подвергаться определенным изменениям (Звегинцев, 1982: 76)
В соответствии с концепцией динамической модели диалогического общения, разработанной профессором А.А. Романовым (1983; 1985; 1986; 1986а; 1988; 1992; 2001; 2002; 2005 и др.), речевой эпизод, представляющий собой акт реализации целевого действия (от постановки цели до достижения коммуникативного эффекта) состоит из Ф-структуры целевого типа взаимодействия, условий ее применимости и контекста общих действий, которые способствуют реализации действий коммуникантов, формирующих структуру такого типа или его сценарий. Фреймовая структура иллокутивного типа включает в себя ядро, набор типовых форм речевых действий, представляющих Ф-структуру в речевом эпизоде, участников речевой интеракции, а также цель, план, консеквент (последствия результирующего эффекта или же сам результирующий эффект) и перспективу. Компоненты Ф-структуры, за исключением результирующего эффекта, являются основополагающими, поскольку их содержание обусловливает информативный характер и прагматическую направленность типового акта речевой интеракции в целом и репликового шага в частности (Романов, 1988:32).
Фреймовая структура (Ф-структура) иллокутивного типа представлена следующей схемой (Романов, 1988: 30):
На основе функциональных условий речевого эпизода или коммуникативно-социальных конвенций, входящих в структуру фреймовой организации типового диалогического взаимодействия, могут образовываться как специальные знания у коммуникантов (доверие, обязанность, убежденность), так и знания о фрагменте объективной реальности, связанные с тематическим содержанием типового акта речевой интеракции. Специальные знания, которые включают в себя знания о самом коммуникативном процессе и специфике диалогической интеракции имеют непосредственное отношение к процессу управления речевым воздействием коммуникантов друг на друга и всецело содействуют реализации регулятивного процесса речевого поведения партнеров в целом. Знания первого типа сопряжены не столько с семантическим представлением репликовых шагов партнера, сколько с реализацией коммуникативной функции, отражением целевой направленности, которая осуществляется в рамках имеющихся социальных норм и правил, одинаковых для партнеров. Знания второго типа, в свою очередь, связаны с раскрытием содержательной стороны речевых действий партнера (Романов, 1988: 32).
Функциональные условия также включают в себя принцип коммуникативного сотрудничества, к которому относятся кооперация, нейтральность и конфликтность, принцип коммуникативной заинтересованности, устанавливающий степень доверия коммуникантов друг к другу и к их интенциям (Романов, 1988: 33). Вышеназванные принципы, а также кодекс доверия образуют систему показателей, образующих направленность регулятивности в диалогическом общении на успешное взаимодействие партнеров в процессе достижения поставленной цели: «от всякого, кто стремится к достижению конечных целей речевого общения/коммуникации (это может быть передача и получение информации, оказание влияния на других и подчинение себя чьему-то влиянию и т.п.), ожидается, что он заинтересован в этом общении; речевое общение, в свою очередь, может быть выгодно и полезно только при условии, что соблюдаются Принцип Кооперации и постулаты» (Грайс, 1985: 226).
Акт взаимодействия партнеров в рамках контекста общих действий, представленных в виде совокупности упорядоченных репликовых шагов партнеров, составляет компонент «речевой эпизод», к которому относится, как правило, несколько интерактивных ходов коммуникантов. Макродействия в рамках контекста общих действий представляют собой место реализации репликового шага и интерактивного хода. Предварительные действия, в свою очередь, включают в себя постепенное продвижение коммуникантов к намеченной цели, определяя этап, на котором находятся участники речевой интеракции относительно результирующего эффекта (Романов, 1988: 34).
Внутритиповая транспозиция иллокутивного типа «Вопрос»
Транспозиция в пределах одного иллокутивного типа представляет собой внутритиповую транспозицию. В основе транспонированности внутри иллокутивного типа лежит схожесть условий интенционального выражения иллокутивного потенциала, задающего типовой фрейм, поскольку прагматические типы и субтипы иллокутивных функций группируются на базе условий (Б). Внутритиповая транспозиция характеризуется прагматической направленностью ожидаемого действия (осуществляется ли оно в пользу инициатора или адресата, под чьим контролем находится его осуществление). Вместе с тем содержательная сторона определенного подтипа во фреймовом сценарии, созданном иллокутивным потенциалом типового характера не играет значимой роли (Романов, 1986: 121-122; 1988: 149-150).
Для внутритиповой транспозиции конкретного прагматического типа имеют значение лишь общие признаки: характер темпоральных актуализаторов в тематическом (для ФСП типового иллокутивного фрейма) и пропозициональном (для отдельного репликового шага) содержании, семантическая общность по иллокутивному потенциалу. Характер отношений между иллокутивным потенциалом и иллокутивной силой репликовых шагов конкретного ФСП иллокутивного фрейма определяется социальной обусловленностью внутритиповой транспозиции. В частности, для транспонированности внутри иллокутивного типа характерно использование фреймообразующих репликовых шагов с меньшей иллокутивной силой по отношению к иллокутивному потенциалу, который образует отдельный прагматический тип. Так, обнаруживается транспонируемость реквестивов в инъюнктивы, суггестивов в инвитивы (Романов, 1988:150-151).
Грамматические формы, выступающие в качестве маркеров регулятивных действий с иллокутивной силой, которая ниже иллокутивного потенциала, используются говорящим в начальных фазах речевой интеракции, когда отношения между партнерами еще полностью не установлены. Употребление подобных грамматических форм возможно при обозначении интродуктивных, контактоустанавливающих, открывающих t регулятивов, когда в целях избежания чрезмерной категоричности, конфронтации или коммуникативного рассогласования необходимо смягчить вербальное воздействие на адресата (Романов, 1988: 151): (45) - ...Почему шумим? - спросил сержант, и передвинул рацию на ремешке к груди. - Сколько времени? - уцепился Мамрин. - А в чем, собственно, дело? - сержант неодобрительно принюхался. - Вы знаете, который час?.. - зловеще прошептал Мамрин. Неохотно: - Я за временем не приставлен. - Так посмотрите по сторонам! - визгнула жертва. Сержант не стал следовать приказу. - Что вы имеете в виду? - с казенной отчужденностью произнес он. (Веллер,2005: 150) Регулятивный характер отношений между иллокутивным потенциалом и иллокутивной силой относится к разряду тактического приема вариативности общей, глобальной стратегии в речевой интеракции, суть которой заключается в сохранении интересов говорящего. Вместе с тем для говорящего важны интересы и своего партнера, поскольку его социально-ролевому статусу может быть нанесен урон вследствие излишне категоричных суждений или утверждений со стороны говорящего (Романов, 1988: 152). В целом транспонированные формы в большинстве своем используются для активизации взаимодействия партнеров по конкретному , поводу или с целью выхода из коммуникативных рассогласований, когда оптимальный выбор языковых средств демонстрирует партнеру о некотором отступлении говорящего от своих намерений. В действительности говорящий не столько отступает от своих позиций, сколько настраивает своего партнера на новое восприятие предстоящего коммуникативного намерения, вовлекая его в активное взаимодействие (Романов, 1988: 152). Исходя из того, что отношения между иллокутивной силой и иллокутивным потенциалом, которые в зависимости от стратегического развития диалога устанавливает говорящий, имеют регулятивный характер, прослеживается некоторая закономерность транспонируемости грамматических конструкций для внутритиповой транспозиции: если иллокутивная сила ниже иллокутивного потенциала, то транспозиция внутри иллокутивного фрейма возможна между: а) директивами, б) комиссивами, в) частично между сатисфактивами и формулами социального этикета. Глобальная стратегия реализации коммуникативного намерения в типовом ФСП позволяет выделить следующие подвиды транспозиций: (а) директивы: Реквестив = Инъюнктив (= читается как «транспонируется в»), Инструктив = Инъюнктив, Суггестив = Инъюнктив, Инвитив = Инъюнктив (в случае неравноположенности партнеров по социально ролевому статусу); (б) комиссивы: Обязательства = Клятвы, Обеты = Клятвы. К этой группе также относится транспозиция Обязательства = Контракты, Обязательства = Обещания и наоборот, но при учете и сохранении дополнительных факторов актуализации ФСП каждого из них. Возможна также транспозиция в отношении Гарантии = Обязательства и т.д. в) сатисфактивы и формулы социального этикета: Сожаления = Извинения, Сожаления Порицание (в случае поступка, предшествовавшего сожалению, который партнер оценил отрицательно), Осуждение = Упрек, Осуждение = Критика, Критика = Упрек.
Комплексная прагматическая транспозиция иллокутивного типа «Вопрос»
Если обещание, клятва предполагают добровольное действие, которое, как правило, удовлетворяет интересам адресата и тем самым в имплицитной форме побуждает его оказать поддержку, встать на сторону говорящего, то речевой акт угрозы прямо или косвенно отражает ситуацию выбора. Перед адресатом ставится выбор, выполнять ли действие, которое якобы удовлетворяет его интересам, или ожидать от говорящего осуществления в отношении него негативных последствий. Семантика угрозы включает в себя два компонента: с одной стороны, это запрос, требование выполнить действие, которое необходимо говорящему, с другой, - обещание наступления негативных последствий в случае неподчинения (Ерофеева, 1997: 67; Маслова, 2007: 79 - 80). Речевое действие угрозы входит в разряд регулятивных речевых действий. Его основная задача заключается в том, чтобы обозначить новые границы конфликтного взаимодействия: говорящий, выражая намерение в будущем осуществить нежелательное для адресата действие, «перестраивает» социально-психологическую иерархию позиций коммуникантов, тем самым увеличивая между ними социально-психологическую дистанцию (Маслова, 2007: 93): (71) Хлестаков. ... Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. (Бодрится.) Я, я, я... Городничий (е сторону). О, господи ты боже, какой сердитый! Все узнал, все рассказали проклятые купцы! (Гоголь, 1984: 277) Угроза входит в структуру конфликтных речевых актов, так как преследуемые говорящим и слушающим цели не совпадают и их интересы вступают в противоречие. Обращаясь к речевому действию угрозы, коммуниканты порой пренебрегают сложившимися нормами поведения. Подчас это приобретает вполне осознанный характер, когда происходит ухудшение отношений между участниками речевого общения. С помощью угрозы говорящий проявляет свой гнев и недовольство по отношению к слушающему, стремится дестабилизировать его эмоциональное равновесие, в результате чего таким действиям порой сопутствует нанесение тяжкой обиды или оскорбления. Степень интенсивности проявления угрозы непосредственно соотносится с индивидуальной позицией говорящего, отодвигая на задний план принятые социумом стереотипы. Угроза содержит в себе истинность относительно концептуального мира коммуникантов, а не истинность относительно мира объективной реальности. Вследствие этого речевые акты угрозы, в которых заложены определенные иллокутивные силы, имеют непосредственное отношение к эмоциональному аспекту. Угроза представляет собой особый вид иллокутивных речевых актов, цель которых заключается в том, чтобы вызвать у партнера эмоциональную реакцию. Перлокутивный эффект речевых актов угрозы состоит в эмоциональном состоянии слушающего, которое меняется при завершении речевого действия (Маслова, 2007: 93). В речевом акте угрозы происходит взаимодействие субъективного и объективного факторов, при этом каждый из них относится как к субъекту, так и к объекту угрозы. Вместе с тем реакция на угрозу представляет собой лишь следствие эмоционального воздействия. Указание на эмоциональное состояние говорящего содержится как в прямом речевом акте угрозы, так и в косвенном (Маслова, 2007: 93 - 94). Как и в любом другом речевом акте, в случае угрозы имеет место обращение к адресату. Называя объект угрозы по имени, говорящий затрагивает основную - апеллятивную функцию: (72) „. Now Mr. Bones-- That s not my name, he interrupted. Much I care, returned the doctor. It s the name of a buccaneer of my acquaitance; and I call you by it for the sake of shortness, and what I have to say to you is this: one glass of rum won t kill vou, but if you take one you ll take another and another, and I stake my wig if you don t break off short, you ll die - do you understand that? - die, and go to your own place, like the man in the Bible. fc (Stevenson, 1981: 15) Однако при использовании имени нарицательного апеллятивная функция во многих случаях меняется на регулятивную. Как правило, причиной этого является взаимодействие лексических и синтаксических средств выражения, когда, используя в качестве обращения к адресату эмоционально окрашенные лексемы, говорящий обозначает свое отношение к адресату (Маслова, 2007: 95). Наблюдаемое в речи явление переосмысления заключается в том, что обращение к адресату в форме устойчивых сочетаний в речевом акте угрозы в ряде случаев приобретает негативную окраску. С одной стороны, используя подобное обращение, говорящий пытается утаить или смягчить цель реализации своего репликового шага, с другой стороны, полярность сложившегося положения дел для слушающего и подчеркнуто мягкого обращения создают эффект иронии, соединенной со стремлением оказать негативное воздействие на адресата.
Бессоюзные конструкции, раскрывающие результативность и быстроту осуществления угрозы, придают эмоциональному воздействию говорящего более ощутимый характер. Синтаксические повторы позволяют определить степень эффективности говорящего. Ближайший контекст зачастую содержит ссылку на эмоциональное состояние, которое характеризует говорящего (Маслова, 2007: 95).