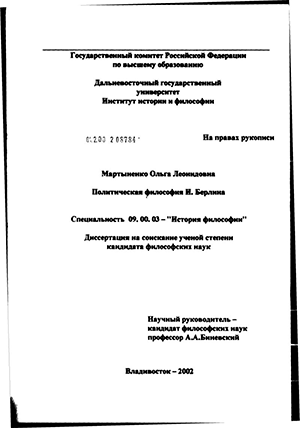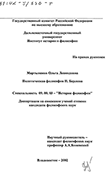Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Философские основания политической теории И Берлина
1.1. Общефилософская проблематика политической теории И.Берлина 21
1.2. Философская антропология И Берлина: человек и история 46
1.3. Философская теория исторического знания И Берлина 79
Глава 2. Разработка И.Берлиным основных проблем философии политики
2.1. Теория ценностного плюрализма 102
2.2. Концепция свободы в философии И.Берлина 127
2.3. Агональный либерализм И.Берлина 152
Заключение 174
Библиографический список использованной литературы
- Философская антропология И Берлина: человек и история
- Философская теория исторического знания И Берлина
- Концепция свободы в философии И.Берлина
- Агональный либерализм И.Берлина
Философская антропология ИБерлина: человек и история
Под категорией «политическая философия» мы в данной работе, опираясь на различение Б.Г. Капустина [См. 85, №6, С. 96], будем понимать своеобразный тип познавательного отношения к действительности, т.е. особую сферу знания, являющегося духовно-практическим отношением к действительности, осуществление которого приводит к изменению как познающего субъекта, так и тех, кому адресован продукг познания. Такой методологический ход позволяет зафиксировать существенное отличие понятия «политической философии» от философии как таковой и показать, что своеобразие политической философии состоит в особом рассмотрении действия человека в качестве политического человека, в выяснении коммуникативных и иных возможностей для такого действия и факторов, препятствующих ему, т.е. суживающих разрушающих политическое измерение человеческого существования. Следовательно гносеологические процедуры политического философа направлены не столько на осмысление и последующее артикулирование общефилософских проблем, сколько на построение определенной философской модели, позволяющей теоретически осмыслить политическую действительность в свете определенной перспективы самоутверждения той политической общности, с которым идентифицирует себя политический философ. Именно такая методологическая позиция на основе которой проводится анализ политических и философских идей
Реконструируя взгляды какого-либо мыслителя, историк философии обычно, прежде всего, задается вопросом: какова философская система исследуемого философа? Берлин не построил философской системы. Он не претендовал на строгое изложение своего учения в областях традиционной философии. Для построения собственной модели, отвечающей проблемам политической философии, Берлин синтезировал взгляды различных мыслителей, поэтому его политико-философское учение невозможно отнести к какому-либо философскому направлению. Как политический философ он опирался не на одну философскую традицию, а на ряд традиций и идей, выявлял их недостатки и пытался их разрешить, но не в русле традиционной философии, а в русле политической философии. Охватывая широчайшую область наук (философия, история идей и просто история, этика, политология и г.п.), развивая в ней громадное богатство мыслей, Берлин не стремился к построению завершенной системы. Он как будто намеренно не желал скреплять отдельные стороны своего миросозерцания жесткими связями и переходами. Работы его объединены скорее общей идеей, подходом, чем строгой логикой. Кажется, будто что-то мешало Берлину категорически формулировать свою гочку зрения остановиться на одной по-видимому ясной и доказанной им же :амим позиции что-то заставляет его удерживать в пределах данной теории противоположную концепцию постоянно воспроизводить теоретические противоречия не разрешая их до конца Это «что-то» предчувствие мыслителем проблемы решить которую рационально он еще не может но и не желает освободиться от нее путем мнимого решения и одноСТОРОННОСТИ Отсюда развитие мысли в разных не совпадающих между собой уровнях несоотнесенность положений ЛРУГ с дРУгом постановка далеко идущих ВОПРОСОв и невозможность дать на них исчерпывающий ответ
Хотя основной целью данной работы является рассмотрение проблематики политической философии Берлина, этот факт не освобождает нас от необходимости объяснять что такое сама философия. Что же такое философия? Каков ее предмет? Каковы основания философского знания? Каково ее назначение? Эти вопросы неминуемо возникают перед всеми философствующими. Каждый более или менее заметный философ, в поисках оснований собственного творчества, в поисках своей концепции и, наконец, в поисках оправдания своего творчества и самооправдания, задавался этими вопросами и пытался на них ответить. Философские интересы какого-либо автора зависят от ответа на этот вопрос, и одновременно ответ на этот вопрос определяется характером его философии. Ответить на эти вопросы можно по-разному, ибо философия многолика, и эта «многоликость... является ее специфической сущностной определенностью» [112, С.5]. «Мнения расходятся, - пишет Берлин, - одни... считают ее королевой наук..., другие желают отправить в отставку как псевдонауку, эксплуатирующую вербальные неточности, считают ее симптомом интеллектуальной незрелости...» [31, Р. 1].
В современной Берлину аналитической философии доминировало два гечения - логический анализ и лингвистическая философия обыденного языка. Берлин принимал непосредственное участие в формиpoвaнии идей этих философских школ, пользовался некоторыми «терапевтическими» методы аналитиков (логический и лингвистический анализ), однако не был согласен со многими их утверждениями. Особенно остро аналитики и Берлин расходились в понимании природы философского знания. Берлин не присоединялся к неопозитивистской концепции «философии как подмастерья» [142, С.4-7], согласно которой философия вплоть до своей окончательной отставки играет самую скромную роль «секретаря наук и могильщика метафизики». Неопозитивисты понимали философию функционально, т.е. не как систему взглядов или определенное учение, а как аналитичс1сую деятельность. Поскольку для логических позитивистов мир - это система научных фраз и герминов, то философия должна предоставить методы их анализа, отделить научно осмысленные предложения от бессмысленных, «метафизических», устранить последние. Так Р.Карнап считал, что философия - это «не преддожения, не теория не система, а только метод т.е. логический анализ» [86, С.86]. По мнению А.Айера, «философия - это отдел логики. Поскольку... характерная черта логического исследования состоит в том что оно имеет дело с формальными следствиями определений, а не с эмпирическими фактами» [165, Р.57].
Философская теория исторического знания И Берлина
Берлина против монизма, против телеологизма, против историцизма и исторического детерминизма. В своем эссе «Герцен и Бакунин о свободе личности» Берлин выделяет главные с его точки зрения идеи Герцена, среди них: «история не подчиняется никакому плану, у истории нет либретто, ни один ключ, ни одна формула не могут в принципе решить проблемы отдельных людей или общества в целом;... универсальные цели не есть реальные цели, каждая эпоха имеет свою собственную структуpy и вопросы, никакие однозначные ответы и обобщения не заменят опыта; свобода - реальных людей, находящихся в определенном времени и месте, - абсолютная ценность; хотя бы минимальная свобода действия необходима всем людям, и она не должна попираться во имя абстракций или великих принципов, которыми свободно перекидываются великие мыслители всех времен, таких, как вечное спасение, история, человечество, прогресс, еще менее таких, как государство, церковь или пролетариат» [Ibid. Р.86-87]. Все эти идеи можно назвать основными и для берлиновской либеральной теории. Берлин не скрывал, что в интеллектуальном плане он многим обязан русским мыслителям.
Как для Герцена, так и для Берлина история не является ровным телеологическим развитием, нацеленным на исполнение человеческого счастья или осуществление социальной справедливости. История - это множество возможностей, не все из которых развиваются по какому-то интеллигибельному плану. Некоторые развиваются, некоторые погибают; в благоприятных условиях они могут быть реализованы, но они могут уклоняться, разрушаться, умирать. История - это импровизация, она «пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу ворот... которые отопрутся... кто знает?» [67, С.31-32]. Настоящее - это самоосуществление, а не существует ради какого-то неизвестного будущего. Смысл жизни - сама жизнь! «Будущего нет, его образует совокупность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая, придающая неожиданные драматические развязки...» [Там же]. Такая установка предполагает своего рода философскую реформу: вместо поиска универсальных принципов - исторический нарратив и сравнение различных культур, знание которых расширит саму нашу концепцию человеческой природы, вместо опоры на априорное знание - опора на наблюдение за реальными людьми.
Из непризнания Берлиным глобальных, трансисторических суждений о прогрессе и регрессе, а также из его непризнания идеи совершенного общества вытекает идея присутствия в истории «невосполнимой утраты» (loss), исчезновения ценных достижений и видов деятельности, которые зависят от обреченных социально-политических структур или от различных систем взглядов. Подобную идею мы находим также у других сторонников теории культурного плюрализма: Вико и Гердера. «В отличие от идеалистов наподобие Гегеля, считавших, что в процессе перехода одной культурной фазы в другую не может быть утрачена ни одна ценность, и от рационалистов, считавших, что все ценности должны по определению составить мозаику окончательного решения всех проблем человечества, доктрина Вико-Гердера, а вслед за ними и Берлина, менее оптимистична. Согласно им общественное и культурное развитие несет не только приобретения, но и потери» [197, Р.ххх]. «Развитие цивилизации, - пишет Берлин, - влечет за собой и утраты, и приобретения. Каковы бы ни были приобретения, то, что утрачено, утрачено навсегда и ни в каком земном раю не воскреснет» [2, С.204]. Вот что пишет И. Берлин в другой своей работе: «Каждая культура выражает присущий ей коллективный опыт, с каждой ступенькой на лестнице человеческого развития связана особая по-своему самобытная манера выражения» [25, Р.5]. Таким образом, Берлин экстраполирует свою теорию радикального выбора, которую он считает верной для объяснения поведения отдельных личностей (выбор часто подразумевает неизбежную, невосполнимую утрату ценностей, особенно когда несовместимые ценности приходят в противоречие) на уровень жизни цивилизаций и народов В иСТОрИИ такие потери часто необратимы: ценные культурные (Ьормы утрачены навсегда Они существуют лишь в виде следов оставленных в КУЛЬТУРНЫХ артесЬактах Они утрачены отчасти потому что их носители сами созданы историей т е обладают исторической сущностью Такая историчность человеческой природы сразу отклоняет любую концепцию единого прогресса и в то же самое время помогает нам осознать трагичность исчезновения невосстановимых культурных форм, которые могут быть воссозданы при помощи воображения, но не могут быть воскрешены.
Так же как Гердер и Гегель, Берлин считал, что основные человеческие достоинства и недостатки суть творения истории, а отдельные индивидуумы -проявления различных культурных форм, которые тоже созданы историей. Однако на этом сходство с Гегелем заканчивается. Для Гегеля, так же как и для его последователя Маркса, человеческая история имеет телеологическую структуру, ее телос - «сознание духом его свободы» [62, С.72], или, в марксистской материалистической интерпретации этой концепции -достижение пост-исторического коммунистического общества [См., например, 102, С.116]. Берлин опровергает историческую телеологию, которую можно обнаружить в философских построениях Маркса, Гегеля, и даже Вико и Гердера. Вико, например, дополнил собственную «имманентную» концепцию истории, согласно которой люди все сами творят в истории: ее «материю», ее «форму и самих себя»; признанием «исторического факта Провидения» [57, С. 115], которое привносит в деятельность людей порядок; а И.Г.Гердер обосновавший идею плюралистичности и инвариантности исторического процесса и заявивший что «существование - это цель а цель - существование» [65 С.223] считал что «гуманность - цель человеческой природы и ради достижения ее передал бог судьбу человечества в руки самих людей» [Там же С.428].
Концепция свободы в философии И.Берлина
Волюнтаризм смягчает берлиновскую версию внутреннего реализма в теории ценностей допущением того, что обращение к публичным практикам в ситуации радикального выбора не может помочь принять решение. В то же время, Берлин считал, в отличие, например, от раннего Сартра или Фихте, что роль воли в жизни человека всегда ограничивается миром коллективных человеческих практик и наличием общечеловеческих ценностей. Берлин считал, что волюнтаризм, отрицающий само понятие общечеловеческих ценностей, чрезвычайно опасен, поскольку «это отрицание... временами вселяло в отдельные народы дух национализма и агрессивного шовинизма...» [2, С. 195]. И хотя мы согласны с высказыванием Фриша относительно берлиновского волюнтаризма, мы не согласны с ним в том, что Берлин «не может отойти от радикального индивидуализма, который так сильно повлиял на его мысль» [184, Р.429]. Философия Берлина не является индивидуализмом, а является персонализмом в том значении какое вкладывал в это понятие Н.А. Бердяев. Так, согласно Бердяеву, «персонализм не означает, подобно индивидуализму, эгоцентрической изоляции» [49, С.21]. Берлин, как и Бердяев, считал что ложный индивидуализм (атомизм) «есть опустошение индивидуальности обеднение ее» [50 С.376]. Наша самость как представлял ее Берлин всегда частично унаследована, т.е. является продуктом невыбираемого участия в общих формах жизни. Мы вовлечены в самосозидание посредством выбора но этот выбор не возникает из ничего; поскольку самость сама по себе частично не является предметом выбора Опять вспоминаются слова Бердяева: « Личность социальна, в ней есть наследие коллективного бессознательного она есть выход человека из изоляции она исторична, она реализует себя в обществе и в исТОРИИ» [49 С 27] Берлиновская точка зрения согласно КОТОРОЙ совершение выбора является способностью личности чья идентичность всегда частично унаследована, сформирована языком и формой жизни, которая случайно является ее формой46, смягчает его идею радикального выбора и волевого решения.
Аксиологические идеи Берлина оказали существенное влияние на современную философскую этику и политическую философию. Концептуальное содержание понятия «плюрализм», его смысл уточняются именно в работах Берлина. Он вывел это понятие из тени, привлек к нему внимание, наполнил его новым философским содержанием. Теория ценностного плюрализма Берлина дополняется дальнейшими философско-политическими исследованиями, представленными, в современных монографиях по политической философии. Во-первых, следствием берлиновского плюрализма является опровержение теорий совершенной человеческой жизни и совершенного общества, в котором все истинные идеалы и добродетели достижимы. Это опровержение - не банальное, поверхностное отрицание перфекционистских теорий, не августиновское утверждение человеческого несовершенства, которое является клише в философии консерваторов; а намного более радикальная и оригинальная концепция согласно которой сама идея совершенства не просто утопична, но и нелогична. Признание идеи совершенства нелогичной наносит смертельный удар по так называемой «вигской» концепции истории и по подобным формам прогрессивизма, которые можно найти у Милля, Хайека и Берка. Во-вторых, следствием берлиновского плюрализма является идея согласно которой развитая этическая система такая как например либеральная не может обладать иерархической структурой позволяющей разрешать практические дилеммы посредством применения системы принципов. И в политической и в нравственной жизни мы постоянно должны искать компромиссы между конфликтующими положительными и отрицательными ценностями при этом достоинство каждой ценности не может определяться при помощи какого-то основного принципа. Согласно Берлину, лишенный оснований и критериев выбор между несоизмеримыми ценностями является основным содержанием Более подробно об этом см. Gray J. Post liberalism: Studies in political thought, N.-Y., London, 1993. P. моральной и политической жизни. В-третьих, в берлиновской теории ценностного плюрализма признается ограниченность разума в ситуации радикального выбора несоизмеримых ценностей. В политической жизни, как и в нравственной, мы постоянно вынуждены совершать радикальные выборы между соревнующимися ценностями, при этом разум нам помочь не может, и что бы мы ни выбрали, это всегда будет влечь утрату и иногда трагичную. Если практический и «чистый» разум не может помочь, не остается другого выбора, кроме как действовать. В берлиновской идее радикального выбора, рождающейся из конфликтов несоизмеримых ценностей, присутствует волюнтаристский, экзистенциальный элемент, который отличает либерализм Берлина практически от всех форм либерального рационализма.
Берлин разрушал, вместе с другими разрушителями, классическую монистскую традицию, но он интересен и уникален тем, что его концепция свободна от субъективизма, скептицизма, морального нигилизма, и в то же время плюралистична. В теории ценностей, как и в своей философии в целом, Берлин пытался соединить ценности либеральной традиции, основывающейся на философии Просвещения, с плюрализмом эпохи постмодерна, "плюсы" Просвещения и "контрпросвещения".
В последнее десятилетие в силу разных причин в западной философии наметилось стремление ввести в либеральный дискурс, традиционно сфокусированный вокруг проблемы универсальных прав, проблему различий. Для «либеральной политической философии... особую значимость приобрела проблема плюрализма, проблема сочетания универсальных принципов и ценностей с позитивным (а не просто нейтральным) отношением к различиям» [99, С.4]. В конце XX - начале XXI века стал актуальным не столько модернистский проект универсализации, сколько постмодернистская модель, признающая неустраняемость противоречия между универсализмом и партикуляризмом, между единством и различиями.
Агональный либерализм И.Берлина
И. Берлин - нетипичный европеец с русскими корнями. Тем интереснее адя нас его взгляд на основные ценности, на человека и его историю, на русскую мысль. Двум тенденциям в русской культуре западников и славянофилов противостоит альтернатива синтеза западной и русской градиций. Нельзя представить русскую философию без западноевропейской философии: греческих и византийских, а в дальнейшем - французских, немецких, английских и других влияний. Берлин, самой своей судьбой, оказался на перекрестке различных философских и идеологических направлений развития мировой общественной мысли, поэтому он воплотил в себе всеевропейскую мудрость, важнейшей частью которой является русская философская, общественно-политическая и культурологическая мысль. Как культурное явление деятельность Берлина не менее важна, чем его философия. Он много сделал для распространения русской философии и культуры на Западе. Открыл Западу Герцена.
Гносеологические процедуры Берлина как политического философа направлены не столько на осмысление и последующее артикулирование общефилософских проблем, сколько на построение определенной философской модели, позволяющей теоретически осмыслить политическую действительность в свете определенной перспективы самоутверждения той политической общности, с которым идентифицирует себя политический философ. Для построения собственной модели, отвечающей проблемам политической философии, Берлин синтезировал взгляды различных мыслителей, поэтому его политико-философское учение невозможно отнести к какому-либо философскому направлению. Он не построил философской системы в собственном смысле этого слова, не обращался к исследованию общефилософских: гносеологических, онтологических, методологических проблем. Его, как политического философа, интересовали общефилософские вопросы в контексте конкретного анализа проблем «политического человека», юлитики как таковой, морали, истории. Предмет его теоретических интересов - действительность, взятая под углом зрения соответствия (или несоответствия) гго основному аксиологическому и методологическому принципу: плюрализму. Берлин объединял в себе функции «знатока философии», обладая энциклопедическими знаниями и «морального проповедника», стремясь :формулировать определенные принципы и нормы, которые помогли бы человеку проявить свое «специфически человеческое» в обществе лишенном абсолютных оснований, т.е. в ситуации постоянного конфликта ценностей, представлений о благе и формах жизни. Опираясь на взгляды различных мыслителей, в своих концептуальных историко-философских построениях Берлин не только синтезировал их политико-философские, теоретические идеи и методологические подходы, но и разрешал свойственные им противоречия в русле политической философии. Полифоничность, таким образом, является смыслообразующей характеристикой политико-философского дискурса Берлина.
Одно из наиболее оригинальных конкретных исследований Берлина, основанное на его методологическом подходе, - построение бинарной модели «Просвещение» - «контрпросвещение», позволившее ему показать возможность соединения ценностей Просвещения (рациональность, индивидуальная свобода, автономия) с ценностными установками «контрпросвещения» (критика универсализма, единства законов разума и природы, веры в прогресс, признания разума конституирующим началом самости и т.д.). Берлин называл себя либеральным рационалистом. На наш взгляд, он им и являлся, в том смысле, что верил в возможность рационального постижения политической реальности, в которой неизбежно сталкиваются несовместимые ценности, обосновывал идею разумного компромисса, противопоставляя его бездумному подчинению власти и традиции.
История, в понимании Берлина, - это импровизация, т.е. множество как реализованных, так и неосуществившихся возможностей. Берлин понимал закономерность как «равнодействующую категорию» противоборствующих тенденций, включающую в себя возможность разного движения и частных троектов, а не как общее плюс индивидуальные отклонения, вызванные історией и деятельностью людей (специфическое).
Берлин считал, что субъект не трансцендентен, не универсален, но имманентен истории и контекстуально обусловлен. Он полагал, что человеческая природа не является внеисторической, неизменной по своему удержанию. Ее невозможно открыть или осознать, она постоянно изобретается людьми посредством выбора, т.е. имманентно многообразна, а не универсально всеобща. Такое понимание человеческой природы приводит Берлина к мысли, что либерализм, в котором возможность выбора признается основным благом, не является лучшей и необходимой формой жизни. Человек создает разнообразные и равноправные формы жизни посредством способности выбирать. Атональный (состязательный) характер либерализма Берлина непосредственно связан с его оригинальной политико-философской концепцией, которая строится на принципиальном признании существования различных несовместимых, а подчас и несоизмеримых ценностных миров, но не отменяет наличия у людей «общего горизонта ценностей», т.е. наиболее общих социокультурных ориентации, общего кода повседневной жизни.
Поскольку все политико-философские проблемы Берлин рассматривал с точки зрения личности (person), вовлеченной в процесс самосозидания, а не с точки зрения общих структур (государство, общество), его философскую антропологию можно назвать персонализмом. Берлин совершает попытку примирения «индивидуалистов» (либералов), постулирующих первичность и самодостаточность индивидов, и «универсалистов» (коммунитаристов), считающих общество субстанциальным и рассматривающих индивидов в качестве его порождений.
В отличие от либералов неокантианского толка, Берлин считал, что личность недостаточно понимать как некий «чистый субъект», лишенный всех определяющих его качеств, данный «до и отдельно» от каких бы то ни было ценностей, целей, социальных связей и отношений. Берлин, как и сторонники соммунитаризма, рассматривал человека в социокультурном контексте, в тоже $ремя, он не был полностью согласен с коммунитаристами, полагая в отличие )т них, что личность не может быть «полностью обусловленной» социальными :вязями, ролями, той социальной общностью, к которой она принадлежит.
Существует еще одна точка напряжения между либералами и Берлиным, выразившаяся в различии их подходов к проблеме национализма. Берлин в этличие от либералов, недооценивавших национализм и считавших его примитивным стремлением к племенному обособлению, полагал, что при построении нормально функционирующей общественно-политической модели не достаточно исходить из одних только абстрактных принципов и общих правил. «Чувство национальной общности» или «положительный национализм», под которым он понимал современное выражение всеобщей склонности человека к развитию собственной, оригинальной идентичности, также важно для поддержания социальной солидарности и политической стабильности в либеральном сообществе. Берлин напрямую вышел к осмыслению одного из важнейших вопросов современной политической философии - проблеме совместимости либерализма с различными формами существования культур.