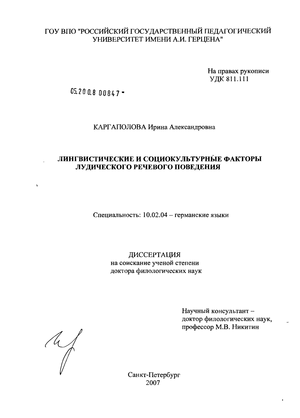Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Методологические основы построения теорий лудического речевого поведения 16
1.1. Проблема определения языковой игры в современной лингвистике 16
1.2. Модели лудического речевого поведения: сходства и различия 47
1.3. Онтологический статус понятия "языковая игра" 70
1.3.1. Языковая игра и юмор: концептуально-методологический анализ 71
1.3.2. Языковая игра и лингвистический эксперимент: продолжение концептуально-методологического анализа 94
1.4. Опыт построения теорий лудического речевого поведения: критерии адекватности 109
Выводы по главе I 131
Глава П. Линеарные и инференционные системы описания лудического речевого поведения 135
2.1. Линеарная теория языковой игры: принципы описания и экспланаторный потенциал 136
2.2. Инференционная (циркулярная) теория языковой игры: мысленный эксперимент 162
Выводы по главе II 202
Глава III. Интеракционные системы описания лудического речевого поведения 206
3.1. Научные предпосылки и общие положения интеракционной теории языковой игры 206
3.2. Фольклорные истоки языковой игры 215
3.3. Акциональный план языковой игры (коммуникативно-прагматический аспект лудического речевого поведения) 229
3.4. Языковая игра в свете 3-х направлений "народной лингвистики" (эпистемологический аспект лудического речевого поведения) 247
3.4.1. Лексикографическое (аналитическое) направление 250
3.4.2. Экспериментальное ("эмпирическое") направление 256
3.4.3. Художественно-коммуникативное направление 265
3.5. Языковая игра в категориях драматургической социологии (микросоциологический аспект лудического речевого поведения) 286
Выводы по главе III 311
Глава IV. Лиминальный характер языковой игры: лудическая речевая деятельность в культурно-антропологическом освещении 316
4.1. Лиминальность как антропологическая категория 316
4.2. Языковая игра как метакоммуникативная речевая деятельность 323
4.3. Фактор "безопасного" риска 329
4.4. Фактор "структурной невидимости" и идея равенства 339
4.5. Регрессивные и псевдорегрессивные тенденции 347
4.6. Моделирование препятствий 360
4.7. Антиструктурные тенденции 379
4.8. Парателический характер лудической речевой деятельности: функции языковой игры 401
4.8.1. Терапевтическая функция 405
4.8.2. Социализирующая функция 409
4.8.3. Социально-идентифицирующая функция (установление внутригрупповой солидарности) 415
4.8.4. Функция ситуативно-ролевого дистанцирования 417
4.8.5. Ксеноденотативная функция 422
4.8.6. Адаптивная функция 425
4.8.7. Комментирующая функция 434
Выводы по главе IV 440
Заключение 442
Библиография 447
Список сокращений 482
- Языковая игра и лингвистический эксперимент: продолжение концептуально-методологического анализа
- Научные предпосылки и общие положения интеракционной теории языковой игры
- Языковая игра в категориях драматургической социологии (микросоциологический аспект лудического речевого поведения)
- Парателический характер лудической речевой деятельности: функции языковой игры
Введение к работе
Термин "языковая игра" (ср. англ. speech play), укоренившийся в лингвистике последней четверти XX века, не имеет точного лингвистического смысла. Вопрос о его уточнениии практически не ставится, но почти всегда делаются ссылки на авторитетное мнение Р. Якобсона, справедливо считавшего этот тип речевой деятельности областью приложения поэтической функции. Большинство авторов также предпочитают говорить не об "объекте", а о гетерогенной "области" исследования, которая задается весьма широко. Наряду с отдельными поэтическими приемами ("игровыми стандартами") в нее включаются такие уникальные в своем роде и не сводимые друг к другу явления как фольклор, язык художественной литературы, экспрессивно-разговорная речь, языковой юмор, "наивные" лингвистические эксперименты. Это ставит автора перед дилеммой: надо ли продолжать традицию синкретичного исследования названой области или же следует расчленить ее с тем, чтобы в дальнейшем конкретизировать значение термина "языковая игра", если это необходимо.
Другой чертой, отличающей большинство лудологических разыскани-ий, является их бессистемный характер (эта традиция восходит к классическим теориям юмора и некоторым из известных теорий поэтического языка). Системность лингвистического исследования выражается не только в его приверженности какой-то теории, но и в ориентации на определенную модель общения (линеарную, циркулярную, интеракционную), которая становится осью координат, задающих необходимые параметры анализа. В работах на тему языковой игры вопрос о такой модели, как правило, не ставится.
Бессистемность подхода к лудической речевой деятельности проявляется и в том, что общеизвестные типы игр - неформализованная, открытая игра ("play"), регламентированная ("закрытая") игра по правилам ("game") и игра-представление ("performance") - в лингвистике исследуются единообразно, т.е. с помощью одного и того же категориального аппарата, заимствованного у известных поэтических теорий. С методологической точки зрения
это не совсем корректно. В большинстве исследований делается акцент на самодостаточности, автотеличности и автокоммуникативности лудических речевых действий, независимо от их принадлежности тому или иному типу, хотя опыт повседневной речи заставляет усомниться в этом. Приписывание названных свойств "языковой игре" (по аналогии с "поэтическим языком") как будто закрывает возможность изучать ее извне, воспринимать ее частью игры per se, игры в широком, антропологическом понимании. Между тем, не исключено, что для лингвистической лудологии важен не столько вопрос о статусе языковой игры как самодостаточной, самоценной речевой деятельности, сколько вопрос о роли этой деятельности (и о роли языка вообще) в создании самого "игрового пространства".
По давней лингвистической традиции, признающей приоритет рефе-рентивной функции, большинство лудологических исследований завершаются выводами относительно объективных свойств кода, техники создания "художественных сообщений", их эстетической значимости и отношения к действительности. Иначе говоря, продолжаются попытки постичь смысл "художественности" ("литературности") и исследовать скрытые возможности естественного языка, его "способность к бессубъектной игре" (К. Ажеж) собственными звуками и смыслами. При таком подходе лудические высказывания (приемы) по существу рассматриваются как отрицательный языковй материал, позволяющий сформулировать разные типы языковых правил: "предписывающие, разрешающие, конфликтно-разрешающие" (А.Е. Кибрик). Но именно представление о "бессубъектности" языковой игры не вполне соответствует тенденциям современной лингвистики, ориентированной на субъекта речевой деятельности. В большинстве работ данной тематики он выступает под общим именем homo ludens, тогда как современные лингвистические теории отдают предпочтение не абстрактному говорящему, а субъекту речи, наделенному рядом психологических и социальных характеристик, способностей (когнитивно-перцептивных, коммуникативных), идиоэтниче-ским языковым сознанием и определенными установками по отношению к
своєму языку: инструментальными, этическими, аффективными, эстетическими (Ф. Данеш). Они могут быть рациональными и иррациональными, реальными и мнимыми, изоляционистскими, пуристскими и т.д. Таким образом, субъект речи одновременно является "психосоциальным субъектом", "субъектом культуры" (европейской, англофонной и др.), "субъектом традиций" (в том числе игровых) и исполнителем социально-коммуникативных ролей. Учет всех этих параметров позволяет "субъектно-ориентированной" лингвистике выйти в "широкую систему речи" (Д. Хаймс), к чему она и стремилась на протяжении нескольких последних десятилетий. Перестановка акцента с кода и бессубъектного сообщения на человека, субъекта лудической речевой деятельности высвечивает в ней стороны, недоступные для исследования в категориях внутренней лингвистики: поведенческую, коммуникативно-прагматическую и эпистемологическую. В этой связи встает вопрос о том, какое определение языковой игры нужно взять за основу, чтобы исследовать ее с точки зрения внешней лингвистики, в компетенцию которой входит "все, что имеет отношение к существованию и функционированию языка" (А.Е. Кибрик), и обращение к которой на данном этапе кажется неизбежным.
Ответы на поставленные вопросы составляют содержание настоящего исследования. Эти же дискуссионные вопросы определяют его цель, задачи и методологию.
Объектом исследования являются "малые жанры" и формы, входящие в "широкую систему" англоязычной речи и зафиксированные в специальной и справочной литературе. Это "микроструктуры" (Л.А. Капанадзе), используемые в качестве "ограниченных речевых клише" определенными языковыми общностями. По своему статусу они являются маргинальными, "нетрадиционными" лингвистическими объектами. По своим функционально-стилистическим и социальным характеристикам это формы, относящиеся преимущественно к нейтрально- и фамильярно-разговорной речевым культурам. По своему происхождению и способу передачи (распространения) это формы фольклорные или фольклоризованные, восходящие к традициям "на-
родной речи" и рассчитанные на устное "исполнение" с элементами драматизации.
Предметом исследования являются эпистемологический, коммуникативно-прагматический и поведенческий аспекты речевой деятельности рек-реационно-игрового характера. Последняя рассматривается как форма языковой рефлексии, как составная часть коммуникативной компетенции, как вид символического (небуквального) взаимодействия и как рефлекс ритуального поведения.
Актуальность работы определяется состоянием современной лингвистической лудологии, в которой исследования частного и прикладного характера преобладают над феноменологическими. Потребность в общих принципах описания языковой игры возросла с выходом большинства исследований за рамки художественной литературы, в широкую систему речи. В связи с этим увеличился спрос на информацию об антропологических и речепове-денческих универсалиях, типах речевых культур и коллективных метаязыко-вых установках, о взаимодействии теоретической и "народной" лингвистики, о соотношении конъюнктурно-целевых н ритуальных актов речи, о факторах, формирующих лудические привычки говорящих.
Научная новизна исследования заключается в выборе "внешнелин-гвистического" подхода к языковой игре, основанного преимущественно на развитии идей антропологической лингвистики (этнографии речи Д.Хаймса). Научный интерес представляет программа исследования объекта, синтезирующая данные четырех взаимодействующих дисциплин: лингвистики, культурной антропологии, социологии и фольклористики. Нетрадиционен и выбор самого объекта, включающего "формы существования и функционирования языка" (А.Е. Кибрик), ранее не замечаемые или игнорируемые лингвистикой, но обсуждаемые в смежных ей дисциплинах. Инновационным является и системный анализ коммуникативно-лингвистических сигналов игры, ее мотивов и функций. Введение понятий "лиминалыюсть" и "лиминальный дискурс" задают исследованию достаточно высокий уровень теоретического
)
обобщения. Установление корреляций между категориями лингвистики, социологии и культурной антропологии открывает перспективу для более фун-даметальных исследований лудического речевого поведения.
Цель работы заключается в создании исследовательской программы, претендующей на статус теории лудической компетенции, способной обобщить выводы, полученные в рамках существующих лудологических концепций, и пригодной для изучения трех планов языковой игры — игры как психо-логической готовности и способности к небуквальной интерпретации действительности (play), игры как структурированного и конвенционального речевого события (game) и игры-представления (performance).
Для достижения цели ставятся следующие задачи:
Систематизировать существующие в лингвистике определения "языковой игры" и обобщить опыт построения лудологических концепций. Проследить эволюцию взглядов на исследуемый объект, вызванную сменой научных приоритетов.
Уточнить онтологический статус объекта исследования, т.е. определить рамки научного контекста (направления, дисциплины), в которых луди-ческая речевая деятельность получила бы наиболее адекватное объяснение. Провести сравнительный анализ понятий "языковая игра" и "юмор", "лингвистический эксперимент" и "рефлексия над языком". Идентифицировать типы "лингвистических экспериментов".
Выбрать модель лудической речевой деятельности, обеспечивающую выход в "широкую систему речи" (являющуюся ее аналогом) и широкий этнографический контекст. Обосновать это выбор.
Сформулировать критерии адекватной теории языковой игры на основе анализа существующих лингвистических и лудологических/ноэтических теорий, а также исследовательских программ разной степени завершенности.
Сравнить выделяемые лингвистикой модели общения (линеарную, циркулярную, интеракционную) и соответствующие им лудологические тео-
рий. Определить их экспланаторный потенциал и сферы применения. Представить схемы анализа лудического материала в рамках каждой теории.
Систематизировать факты "народной лингвистики" или установки но отношению к языку и способы их представленния в речевой деятельности на основе данных лексикографии, фольклора и социолингвистических тестов.
Конкретизировать понятие субъекта речи (и соответственно homo ludens) с помощью категорий драматургической социологии, переведенных на язык лингвистических терминов.
Рассмотреть объект (языковую игру) в эпистемологическом и коммуникативно-прагматическом планах: как способ усвоения знаний о языке (речи) и обмена ими, как вид метаязыковой рефлексии и проявление лудиче-ской компетенции.
9. Рассмотреть лудическую речевую деятельность как особый тип
культурного поведения, основу которого составляет взаимодействие симво
лического, "небуквального" характера.
Раскрыть смысл антропологического понятия "лиминальность" и экстраполировать его в лингвистику, представив лудическое речевое поведение в терминах лиминального дискурса. Использовать метод дискурсного анализа для определения "условного" (внешнего) и "неусловного" (глубинного) смыслов языковой игры.
Выделить лингвистически значимые параметры для типологизации языковых игр и соотнести новые типологии с существующими онтологическими классификациями.
Материал исследования составляют данные англоязычных словарей (толковых, энциклопедических, специальных, тезаурусных), а также примеры (включая выдержки из протоколов лудической речи), полученные в результате целенаправленной выборки из научно-теоретической, хрестоматийной, и рекреационно-дидактической литературы.
Методы исследования, используемые в работе, варьируются в зависимости от характера исходных данных (т.е. от типа языковой игры). Исследо-
вательская процедура строится на сочетании гипотетико-дедуктивных и эмпирических, общих и частных методов, включая структурно-семиотический, конструктивный (метод теоретического моделирования), аналитический (мысленный эксперимент), лексикографический (анализ словарных дефиниций), метод дискурсного и коммуникативно-этнографического анализа. На защиту выносятся следующие положения:
Языковая игра (или лудическая речевая деятельность) является антропологической универсалией и потому должна рассматриваться не столько в терминах внутренней, сколько в терминах внешней лингвистики.
По аналогии с родовым термином "языковая игра" определяется как вид конвенциональной симулятивнои речевой деятельности, моделирующей различные типы языкового поведения и пересимволизирующей их. Взятое в качестве исходного, такое определение указывает на эпистемологический, коммуникативно-прагматический и поведенческий аспекты "языковой игры".
Для описания лудической речевой деятельности, логически определяемой как вид игры, онтологически - как ее неотъемлемая часть, а генетически — как рефлекс ритуала (редуцированная, десемантизированная его форма), необходимо обращение к понятию дискурса и, в частности, лиминалыю-го дискурса.
"Архетипическая" языковая игра, как и ее родовой коррелят, включает в себя три плана: традиционно обозначаемые английскими словами "play", "game", "performance". Каждый из них требует самостоятельного рассмотрения в рамках отдельной теории или в составе общей синтетической программы, предполагающей использование комплементарных методик.
В качестве "идеального объекта" или модели лудического речевого поведения в широкой системе речи следует избрать малые формы рекреа-циионного фольклора, для которых характерно оптимальное соотношение названных компонентов игры (см. п. 4).
Исследование лудической речевой деятельности как антропологической универсалии должно проводиться в рамках теории или программы,
включенной во "всеобъемлющую концепцию культуры". К числу методолги-ческих требований такой теории относятся политетичность (способность оперировать открытыми понятиями и "размытыми" категориями), синтезирующий характер, радикально-прагматическая направленность, эссенциа-лизм (феноменологизм), ориентация на интеракционную модель общения.
Обращение к дисциплинам, "имеющим отношение к существованию и функционированию языка" и взаимодействующим с лингвистикой в широкой системе речи (фольклористика, социология, культурная антропология), открывает возможность типологизации языковых игр (лудической речевой деятельности) на иных, нежели онтологический, принципах.
В лудической компетенции (способности к языковой игре) отражается общая способность человека к целесообразному, конвенциональному и мотивированному поведению. Это означает, что лудическая речевая деятельность подчиняется общим принципам использования языка и не является "трансцендентным", недоступным для анализа лингвистическим опытом.
Лудическая компетенция, реализующуяся в широкой системе речи, включает знание и использование контекстообусловленных сигналов игры ("чужих слов" и речеповеденческих стереотипов), знание "ментефактов" (структурно значимых единиц культуры), способность к небуквальной интерпретации (пересимволизации) действительности и коммуникативно-ролевой опыт (опыт "мультиперсональности"). Эти знания и способности необходимы для создания акционалыюго и автотрансформационного планов языковой игры.
10. Отрефлектированные результаты лудической речевой деятельности
в широкой системе речи становятся достоянием народной лингвистики и ча
стью конкретной языковой ситуации. В этом качестве языковая игра также
требует "внешних", "надсистемных" объяснений, которые исходят из обстоя
тельств приобретения лудической способности и обстоятельств ее использо
вания. Учет фактора "дотеоретической интуиции" и описание объекта в тер
минах социально-психологических и метаязыковых установок, речевых
культур и коллективных речевых привычек необходимы для идентификации идиоэтнического компонента языковой игры.
11. Описание лудической речевой деятельности в терминах лиминаль-ного дискурса позволяет раскрыть ее "условный" и "неусловный" (глубинный) смысл. Первый создается путем имитации и пересимволизации речевой действительности. Второй обнаруживается в скрытых или неоглашаемых мотивах и функциях языковой игры.
Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в развитие дисциплин, сформировавших его методологическую базу (этнография речи, "реальная" и интеракционная социолингвистика, этнометодология, дискурсный анализ): их ключевые тезисы впервые апробируются на лудиче-ском языковом материале. Теоретический интерес представляют разработки исследовательских процедур на основе трех моделей коммуникации (линеарной, инференциошюй, интеракционной), дополнения и комментарии к теории речевых актов и теории коммуникативной компетенции, а также опыт метатеоретического сравнения и формулирование критериев адекватной лу-дологической теории.
Практическая ценность исследования состоит в возможности использования его результатов в прикладных целях — в практике социолингвистического тестирования и исследования социолингвистических переменных, в анализе языковой ситуации и разработке мер, направленных на решение языковых проблем в речевом коллективе (культура речи, билингвизм, языковая политика, межкультурная коммуникация).
Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования. Языковой материал диссертационного исследования, а также его понятийный аппарат, теоретические положения и выводы могут быть использованы в курсах лекций по социо- и психолингвистике, сравнительной типологии и контрастивной лингвистике, общему языкознанию, лексикологии и функциональной стилистике, а также в факультативных дисциплинах лингвокультурологического характера.
Апробация работы. Основные положения исследования были изложены в докладах, сделанных на межвузовских научных конференциях «Герце-новские чтения» в РГПУ им. А.И. Герцена (1993-1996 гг.), на конференциях Уральского лингвистического общества в УҐПУ (Екатеринбург, 1995, 1996 гг.), на конференции в ВИСИ (Санкт-Петербург, 1996), на «Царскосельских чтениях» в ЛГОУ им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, 1999-2005), а также на заседаниях кафедр английской филологии в РГПУ им. А.И. Герцена и в ЛГОУ им. А.С. Пушкина и аспирантских семинарах названных кафедр. По теме исследования опубликована 31 печатная работа, общим объемом 39,5 печатных листов. Из них монографий - 1 (объем 25,5 п.л.), статей - 13, общим объемом 8,47 п.л., материалов конференции - 15, общим объемом 2,15 п.л., учебно-методических пособий - 2, общим объемом 3,5 п.л.
Структура работы: Диссертация объемом 483 страницы состоит из введения, четырех глав и заключения. К работе прилагается библиография из 462 наименований на русском и английском языках, из них 95 используются в качестве источников анализируемого материала (словарно-справочная, фольклорная и рекреационно-дидактическая литература).
Во Введении обосновывается выбор темы исследования, отмечаются ее актуальность и новизна. Формулируется цель исследования, его задачи, методы и основные положения.
В первой главе дается критический обзор существующих определений и концепций языковой игры. Обосновывается необходимость уточнения (пересмотра) онтологического статуса исследуемого объекта, а также выбор адекватной модели для его дальнейшего описания. Решение этих задач сопровождается анализом основополагающих теорий юмора и поэтического языка, отмечается их вклад в развитие лингвистической лудологии, а также дифференцируются понятия "языковая игра", "юмор", "лингвистический эксперимент". Глава завершается выдвижением критериев экспланаторной лу-дологической теории.
Во второй главе представлены образцы анализа лудической речи в рамках линеарной (кодово-информационной) и инференционной теорий речевой деятельности как наиболее влиятельных и жизнеспособных. Исследуются экспланаторные возможности их понятийных аппаратов для описания разных типов языковых игр (нерегламентированных и регламентированных -т. е. с доминантами "play" и "game") и их пределы. В ходе сравнепительного анализа теорий отмечается и объясняется частичное сходство их типологий и выводов, после чего выдвигается тезис о необходимости создания теории или теоретической программы, способной объяснить драматургический аспект игры ("performance").
Третья глава представляет попытку создания указанной программы. Аргументируются возможность и преимущества "внешнего" подхода к лудической речевой деятельности, т. е. возможность рассмотрения ее в категориях социолингвистики, культурной антропологии и теории коммуникативной компетенции. Обосновывается необходимость взаимодействия теоретической лингвистики со смежными дисциплинами: фольклористикой, "народной лингвистикой", микросоциологией, и представляются результаты этого взаимодействия. Раскрываются эпистемологический и коммуникативно-прагматический аспекты языковой игры. Глава завершается выводом о необходимости рассмотрения последней в терминах дискурса.
Четвертая глава объединяет разрозненные факты лудической речевой деятельности, полученные в рамках вышеназванных дисциплин, вокруг понятия "лиминальный дискурс". Культурно-антропологический смысл понятия представляется как совокупность речеповеденческих стереотипов и коммуникативных стратегий. Идентифицируются скрытые мотивы, "отдаленные" цели и ключевые функции "языковой игры".
В Заключении подводятся итоги исследования, анализируются его положительные и отрицательные результаты, формулируются основные выводы и перспективы.
Языковая игра и лингвистический эксперимент: продолжение концептуально-методологического анализа
Вторая группа теорий (и методологических установок), заложивших "основы" лингвистической лудолопш, представлена теориями поэтического языка. Они описывают свой "объект" (художественную речевую деятельность) не в эстетических или когнитивных, а в поэтико-технических терминах, в целом определяя практику поэтизирования как "лингвистический эксперимент". Этот термин, вошедший в лингвистику в первой четверти XX века, также относится к разряду тех (терминов), чьи прямые значения "забыты".
В исследовании феномена "литературности" ("художественности") выделяются четыре основных направления: риторическое ("орнаменталист-ское"), дихотомическое, функциональное и контекстуально-диалогическое. Первое восходит к античной риторике, т.е. "науке убеждать", "искусству красноречия", разветвленным классификациям тропов и фигур и "теории 3-х стилей". Это классическое направление вообще можно было бы не включать в данный список, так как "наука убеждать" не обязательно предполагает главенство поэтической функции в речи говорящего. Последняя скорее подчинена функции апеллятивной. Но в той мере, в какой риторика является искусством красноречия (а не только наукой убеждения), ее по праву можно отнести к теориям "художественного" (эстетического) поведения или "поэтического языка", назвав ее, например, "прикладной поэтикой"11. Риторические или орнаменталистские теории нельзя обойти и в контексте продолжающей ся с 60-х годов XX века дискуссии о необходимости пересмотра и "воскрешения" риторики. Классическую риторику критикуют за выраженную "суб-станциалистскую" направленность и "таксономический раж" (rage taxonomique) [Франк 1986: 371]. При этом остаются в тени более ценные и актуальные (с точки зрения современной лингвистики) положения классической риторики, которые, по замечанию Д. Франк, поразительно напоминают грайсовские постулаты общения. В некотором смысле, воззрения античных и средневековых риторов на художественное поведение, на практику поэтизи-рования оказываются реалистичнее, чем более поздние представления теоретиков "литературности". В частности, классической риторике в целом чужда мысль о поэтизировании ради него самого, о самодостаточности поэтической функции, о ее абсолютизации. Действительно, практика повседневного (в том числе и рекреационного) общения показывает, что эстетические цели почти всегда (за редким исключением) совмещаются с целями внеэстетиче-ского характера. Неудивительно, что классическая риторика (и ее поздние модификации) и сегодня остается влиятельной лингвистической дисциплиной. Более того, ее значение даже возросло в связи с необходимостью решать насущные задачи прикладного характера. В целом же сторонники орнамен-талистского направления ("орнаментальной поэтики") продолжают исследовать "декоративную", "инкрустирующую" функцию риторических фигур (в дальнейшем "поэтических приемов", "игровых стандартов") и систематизируют их в соответствии с новыми лингвистическими приоритетами.
Дихотомические теории (термин Р. Лахманн [2001: 252]) основаны на условном противопоставлении "практического" языка "поэтическому". Первый рассматривается как "гипотетическая модель, имеющая область реализации, но не достигающая полного воплощения" (Шмидт: цит. по [Лахманн, 2001: 256]). В этой модели преобладают такие коммуникативные характеристики как "информативность", "прагматичность", "интерсубъективность" и "семантическая избыточность". "Поэтический" язык не отвечает (в большей или меньшей степени) этим требованиям и в разных концепциях характери зуется как язык с "воскресшей внутренней формой" (А. Потебня), с "изначальной" (или "неисчерпаемой") семантикой" (Р. Лахманн), "деавтоматизи-рованный", "остраненный", "затрудненный", "обогащенный", "осложняющий восприятие" (В. Шкловский), "преобразованный" (Ж. Дюбуа и др., Ю. Левин), "отклоняющийся от нулевой ступени" (Р. Барт). И риторические (орнаменталистские), и дихотомические теории при меняют к языку эстетические критерии, находя в нем высокое (возвышен ное)/низкое, художественное/утилитарное, эстетически значи мое/тривиальное ("нормированное"/"ненормированное эстетическое" [Му-каржовский 1996]), нормальное/девиантное.
Функциональные теории поэтического языка генетически и концептуально связаны с дихотомическими теориями. Они избегают эстетических оценок языка и рассматривают "эстетически значимые импровизации" не в терминах "отклонений", а в терминах "риторических интенций" — как результат сознательной установки говорящих на форму сообщения. Иными словами, художественность, "литературность" — это, прежде всего, особое использование языка [Дюбуа 1986: 37], реализация его поэтической функции. В рамках функциональных поэтик были выдвинуты принципиально важные положения о взаимодействии поэтической функции с другими речевыми функциями и их иерархии, о способности поэтической функции не только "усиливать осязаемость знаков" [Якобсон 1975: 202-203], но и радикально влиять на все компоненты речевой ситуации и, в частности, "расщеплять" сознание адресанта и адресата. Функциональные поэтики являются самыми "семиотичными" из названных теорий. В основе их лежит шестичленная модель коммуникации Р. Якобсона в различных ее вариантах.
Контекстуально-диалогические теории (или концепции "диалогической поэтики") находятся в стадии становления. Поэтому, вопреки мнению Р. Лахманн, они не могут быть названы безоговорочно "цельными". На это отчасти указывает и их терминология, основанная на метафорах и импликациях: "диалогизм", "гетероглоссия", "оговорочное" ("авторитарное", "идеологи ческое", "чужое") слово, "карнавализация", "нетождественность говорящего самому себе". Контекстуально-диалогические теории отличаются от предыдущих ярко выраженной прагматической направленностью. В их интерпретации "слово" (в широком смысле понимаемое как высказывание, речь, дискурс) не просто является носителем готового значения, но обладает семантическим и прагматическим потенциалом, который раскрывается во взаимодействии с "чужими" словами. Это приводит к идеологизации слова, т.е. наделяет его способностью выражать мировоззрение и ценностные установки говорящего. Поэтому основным свойством "художественности" в диалогических поэтиках признается не "декоративность", не "девиантность", не "особое использование языка" (тематизация поэтической функции), а "повышенный", "усиленный" (или даже "утрированный") диалогизм. Он часто определяется как двойная направленность: с одной стороны, на "предмет", с другой - на "иное" слово, высказывание, язык, дискурс. Иначе говоря, смысл поэтизиро-вания (художественной коммуникации) не в создании "приукрашенного", "искусственного" или "акоммуникативного" языка, а в создании языка неоднозначного и прагматически двусмысленного. "Поэтической речи" органично присущи свойства интеракционалыюсти и интертекстуальности, причем последняя (т.е. интертекстуалыюсть) признается не "видовым свойством" художественной коммуникации [Люксембург 2001: 325], а ее родовым свойством.
Научные предпосылки и общие положения интеракционной теории языковой игры
Нельзя не заметить, что в ходе рассуждений методологического характера постепенно возрастает количество и качество требований к предполагаемой лудологической теории (теории языковой игры). В воображении исследователя она все более приобретает черты метатеории, поскольку должна не просто соответствовать сформулированным принципам (см. раздел 1.4.), но должна также интегрировать предыдущий (в целом отрицательный) опыт построения подобных теорий и органично объединить свойства языковой игры, отмечаемые теориями поэтического языка, юмора и теорией речевых актов. Учитывая состояние современной лингвистической лудологии, можно предположить возникновение такой теории в будущем. Но это не исключает создания ее проекта в настоящем, тем более что для этого имеется достаточно теоретических предпосылок. К их числу следует прежде всего отнести становление "теории коммуникативной компетенции в рамках социолингвистических теорий" [Демьянков 1995: 285], которая сформировалась на основе взаимодействующих друг с другом комплементарных дисциплин. Это:
этнография речи (ethnography of speaking), основы которой сформулировал Д. Хаймс (он же ввел этот термин) [Хаймс 1975];
интеракционная социолингвистика (interactional sociolinguistics) или лингвистическая теория социального взаимодействия, начало которой положили труды Дж. Гамперца [1975, 1982а, 1982b];
"реальная социолингвистика" или "социолингвистический реализм" (sociolinguistic realism), органично связанная с именем У. Лабова [1975].
Все эти направления (сокращенно ЭР, ИС, PC) возникли и сформировались в полемике с хомскианством и в попытках преодолеть узкоспециальный подход лингвопрагматических теорий (в частности, ТРА и конверсационного анализа) к речевому поведению. Все они ориентированы на изучение речи в широком, социокультурном контексте, отвергают формально-логический ("атомарный") подход к коммуникации (как обмену репликами, интенциями, речевыми актами) и отказываются от узкой трактовки "рациональности".
Разделяя общие принципы и более частные установки, эти лингвистические дисциплины различаются "широтой охвата", поскольку исследуют речевое поведение в этнографических контекстах разной "протяженности". Для Д. Хаймса и его последователей речь — это, прежде всего, "культурное поведение", "аналог культурной системы" [Хаймс 1975: 56]. Для У. Лабова это социально обусловленное поведение, а для Дж. Гамперца - "черта личности", способ (само)познания и межличностного взаимодействия. Выбор перспективы определяет материал, задачи и характер соответствующих исследований. В пользу названных дисциплин можно привести следующие аргументы:
1. В исследовании речевого поведения они (ЭР, ИС, PC) опираются на основополагающие принципы современной науки: экспансионизм, антропоцентризм, неофункционализм, экспланаторность [Кубрякова 1995: 207]. Эти принципы приобрели особую актуальность в эпоху постгенеративизма, когда стала очевидной необходимость "выхода в более широкую систему речи" [Хаймс 1975: 63] и вместе с тем стало ясно, что все ее уровни невозможно описать в терминах "чистой лингвистики".
Экспансионизм: Чтобы понять, из чего складывается коммуни кативная компетенция, и определить гетерогенные факторы, влияющие на речь, в том числе и те, "о которых раньше и не подозревали" [Слобин, Грин 1976: 228], необходимо обратиться к совокупности дисциплин: культурной антропологии, лингвистике, фольклористике, социологии [Bauman and Sher-zer 1974] и синтезировать их данные. Научное описание речи должно включать ссылки не только на языковые, но и на этнографические универсалии, поиск которых (как эмпирический, так и априорный) весьма проблематичен при отсутствии внятных теоретических установок. Они могли бы быть сформулированы в рамках таких дисциплин как философия и психология культуры [Минский 1988, Мигунов 1999], которые также пребывают в стадии становления. Тем не менее, универсальный статус некоторых культурных феноменов общепризнан и не подвергается сомнению. К таковым относятся символические (симулятивные) виды деятельности, феномен "празднично-игрового поведения", категория лиминалыюсти (лиминарности), наличие эзотерического и экзотерического фольклора [Jansen 1965: 43-51]. Обращение к названным феноменам или ссылки на них, возможно, и будут квалифицироваться как "этнографизм", подчиненный целям лудологического исследования.
Для авторов и сторонников теорий, ориентированных на интеракцион-ную модель коммуникации, речь также является средством построения социальной действительности и "формой общественного поведения" [Лабов 1975: 96]. Отсюда попытки установления корреляций между адекватным (уместным) речевым поведением и общественным порядком, с одной стороны, и девиантным поведением и социальным хаосом - с другой. Как известно, "порядок" и "хаос" являются ключевыми терминами в лудологическом дискурсе. Но изучать речь как совокупность "форм общественного поведения" (и языковую игру как совокупность форм символического поведения) невозможно без обращения к категориям социологии и социальной психологии, таким как "малые группы", "групповая солидарность", "группа Мы/Они" (свой/чужой), "Я-образ", "самопрезентация" (аутентичная/неаутентичная), "социализация" (первичная/вторичная), "коллективные языковые игры".
Интерес названных направлений к фольклористике также не случаен, поскольку последняя тесно связана с лингвистикой и этнографией. Осознание органичности этой связи открывает для исследователя иную перспективу, позволяя ему взглянуть на фольклор с коммуникативно-прагматической точки зрения, а не с литературоведческой или историко-генетической, долгое время считавшихся если не единственно возможными, то приоритетными. При "новом" подходе фольклор предстает особым типом речевой деятелыю 208
сти и наиболее близким аналогом разговорной речи (что принципиально важно для "неискошюго говорящего", иноязычного исследователя), а фольклорные жанры рассматриваются как культурно осознаваемые, стилизованные ("форсированные") виды коммуникации. Можно также ожидать, что в рамках теорий, авторы которых осознают неизбежность "взаимопроникновения лингвистики, поэтики и фольклора" [Иванов 1987: 9], гипотетические суждения о "фольклорных истоках языковой игры" и о "фольклорном усвоении сведений" (в том числе лингвистических) приобретут более конкретный смысл и будут подтверждены языковыми фактами.
Языковая игра в категориях драматургической социологии (микросоциологический аспект лудического речевого поведения)
В контексте исследования лудического речевого поведения закономерно обращение к основным понятиям драматургической социологии (или микросоциологии) Э. Гофмана, символического интеракционизма (Г. Блумер, Дж. Мид) и этнометодолопш (Г. Гарфинкель). Во-первых, это предопределено интеракционной моделью коммуникации, преимущества которой никогда не использовались в лудологических исследованиях. Во-вторых, эти комплементарные дисциплины существенно повлияли на лингвистику конца XX столетия. Наконец, вопросы, поставленные и решенные в рамках этих социологических направлений, частично заполнили лакуны современной лингвистики, создав предпосылки для построения более адекватной (синтезирующей) теории языковой игры.
Принципиально важными для лудологических исследований явились выводы, следующие из основных положений названных дисциплин:
1. Языковая игра не сводится к операциям над кодом, точно так же как "эстетическая потребность" говорящих (их "универсальная приверженность к поэтическому началу") не единственный ее мотив. Иначе говоря, природа "риторической интенции" не является чисто лингвистической. Эту мысль неоднократно высказывали и авторы поэтических теорий (дихотомических, функциональных, контекстуально-диалогических), но она (как это уже подчеркивалось) чаще имела характер констатации, чем объяснения. Суть "микросоциологического" подхода к языковой игре состоит в признании того, что человеческое взаимодействие имеет "игровую природу" и что "ощущение себя в речи, как на сцене" (при свете рампы или без нее) естественно и привычно для говорящего. "Хотя жизнь по большей части не является азартной игрой, но природа взаимодействия - игровая" [Гофман 2000: 289]. "Игровой природой взаимодействия" объясняется широкое использование "театральных" метафор в современных гуманитарных науках: роль, сцена, закулисье, выход из роли, команда исполнителей, эскиз аудитории. До Э. Гофмана, положившего начало этой традиции, театральные термины не приветствовались в научных описаниях повседневной речи и изредка употреблялись в качестве метафор. Оригинальность драматургического подхода к социальному взаимодействию состоит не в очередном признании того, что "вся жизнь - театр", а в пересмотре приоритетов, затрагивающем основные функции речи и факторы, определяющие ее характер. Одним из наиболее существенных признается фактор корпоративности. Объединение людей (групп) по участию (активному/пассивному) в какой-либо деятельности предполагает неизбежное деление участников социального события на команду исполнителей и аудиторию. Первые контролируют ситуацию, вторые поддерживают ее своим присутствием. Первые предлагают свою интерпретацию происходящего (the definition of the situation), вторые соглашаются с ней (принимают ее). Обстановка, в которой действует команда исполнителей, делится на две зоны: "сцену" ("передний план") и "закулпсье". Каждая из этих зон, называемых соответственно зонами мобилизации и расслабления, диктует особый, присущий только ей тип "исполнительского" поведения (нормы, этику н эстетику).
При поверхностном рассмотрении отношение "исполнитель (команда) - аудитория" является вариантом отношения "свой - чужой", значимого для социологии и фольклористики. Но было бы некорректным отождествлять два эти типа отношений. Второе ("свой/чужой") оппозиционно, первое комплементарно: исполнитель и аудитория суть две составляющие "сценического действия". Человек, по Э. Гофману, жаждет социальных контактов и испытывает естественную потребность в аудитории, как и "потребность в собратьях по команде", где он может наилучшим образом проявить "свое социальное Я" [Гофман 2000: 24]. Потребность же в "своих" и "чужих" не столько социальна, сколько биологична по своей природе, и потому описывается не в драматургических, а этологических или диагностических терминах. Для исполнителя, когда он находится в "парадной (представительской) зоне", психологическая грань между командой и аудиторией нередко стирается (что едва ли возможно в случае деления участников на "своих" и "чужих"). Исполнитель проходит "двойной контроль", поскольку его профессиональное мастерство оценивается как "внешней", так и "внутренней" аудиторией (членами команды). Факт одновременного присутствия двух разных аудиторий и необходимость соответствовать двум типам ожиданий делают положение исполнителя двусмысленным, а саму ситуацию - достаточно конфликтогенной. Двойственность описанного положения существенно сказывается на речевом поведении исполнителя, несколько "шизофреничном" ("термин", довольно часто употребляемый в современной социо- и психолингвистике [Preston 2003: 162]). В соответствии с ожиданиями "внутренней" аудитории исполнитель должен "хорошо исполнять роль", т.е. контролировать себя и избегать крайностей, а именно излишней увлеченности, с одной стороны, и цинизма -с другой. От него также требуется хранить "соглашательскую верность партии", исполнительскую солидарность, умение подчиняться "драматургической дисциплине" и таким образом вносить необходимый вклад в постановку общего спектакля или в "совместное определение ситуации". Требования к исполнительству (в понимании Э. Гофмана) невольно вызывают аналогию с принципом сотрудничества П. Грайса. Возможно, что в "парадном взаимодействии" команды на сцене этот принцип действительно является регулирующим. В отношении же "внешней аудитории" он теряет актуальность. Взаимодействие исполнителей и аудитории не может однозначно характеризоваться в терминах "сотрудничества". В той или иной мере оно приобретает характер иронического сговора между членами команды, что особенно явно обнаруживается в присутствии неискушенной (наивной) аудитории. Ей в наилучшем виде показывают то, что она ожидает увидеть (и не более того). Для непосвященных (или неофитов) действие должно разыгрываться грубо, утрированно, иллюстративно. В этом случае деятельность команды часто уступает место ее демонстрации, преувеличенному показу, граничащему с пародией. Исполнители словно пародируют самих себя в своей повседневной роли. Демонстративное потакание привычным ожиданиям и "примитивным" вкусам публики объясняется двояко. С одной стороны, за ним стоит желание сохранить "своеобразную власть над непосвященными" [Гофман 2000: 106] путем контроля их впечатлений. С другой стороны, презрительно-снисходительное отношение к публике есть способ дистанцирования от нее.
Аналоги такого поведения, ориентированные на примитивного речевого партнера, встречаются и в обыденной речи, где они имеют вид "маргинальных систем" (или их стилизаций) с узкой сферой применения.
Парателический характер лудической речевой деятельности: функции языковой игры
В этом разделе предпринимается попытка раскрыть "неусловный смысл" игры (и, в частности, лиминарного дискурса). Но сначала необходимо выяснить, какое содержание вкладывают антропологи в понятие "парателич-ность".
С отологической точки зрения, человеческое (общественное) поведение есть постоянное чередование "телических" (telic греч. telos - цель) и "пара-телических" (paratelic) действий или состояний [Holland 1982: 70]. Первые вызваны необходимостью (биологической и социальной) и направлены на достижение "полезных" результатов. Целевая ориентация определяет и логику телической деятельности. Парателическое же поведение как будто не продиктовано жизненной необходимостью: цели его условны, символичны и ставятся только для того, чтобы оправдать "странные", "нецелесообразные" действия58. К последним традиционно относят все, что связано со сферами ритуала, рекреации, досуга. Ориентация не на "что", а на "как" (т.е. не на цель, а на средства ее достижения) соответствующим образом влияет на характер (и логику) парателического поведения. С отменой приоритета цели устраняются и сопутствующие ее достижению напряженность, тревожность, страх, неуверенность в себе, чувство ответственности, вины и т.д. - все то, что мешает созданию непринужденной атмосферы "безопасного риска".
В социологической концепции Э. Гофмана парателические и теличе-ские виды деятельности (поведения) различаются соотношением присутствующих в них эйфории и дисфории [Goffman 1972: 40]. В другой терминологии два типа поведения известны как "эпистемическое" и "лудическое" [Schwartzman 1982:317].
Телические и парателические состояния предполагают друг друга: их (оптимальное) сочетание обеспечивает психологическое равновесие и личности, и общества. Их соприсутствие осознавалось и на ранних этапах становления европейской культуры, гротескно воплощаясь в двух ритуальных фигурах: протагониста и антагониста (первый намеренно умаляет себя, второй, напротив, возвеличивает). Позже олицетворением двух начал стали гистрио-ны и агеласты (первые представляли неофициальную, "народную" культуру, вторые - официальную). Традиция придавать зрелищность противопоставлению двух начал в человеческом поведении (в том числе речевом) сохранилась и по сей день (ср. белый и рыжий клоуны, два типа исполнителей-комиков в американской культуре, условно названные "here and now" и "there and then"[Pollio and Edgerly 1996: 239]). По этому же основанию можно разделить ранее упомянутые речевые маски: с одной стороны, лиминальные (см. с. 318), представляющие "людей на пороге" (авантюристы, коммивояжеры, бедные художники, иностранцы, изгнанники и т.п.), с другой - маски "неаутентичности", представляющие (и высмеивающие) людей "структуры" или тех, кто хочет занять в ней место (неофиты и палеофиты, выскочки, парвеню, охотники за титулами, нувориши, "мещане во дворянстве" и т.п.) [Davis 1993: 265]. Ранее отмечалось, что большинство лиминарных масок создаются путем канонизации низших форм и стилей. Этим как бы подчеркивается "аутентичность" изображаемых персонажей, которые не могут, не хотят или не считают нужным контролировать свою речь и "производить впечатление", поскольку им нечего скрывать. Напротив, маски агеластов создаются утрированием "суперстандартных" форм, слишком правильных, но непопулярных, "непрестижных" и вызывающих резкое неприятие [Preston 2003: 162] (чрезмерно артикулируемые звуки, "ученые слова", "тяжелый" синтаксис, формальный, официозный стиль общения, т.е. все то, что требует от говорящего тщательного контроля). "Народное", дуально устроенное сознание квалифицирует подобное (речевое) поведение как неаутентичное (или неискреннее): если говорящий постоянно следит за собой, ему, скорее всего, есть что скрывать59. "Агеластическую" речь пародировать сложнее, неслучайно такие пародии обычно заучиваются. Трудно, например, предположить, что ссорящиеся девочки 10-11 лет могут без усилий и предварительной подготовки произнести тираду типа:
"Are you insinuating that I am tolerating such a diabolical insolence from a little piece of animosity such as you? If so, I presume that your presumptions are precisely incorrect and your diabolical system is insufficient to comprehend my meaning ... etc." [Opie and Opie 1959: 66].
Говоря о двух типах речевых масок, нельзя не заметить царящую здесь асимметрию: явное предпочтение отдается гистрионическим маскам (или маскам "языковой наивности"). Агеластические (или самовозвеличивающие) маски "примеряются" значительно реже. Этим подтверждается антропологический тезис о том, что сарказм якобы обладает силой, но не имеет популярности, шутовство же, напротив, бессильно (и регрессивно), но любимо и популярно [Chapman 1977: 296]. Сам факт асимметрии масок (с преобладанием гистрионических) можно считать косвенным признанием достоинств парате-лического, "самоценного" (лиминарного) поведения, в котором выражается стремление людей "стихийно причаститься к миру отдаленных (т.е. неутили тарных - прим. И.К.) целей" [Сепир 1993: 479] и познать "неусловный смысл" вещей.
Особенность игры, как и других видов парателической деятельности, состоит в том, что "смысл" ее до конца не осознается и не может быть прямо сформулирован ее участниками. Любые попытки сделать это оказываются фатальными для игры, так как лишают ее непринужденности и эйфории. Когда в "светлое поле сознания" попадает то, что находится на грани его или за гранью, действие (речь) прерывается или становится неестественным (Self-consciousness makes an actor stumble [Turner 1974: 87]). Экспериментально доказано, что любая социально приемлемая игра (игра положительного статуса) "полезна" - прежде всего потому, что "расширяет сознание" и адаптирует игроков к новым возможным ситуациям. Но, даже зная это, было бы странным ставить перед собой такую цель (It s dangerous to act directly ...: "Well, I d better play now so I can be more flexible and learn faster". ... It s good to develop flexibility, but we like fun [Miller 1974: 37]).