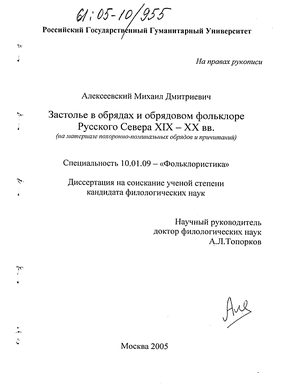Содержание к диссертации
Введение
Застолье в похоронно-поминальнои обрядности русского севера 21
1.1 Типология похоронно-поминальных трапез 21
1.2 Участники похоронно-поминальных трапез 36
1.3 Покойник как участник трапезы 42
1.4 Пищевой код поминального застолья 49
1.5 Застольный этикет поминальной трапезы: символика правил и запретов 56
Похоронно-поминальные причитания: проблемы текстологии, семантика, прагматика 61
2.1 Севернорусские похоронно-поминальные причитания как жанр обрядового фольклора 61
2.2 История собирания и проблемы текстологии 69
2.3 Прагматика похоронных и поминальных причитаний 74
Мотивы, связанные с пищей и застольем, в севернорусских похоронных причитаниях 80
3.1 Принципы описания трапез в похоронных причитаниях 81
3.2 Угощение Смерти 85
3.3 Похороны/Праздник 89
3.4 Кормление покойника 95
3.5 Угощение гробовщиков 100
Мотивы, связанные с пищей и застольем, в севернорусских поминальных причитаниях 103
4.1 Мотив гощения на кладбище :. 104
4.2 Мотив оживления покойника: история вопроса 111
4.3 Мотив оживления покойника: коммуникативный аспект .^115
4.4 Мотив оживления покойника: гостевание и угощение 119
4.5 Мотив оживления покойника: этнографический контекст 127
4.6 Мотив оживления покойника: обрядовая баня и пограничный статус умершего 130
4.7 Мотив оживления покойника: «поэтика двойственности» 132
4.8 Мотив оживления покойника: свадьба/похороны 142
Заключение 151
Источники 153
Научная литература 166
- Типология похоронно-поминальных трапез
- Севернорусские похоронно-поминальные причитания как жанр обрядового фольклора
- Принципы описания трапез в похоронных причитаниях
- Мотив гощения на кладбище
Введение к работе
В символическом мире народной культуры застолье играет чрезвычайно важную роль, ритуальными трапезами сопровождаются практически все основные календарные и семейные обряды. Изучение обрядовых трапез помогает выявить семантику и прагматику важнейших обрядов жизненного цикла, традиционных и современных праздников. Универсальный характер феномена застолья позволяет проводить культурно-исторические и кросскультурные исследования, дает возможность применения междисциплинарного подхода в рамках фольклористики, этнографии, социологии, психологии, этнолингвистики. Именно поэтому обрядовое застолье было выбрано нами в качестве исходного пункта при изучении проблемы связей фольклорного текста и этнографической действительности. В отечественной науке эта проблема была впервые поставлена еще в середине XIX века, и к настоящему моменту сложилось два основных подхода к ее решению.
В рамках первого подхода фольклорный текст рассматривается как отражение исторических и этнографических реалий. Подразумевается, что этнографический факт первичен, а фольклор вторичен, поэтому его можно использовать как этнографический и исторический источник.
Подобный подход характерен для представителей исторической школы русской фольклористики (Л.Н.Майков, В.Ф.Миллер, А.В.Марков). Основным объектом изучения для них были былины, которые рассматривались как своего рода «устные летописи», отражающие реальные исторические факты. Сравнивая тексты былин с летописными источниками, представители исторической школы пытались определить время и место возникновения этого жанра, а также «очистить» былины от поздних «напластований» и «искажений», которые, по их мнению, возникали при устной передаче текста [Майков 1863; Миллер 1897; Марков 1904]. Исследователей не интересовали поэтические особенности былин, они использовали эти тексты как особый тип
4 исторических источников, которые требуют специального текстологического подхода.
Отношение к фольклору как к отражению исторической действительности унаследовала и советская наука [Чичеров 1960: 7-21]. Наиболее активно этой концепцией пользовались исследователи русского эпоса: Б.А.Рыбаков и его последователи задействовали тексты былин для реконструкции древнейшей истории славян [Рыбаков 1961; Рыбаков 1965], а Р.С.Липец изучала «отражение в былинах жизни и культуры Древней Руси» [Липец 1969: 5] и, сопоставляя былинные описания богатырей с археологическими данными, пыталась установить время возникновения этого жанра [Липец, Рабинович 1960: 30-43]. В 1960-70-ые годы регулярно выходили сборники «Фольклор и историческая действительность», где авторы, рассматривая фольклорные произведения как историко-этнографический источник, рассматривали проблемы историзма таких жанров, как предания, загадки, частушки, обрядовая поэзия.
К настоящему времени подобный подход полностью себя дискредитировал. Доказано, что хотя фольклор инклюзивен [Путилов 2003: 73-74] (то есть, включен в систему жизнедеятельности этноса), фольклорные тексты не являются прямым отражением действительности, а функционируют по своим законам. Справедливости ради следует отметить, что и в годы, когда концепция историзма фольклора была популярна, многие ученые отмечали, что «при обращении к фольклору как этнографическому и историческому источнику, необходимо считаться с его художественной спецификой, с характерными приемами народной поэтики» [Соколова 1960: 15]. Однако, несмотря на эти оговорки, подразумевалось, что историческая действительность первична, а фольклор вторичен по отношению к ней, он «отражает» или «преломляет» ее.
В конце 1960-ых - начале 1970-ых годов в отечественной науке начал вырабатываться принципиально иной подход к проблеме. Прежде всего, была переформулирована сама постановка вопроса: теперь исследователей
5 интересовала связь фольклора не с «исторической», а с «этнографической действительностью». В мае 1968 года была организована первая конференция под названием «Фольклор и этнография», через два года был издан сборник с ее материалами. В дальнейшем конференции и сборники с этим названием проводились и выходили регулярно до середины 1980-ых.
Основной предпосылкой для развития этого научного направления была необходимость консолидировать усилия этнографов и фольклористов, которые, по сути, занимались сходной проблематикой, но часто плохо представляли приемы и достижения своих коллег. С другой стороны, нужно было выработать методологию использования фольклора в этнографических исследованиях с учетом его специфики.
В центре внимания оказалась обрядовая культура, при изучении которой сферы интересов фольклористов и этнографов пересекались в наибольшей степени. Важную роль в исследованиях, посвященных этой теме, сыграли структурно-семиотические методы анализа культуры, которые получили популярность в 1970-80-ые годы. Согласно предложенному подходу, любой обряд можно представить как многоуровневый «культурный текст, включающий в себя элементы, принадлежащие разным кодам» [Толстой, Толстая 1995: 167]. Выделяются такие виды кодов, как акциональный, предметный, вербальный, персональный, локативный (пространственный), темпоральный, музыкальный и т.д. Коды обряда соотносимы друг с другом, так как имеют общую функциональную направленность, но в то же время они несводимы друг к другу. Соответственно, для того чтобы определить общую семантику обряда, все его коды необходимо изучать в совокупности, учитывая, однако, специфику каждого кода.
В таком случае произведения обрядового фольклора должны рассматриваться как вербальный код обрядового текста. При подобном подходе автоматически снимается вопрос о том, что первично: обрядовый фольклор или этнографическая действительность. Как отмечали в 1980 году на конференции «Фольклор и этнография» А.К.Байбурин и Г.А.Левинтон, «в
6 традиционной культуре все то, что привычно относится к «этнографической действительности» (ритуалы, этикет, вещи технологии) столь же семиотично, как и фольклор» [Байбурин, Левинтон 1984: 230].
Использование структурно-семиотической методологии позволило существенно продвинуться в изучении обрядовой культуры. Появился ряд работ, в которых проводилось комплексное изучение вербальных и невербальных кодов некоторых календарных и семейных обрядов. Так, В.П.Кузнецова исследовала семантику севернорусских причитаний в их связи с невербальными кодами свадебного ритуала [Кузнецова 1993]. Т.А.Агапкина подробно рассматривала этнографические связи календарных песен [Агапкина 2000; Агапкина, Топорков 1986], Т.А.Берштам и В.И.Лапин изучали севернорусские виноградья в контексте их бытования в составе святочной обрядности [Бернштам, Лапин 1981]. Особое внимание исследователей привлекли малые формы обрядового фольклора (благопожелания [Агапкина, Виноградова 1994], ритуальные приглашения на рождественский ужин [Виноградова, Толстая 1993; Виноградова, Толстая 1995]), которые никак нельзя рассматривать в отрыве от самого обряда.
Однако, как отмечал Б.Н.Путилов, «мысль о том, что обряд никогда не может быть понят без изучений всей совокупности элементов, его составляющих, в том числе и элемента вербального, а соответствующий фольклор без самого тщательного выяснения его обрядовых связей остается terra incognita, все еще не получила безусловного признания и внедрения в исследовательскую практику» [Путилов 2003: 95].
Это объясняется тем, что в отечественной науке вербальные и невербальные коды обряда долгое время изучались представителями различных научных дисциплин. Этнографы описывали и изучали обрядовые действия, зачастую не обращая должного внимания на вербальную составляющую ритуала, а фольклористы рассматривали обрядовые тексты как «устное народное творчество», и, пользуясь для анализа литературоведческими методами, фактически игнорировали этнографический контекст.
Неудовлетворенность подобной ситуацией побудила нас предпринять комплексный анализ вербальных и невербальных кодов похоронно-поминального обряда. Выбор именно этого предмета для изучения обусловлен несколькими причинами. С одной стороны, похоронно-поминальный ритуал, играющий исключительно важную роль в славянской народной культуре, отличается особой стабильностью. Даже в последнее время, когда наблюдается стремительное разрушение традиционной обрядности, похоронные обряды сохраняют многие архаичные элементы, связанные с устойчивыми представлениями о смерти и загробной жизни. С другой стороны, именно в изучении данного фрагмента народной культуры в наибольшей степени выявилось размежевание между фольклористами и этнографами. Похоронно-поминальный ритуал давно привлек внимание исследователей, однако сами обряды и причитания, сопровождавшие их, изучались отдельно друг от друга. В работах по похоронной обрядности редко использовались причитания. В свою очередь ученые, изучавшие причитания, почти не привлекали в своих исследованиях этнографический материал.
В качестве основного предмета рассмотрения нами было выбрано обрядовое застолье: анализируя мотивы севернорусских похоронно-поминальных причитаний, связанные с едой и застольем, мы рассматриваем их в сравнении с трапезами, сопровождавшими похоронно-поминальные ритуалы, что дает возможность определить характер связей между вербальными и невербальными кодами обряда.
Несмотря на интерес отечественных исследователей к традиционному застолью, похоронно-поминальные трапезы до сих пор еще не становились предметом специального рассмотрения. Между тем, очевидно, что по многим параметрам (обрядовая пища, состав участников, пространственная и временная организация, особые этикетные формы) эти трапезы сильно отличаются от всех остальных и представляют особый интерес для изучения. То же самое можно сказать и о мотивах, связанных с пищей, которые встречаются в похоронно-поминальных причитаниях. Комплексное
исследование этой проблематики представляет двойной интерес: с одной стороны, оно позволяет определить семантику и функцию застолья в похоронно-поминальном ритуале, с другой стороны, проясняет этнографические связи обрядового фольклора.
Таким образом, основной целью исследования является сопоставительный анализ ритуальных функций застолья и пищи с мотивами, связанными с застольем и пищей в похоронно-поминальных причитаниях.
В соответствии с этой целью нами были поставлены следующие задачи:
1. Классифицировать типы севернорусских похоронно-поминальных
трапез, выявить их временную и пространственную организацию, семантику и
прагматику, проанализировать основные принципы этикетной регламентации
подобных трапез, а также их пищевой код.
Выделить в похоронно-поминальных причитаниях Русского Севера основные мотивы, связанные с едой и застольем, и определить их семантику в контексте связей с невербальными кодами обряда.
Рассмотреть характер связей вербальных и невербальных кодов похоронно-поминального ритуала в свете его общей функциональной направленности.
Основной методологической установкой исследования является понимание ритуала как сложного многоуровневого текста, полноценный анализ которого возможен только при комплексном изучении его основных кодов. При этом произведения обрядового фольклора рассматриваются как вербальный код обрядового текста, органично связанный с его невербальными кодами (пространственным, акциональным, предметным и др.). Анализ различных кодов обряда производится с помощью структурно-семиотического метода, разработанного в трудах Ю.М.Лотмана, А.К.Байбурина, Н.И.Толстого, О.А.Седаковой. Этот метод позволяет выделить ключевые представления, определяющие семантику и прагматику ритуала. Для рассмотрения динамики развития различных мотивов и других элементов обрядового текста используется сравнительно-исторический метод исследования.
В качестве материала для исследования нами выбраны севернорусские похоронно-поминальные обряды и причитания. Русским Севером мы называем «территорию, на которой распространен комплекс севернорусской традиционной бытовой культуры, по своей географической конфигурации весьма сходную с зоной севернорусских диалектов» [Фольклор и этнография Русского Севера 1973: 3-4]. На востоке Русский Север граничит с районом расселения коми, на западе - с районом расселения карелов, а его южная граница проходит по водоразделу Волга - Северная Двина. В административном отношении на Русском Севере располагаются Архангельская, Вологодская, Мурманская области, юго-восточная часть республики Карелия, юго-западная часть республики Коми, а также части прилегающих к Северу территорий Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Русский Север -устойчивая этнокультурная зона, чье единство объясняется как особенностями заселения, так и единством исторического и социально-экономического развития в течение длительного времени, особенно начиная с XVI века.
В нашем исследовании наибольшее внимание уделяется материалам, собранным в центральной части Русского Севера (юго-восток Карелии, юг Архангельской и север Вологодской областей), так как традиционная культура этой территории наиболее более полно отражена в имеющихся записях (особенно это касается причитаний). Однако, как отмечали Т.А.Бернштам и К.В.Чистов, нельзя «ограничивать понятие «Русский Север» пределами быв. Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерней», необходимо учитывать и южную «окраину» севернорусского региона [Бернштам, Чистов 1992: 4]. Поэтому мы будем по возможности использовать и материалы из других районов Русского Севера (главным образом, из северных районов Ярославской, Тверской и Костромской областей).
В работе используются следующие источники: 1. Дореволюционные этнографические описания похоронно-поминальных обрядов Русского Севера, опубликованные как в научных изданиях
10 (Этнографические сборники Русского Географического общества, Труды этнографического отделения Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете) и журналах («Живая старина», «Этнографическое обозрение», «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера»), так и в провинциальных изданиях и газетах (губернские сборники, губернские ведомости); изданные материалы этнографических экспедиций, которые проводились на территории Русского Севера в советское и постсоветское время.
Опубликованные собрания текстов севернорусских похоронно-поминальных причитаний, записанные в XIX - XX веках, всего около 650 текстов. Примерно 60% из них были собраны на территории современной республики Карелия («олонецкая причетная традиция»), 30% - на территории Вологодской области, оставшаяся часть - в других районах Русского Севера и на территории, к нему примыкающей. Приблизительно 65% текстов были записаны в советское время, остальные - до 1917 г.
Неопубликованные материалы Архива Карельского Научного Центра РАН (этнографические описания и причитания (около 70 текстов), записанные в 1930-1980-х годах на территории русских районов Карелии), неизданные материалы Фольклорного архива Сыктывкарского государственного университета (похоронно-поминальные причитания (около 40 текстов), записанные в 1986-1990 гг. в Усть-Цилемском районе Республики Коми), а также этнографические и фольклорные материалы экспедиций рубежа XX и XXI вв. (экспедиция лаборатории фольклора РГГУ в Каргопольский район Архангельской области и экспедиция Центра исторической антропологии им. Марка Блока РГГУ в Пудожский район Карелии), в том числе записи автора, сделанные в ходе специальных полевых исследований по теме диссертации.
Особое внимание будет уделяться именно полевым материалам. Несмотря на то, что живая традиция причитаний на протяжение XX века
разрушалась, поздние записи произведений этого жанра представляют особую ценность для исследователей. Дело в том, что долгое время собиратели причитаний записывали только тексты причитаний, не фиксируя контекст их бытования, комментарии исполнителей и т.д. В современных экспедициях вся эта «побочная» информация, как правило, фиксируется собирателем и зачастую оказывается более значимой для выявления этнографических связей причитания, чем сам текст.
Широкое использование экспедиционных записей оправдано и при изучении похоронно-поминальных обрядов, которые, как уже было сказано, отличаются особой устойчивостью. Сравнение фиксаций современного состояния этого ритуала с этнографическими описаниями XIX века показывает, что в основе своей он хорошо сохранился, как сохранились и до сих пор являются актуальными для народной культуры традиционные представления о смерти и загробном мире.
Застолье как особый этнокультурный феномен в последнее время все больше привлекает исследователей разных специальностей: этнографов, историков, социологов, психологов, этнолингвистов1. На настоящий момент в отечественной науке существует несколько подходов к его изучению. Этнографы, как правило, ставят задачу описать и классифицировать традиционные трапезы [Клепиков 1920; Маслова 1960; Артюх 1982; Воронина 1992; Шмелева 1995; Григулевич 1996]. Особое внимание уделяется праздничным и обрядовым застольям [Громыко 1988; Зорин 1993; Макашина 1999; Тульцева 1998], для которых характерен особый набор пищи и напитков [Дурасов 1986; Воронина 2002; Андреева 2004], а также трапезам во время поста [Воронина 1998; Воронина 2002]. Среди последних этнографических исследований по этой теме выделяются материалы сборников «Традиционная
1 Об опыте междисциплинарного изучения этого предмета см. [Морозов 2000].
пища как выражение этнического самосознания» (2001) [Арутюнов 2001; Воронина 2001 и др.] и «Хлеб в народной культуре» (2004) [Воронина 2004; Чагин 2004 и др.]. В целом, для работ данного направления характерна описательность, авторы фиксируют различные виды трапез и отмечают их особенности, но им редко удается проанализировать и объяснить их.
Другое направление ставит своей целью исследование семантики и символики пищи, анализ кулинарного кода обрядов [Байбурин 1992; Агапкина 1997]. Многие виды пищи и напитков в народной культуре имеют ярко выраженную символику [Лаврентьева 1990; Валенцова 2002], которая определяет их использование в разных видах обрядового застолья. Особенно значимыми для ритуала являются такие продукты, как хлеб [Сумцов 1996; Страхов 1991; Лаврентьева 1990; Седакова 1994], соль [Лаврентьева 1992], спиртные напитки [Невзоров 1916; Баранов 1996; Топорков 1997]. В традиционной культуре символизируется не только пища, но и процесс ее приготовления и употребления. Интерес для исследователей представляет пространственная и временная организация трапез [Морозов 2002], половозрастное распределение участников [Бернштам 1985] и т.д. Теме «Пища и напитки в славянской народной традиции» посвящены специальные номера журналов «Кодови словенских култура» (1997, бр. 2) и «Традиционная культура» (2002, № 2).
Еще одним направлением является исследование застольного этикета [Топорков 1985; Байбурин 1988; Топорков 1991; Никишенков 1999]. Традиционно слово «этикет» понимается как «совокупность правил поведения» или даже как «набор предписаний «приличного» поведения», однако еще в 1965 году была предложено альтернативное определение этикета как «правил ритуализованного поведения человека в обществе» [Цивьян 1965: 144]. А.К.Байбурин и А.Л.Топорков в монографии «У истоков этикета» определяют предмет своего исследования как «совокупность специальных приемов и черт поведения, с помощью которых происходит выявление, поддержание и обыгрывание коммуникативных статусов партнеров по общению» [Байбурин,
13 Топорков 1990: 5]. Анализ этикета как системы позволяет разделить бытовые этикетные сюжеты и поведенческие тексты, представляющие развернутый диалог между участниками этикетной ситуации. Застолье авторы относят к бытовым этикетным сюжетам и рассматривают застольный этикет как переходную форму между бытовым поведением и ритуалом.
Исследованием трапез и пиров занимаются также специалисты по исторической антропологии. В 1998 году в Москве прошел круглый стол по проблеме «Социальность, рожденная за пиршественным столом», по материалам которого был выпущен сборник «Одиссей. Человек в истории». В рамках этого подхода наибольшее внимание уделяется социальным аспектам трапез, которые рассматриваются, в первую очередь, как «средство социального общения». Как отмечал А.Я.Гуревич, в средневековой западноевропейской культуре пир «утверждал систему социальных связей и питал самосознание его участников» [Гуревич 1999: 12]. Такая функция застолья характерна для разных эпох: от престольных праздников на Русском Севере в XVII веке [Швейковская 1999] до обедов в советских столовых «закрытого типа» для партийной элиты [Кондратьева 1999].
Наконец, тема еды и застолья затрагивается в ряде лингвистических работ. Наибольшее внимание лингвистов привлекает система наименований пищи и напитков в различных диалектах [Вешторг 1968; Лутвинова 1970; Фелицына 1982; Липовская 1985; Лутвинова 1997; Карасева 1999], названия обрядовой пищи [Гура 1977; Занозина 1994; Лутвинова 1994; Ларина 1995; Дмитриева 2000], которые рассматриваются в контексте значения самого обряда. В последнее время появилось несколько работ, где рассматриваются устойчивые стереотипы, касающиеся еды, которые отражаются в повседневной разговорной речи [Китайгородская, Розанова 2003; Занадворова 2003].
В западной науке изучение застолья и его роли в социокультурной жизни имеет давние традиции. В 1910 году немецкий социолог и философ Георг Зиммель опубликовал статью «Социология трапезы». Рассматривая использование пищи в религиозных ритуалах разных эпох, он особо выделял
14 объединяющую роль трапезы в обществе, рассматривал ее как средство социализации индивидуума в коллективе [Simmel 1994: 345-350]. Генезису застольного этикета как отражению процесса формирования современной европейской цивилизации посвящен первый том книги немецкого социолога Норберта Элиаса «О природе цивилизации» (1939) [Элиас 2001]. Однако, как отмечают авторы монографии «Социология пищи» (1992), «долгое время изучение пищи и трапез не привлекало особого внимания исследователей» [Mennell, Murcott 1992: 5].
Ситуация изменилась в 1970-ые годы, когда на Западе возникла новая научная дисциплина - антропология пищи (anthropology of food) [Mennell, Murcott 1992: 28]. В это время создается несколько исследовательских центров , которые занимаются междисциплинарным изучением роли пищи и трапез в жизни общества, проводят конференции и выпускают научные сборники [Gastronomy 1975; Food in perspective 1981; Food in change 1986]. Особо нужно выделить сборник «Общение за столом: сотрапезничество и застолье в течение веков» (Руан, 1992) [La Sociabilite a table 1992], в котором подробно рассматривается роль трапез как форм социального общения.
Существует несколько западных работ, посвященных роли пищи в русской культуре. В первую очередь следует назвать монографию Р.Смита и Д.Кристиана «Хлеб да соль» (1984) [Smith, Christian 1984], которая посвящена социально-экономическим аспектам питания русских крестьян. Кроме того, можно выделить сборник «Пища в русской истории и культуре» [Food in Russian History and Culture 1997], где опубликованы статьи, посвященные самому широкому кругу вопросов: от роли пищи в Древней Руси до истории зарождения советской кулинарии. Особое внимание западных исследователей привлекало русское пьянство [Christian 1990; Herlihy 1991: 133-147].
2 Например, The Ethnological Food Research Group (1970), The International Commission on the Anthropology of Food (1977) и др.
Серьезное изучение похоронно-поминальных обрядов в отечественной науке началось в середине XIX века Исследователи, относящиеся к мифологической школе в фольклористике, в первую очередь стремились реконструировать дохристианские представления славян о смерти и загробной жизни [Афанасьев 1861: 1-26; Котляревский 1868; Анучин 1890]. Для этого они старались вычленить наиболее архаичные элементы в позднейших фиксациях ритуала и сопоставить их с немногочисленными историческими свидетельствами о древнерусских обрядах.
Своеобразный ретроспективный метод изучения обрядовой культуры предложил Д.К.Зеленин, который считал, что, тщательно изучая позднейшие записи, необходимо медленно двигаться вглубь истории. Пользуясь своим методом ретроспекции, Зеленин смог раскрыть противопоставление двух видов смерти («своей»-«не-своей») и связанные с этим народные представления [Зеленин 1995].
Из работ советских ученых необходимо выделить сборник «Исследования в области балто-славянской культуры. Погребальный обряд» (1990), в котором была произведена попытка комплексного исследования этого сегмента традиционной культуры. В сборник вошли не только этнографические исследования похоронно-поминальных обрядов, но и работы археологов, где предпринималась попытка реконструировать древние формы балто-славянского погребального ритуала.
Ценные материалы по похоронно-поминальным обрядам разных локальных традиций обобщили и ввели в оборот такие исследователи, как Г.С.Виноградов [Виноградов 1923], И.А.Кремлева [Кремлева 1993; Кремлева 1989; Кремлева 2004], Т.А.Листова [Листова 1993], Г.А.Носова [Носова 1993], К.К.Логинов [Логинов 1993], И.О.Разова [Разова 1994] и др. Отдельные работы посвящены обрядовым приготовлениям к смерти [Прокофьева 1999], народным представлениям о душе [Стишева 1995; Виноградова 1999; Толстая 2000], быличкам о визитах покойника с того света [Бобылева, Миргородская 2000; Власова 2001; Кормина, Штырков 2001], народным способам избавиться от
16 страха перед умершим [Байбурин 2001], соотношению крестьянских похоронных обрядов и православного канона погребения [Бернштам 2000; Бондарькова 2000].
В ряде работ похоронно-поминальный ритуал анализируется в рамках структурно-семиотического подхода: рассматривается его предметный код [Плотникова 1997], пространственная организация [Седакова 1981], выявляются его связи с родинным [Толстая 1990] и свадебным [Байбурин, Левинтон 1990] ритуалами. Среди этих исследований выделяется монография О.А.Седаковой «Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян». Рассматривая обряд «как невербальный текст особого типа», автор выделяет в нем содержательный план (актуальные для обряда представления о жизни, смерти, душе), акциональный план (обрядовые действия), агентный план (исполнители обрядовых актов), предметный план (набор предметов, которыми оперирует обряд) и план терминологии (лексика, связанная с называнием элементов обрядового текста) [Седакова 2004: 29-30]. Легко заметить, что О.А.Седакова, писавшая свою работу в начале 1980-ых годов, называет «планами» то, что исследователи позднее будут называть «кодами обряда».
Очень тщательно и подробно анализируя невербальные коды похоронно-поминального ритуала (акциональный, персональный, предметный, пространственный), О.А.Седакова, на наш взгляд, недостаточно внимания уделяет вербальному коду: тексты причитаний и магических приговоров, сопровождающих обряд, ею не рассматриваются, подробно анализируется только обрядовая терминология. Однако, несмотря на это, на данный момент эта работа является наиболее полным и значимым исследованием восточнославянского похоронно-поминального ритуала.
Начало научному изучению русских похоронно-поминальных причитаний положил Е.В.Барсов, который в 1872 году во введении к первому тому своих «Причитаний Северного края» предложил несколько подходов к
изучению этого жанра. Во-первых, он поставил вопрос о генезисе причетной традиции, сравнив севернорусские причитания XIX века с отрывками плачей, которые сохранились в древнерусской литературе [Введение Е.В.Барсова 1997: 7-10]. Во-вторых, он высказал мнение, что в причитаниях «отражаются следы верований разных доисторических эпох относительно духовного бытия, смерти и посмертного существования» [Введение Е.В.Барсова 1997: 11], которые могут быть вычленены и реконструированы исследователем. Наконец, Барсов предлагал использовать тексты плачей как этнографический источник, пользуясь тем, что они «рисуют перед нами картину внутренней жизни народа и знакомят нас с его занятиями, нравами, обычаями» [Введение Е.В.Барсова 1997: 17]. Из многочисленных откликов на сборник Барсова особого внимания заслуживает рецензия А.Н.Веселовского; опубликованная впервые на немецком языке, она только недавно увидела свет в переводе на русский язык [Веселовский 2002].
В дореволюционной фольклористике наибольшее развитие получил второй подход. Причитания чаще всего рассматривались как источник для реконструкции языческих верований древних славян, как, например, в работах Н.Покровского [Покровский 1872], Н.Баталина [Баталии 1873], Я.Генерозова [Генерозов 1883], С.Брайловского [Брайловский 1885]. Авторами подразумевалось, что причитания как древнейший вид народной поэзии хранят в себе «следы самого грубого язычества», которые можно выявить, убрав наслоения позднейших эпох, особенно те, что связаны с христианством. В целом подобные работы в духе мифологической школы отличались наивностью авторского подхода и часто сводились к пересказу отрывков плачей из сборника Барсова. Этнографические источники по похоронно-поминальным обрядам в этих исследованиях практически не использовались.
В советской фольклористике причитания, как правило, рассматривались в филологическом ключе. Исключение составляла новаторская для своего времени работа В.И.Смирнова «Народные похороны и причитания в Костромском крае» (1920), где производилась попытка комплексного изучения
локальной традиции похоронно-поминальных причитаний с учетом их этнографического контекста [Смирнов 1920.].
Наибольшее внимание фольклористов привлекали особенности поэтической организации произведений этого жанра. В этом аспекте рассматривали причитания такие исследователи, как В.Г.Базанов [Базанов 1943; Базанов 1947], Т.И.Орнатская [Орнатская 1969], Н.М.Герасимова [Герасимова 1998]. Особый интерес исследователей вызвали такие аспекты изучения причитаний, как их жанровые [Колпакова 1967; Анкудинова 1985; Киселева 1989] и композиционные особенности [Васильев 1971; Arant 1972], символика некоторых устойчивых поэтических образов [Фишков 1976], специфика вариативности текста [Харитонова 1986], вопросы генезиса этого жанра [Бернштам 1979; Чистов 1982]. Отдельную дискуссию вызвал вопрос о функции причитаний в традиционной культуре [Базанов 1964; Еремина 1981; Харитонова 1983; Чистов 1994; Толстая 1999]. В последнее время наметилась новая тенденция в изучении причитаний, исследователи все чаще рассматривают их в контексте социальных связей (Д.Буркхардт [Буркхарт 1991], К.К.Ольсон [Olson 2001], С.Б.Адоньева [Адоньева 2004: 194-239]).
Некоторые исследователи предпринимали попытку реконструкции традиционных представлений о смерти и загробной жизни, отраженных в причитании [Чистяков 1982; Данченкова 1993]. В этом отношении особое методологическое значение имеют статьи А.К.Баибурина и О.О.Микитенко, где исследуется характер отношений между текстом причитания и обрядовым контекстом. А.К.Байбурин рассматривает причитания как своего рода «запись» ритуала [Байбурин 1985: 66], а О.О.Микитенко пишет о «многократном дублировании смысла» похоронно-поминального обряда, которое обеспечивается посредством перекодировки его содержания в различных кодах, в том числе и в вербальном, которое представляют причитания [Микитенко 1989: 56].
Среди работ, посвященных поэтике причитаний, следует выделить монографию Л.Г.Невской «Балто-славянское причитание: реконструкция
19 семантической структуры» (1993). В этой работе используются структурно-семиотические методы анализа ритуального текста, а причитания понимаются «как вербальный код обряда, изосемантичный смыслу обряда в целом и составляющий единую парадигму с другими кодами: ритуальных действий, предметов, действующих лиц и др.» [Невская 1993: 3]. К сожалению, в самом исследовании невербальные коды обряда не рассматриваются вовсе. Л.Г.Невская анализирует пространственный код причитания, семантику номинативно-атрибутивных и предикативных конструкций в нем, особенности поэтической организации текста, но при этом не учитывает обрядовый контекст данного жанра, не выходя за рамки филологического анализа. Впрочем, это объясняется заявленной целью автора, которая состоит «в выявлении схождений в текстах разных культурных традиций (восточнославянской и литовской) с презумпцией о ранее едином тексте, ныне функционирующем в разных языковых воплощениях» [Невская 1993: 3].
Помимо поэтической организации причитаний, фольклористов интересовала проблема исполнителя, которая впервые была поставлена М.К.Азадовским [Азадовский 1922: 32]. Наиболее активно этой проблемой занимался К.В.Чистов, посвятивший две монографии самой знаменитой русской вопленице Ирине Федосовой [Чистов 1955; Чистов 1988]. Свою классификацию типов исполнителей причитаний в зависимости от способов трансляции и усвоения традиции предложила В.И.Харитонова [Харитонова 1987].
В качестве отдельного направления можно выделить этномузыковедческое изучение причитаний. Большинство музыковедов, анализирующих мелодику и напевы похоронной причети, мало внимания уделяют содержанию плачей и их обрядовому контексту [Земцовский 1987; Марченко 1991; Резниченко 1992; Кастров 1996; Краснопольская 1997]. Исключение составляют публикация причитаний Вологодской области, подготовленная Б.Б.Ефименковой [Ефименкова 1980], сборник смоленских похоронных плачей и поминальных стихов [Смоленский музыкально-
20 этнографический сборник 2003], подготовленный Российской Академией музыки им. Гнесиных, и диссертационное исследование Н.Ю.Данченковой, посвященное причетной традиции Владимирской области [Данченкова 1997]. Во всех этих работах этномузыковедческии подход сочетается с филологическим и этнографическим. Следует также отметить, что музыковедческое изучение русских причитаний сильно развито в западной науке [Mazo 1994; Mazo, Erickson, Harvey 1995; Meyer, Palmer, Mazo 1998].
Подводя итог, можно сказать, что хотя и похоронно-поминальному ритуалу, и причитаниям посвящено значительное число научных работ, многие проблемы до сих пор остались нерешенными. Прежде всего, до сих пор плохо изучена внетекстовые связи причитаний и их роль в похоронно-поминальном ритуале. Большинство исследователей либо рассматривает причитания в отрыве от самого обряда, либо использует этнографические материалы в явно недостаточном объеме. Между тем, очевидно, что если рассматривать плачи как вербальный код ритуала, необходимо учитывать их связи с его невербальными кодами. Анализируя похоронно-поминальный обряд, мы можем не учитывать причитания, как это сделала в своей монографии О.А.Седакова, однако полноценное изучение причетной традиции невозможно без учета ее обрядового контекста. К сожалению, этот довольно очевидный тезис еще необходимо доказывать применительно к русским причитаниям. Между тем, специалисты по карельским плачам пришли к подобному выводу еще в 1960-ые годы [Honko 1963: 113]. В целом, следует признать, что с точки зрения методологии исследователи карельских причитаний продвинулись дальше, чем ученые, изучавшие русскую причетную традицию. Поэтому, хотя нами не ставится задача комплексного анализа карельских причитаний, мы будем использовать некоторые работы по семейным обрядам [Сурхаско 1985] и обрядовому фольклору [Степанова 1985; Конкка 1992; Степанова 2003] карел.
Типология похоронно-поминальных трапез
Трапезы встречаются практически на всех этапах похоронно-поминального ритуала и играют важную роль в его общей структуре. Большое застолье сразу после погребения завершает похоронный обряд, а в поминальных обрядах трапеза является одним из наиболее значимых элементов.
Об особой важности трапез в похоронно-поминальных обрядах свидетельствует их примечательная устойчивость. Если свадебные пиры за последнее столетие значительно трансформировались [Жекулина 1982; Жирнова 1980; Матлин 2003], то поминальные застолья с XIX века практически не изменились. И в городе, и в деревне в наши дни ритуальная трапеза после похорон обязательна [Шевченко 2003: 402-405], а в крупных городах в годовые поминальные дни власти даже организуют специальные автобусные маршруты к крупнейшим кладбищам, чтобы все желающие смогли съездить «помянуть» умерших родственников.
Кажется, что классифицировать поминальные трапезы просто, достаточно лишь проследить, на каких этапах похоронно-поминального ритуала они возникают, и по этому признаку провести классификацию. Однако, если следовать этим путем, можно запутаться. Так, например, непонятно, следует ли разделять по отдельным группам поминки, совершаемые на 3-й, 9-й, 20-й и 40-й дни, полгода, год. С одной стороны, они кажутся типологически близкими, но, с другой стороны, поминальная трапеза, совершаемая на 40-й день, значительно отличается от всех прочих. Непонятно и то, как соотносятся застолья в годовщины со дня смерти человека с застольями, которые устраивают в общегодовые поминальные дни. Чтобы выявить принцип, по которому похоронно-поминальные трапезы можно было бы успешно классифицировать, необходимо в первую очередь определить их прагматику. Обычно поминальную трапезу представляют как застолье живых в отсутствие мертвого. После похорон родные и близкие умершего собираются за столом и поминают покойника. Однако, если внимательнее посмотреть на описания подобных трапез, становится ясно, что, напротив, главная их особенность состоит в том, что в символическом плане они почти всегда представляют собой совместное застолье живых и умерших. На поминках, которые проходят сразу после похорон, покойнику предназначается особое место за столом, своя посуда и еда с выпивкой. Во время трапез на кладбище ему также наливают водку или чай, оставляют на могиле его любимые кушанья.
Единственный тип похоронно-поминального застолья, в котором не предполагается символического присутствия умерших, это ритуальное угощение тех, кто принимал участие в подготовке погребения: могильщиков, гробовщиков, женщин, обмывавших покойника. Однако, как убедительно доказывает О.А.Седакова, эти профессиональные исполнители обрядовых актов в традиционной культуре воспринимаются как представители «партии умершего» (участники похоронного обряда делятся на представителей «стороны живых» и «стороны мертвых», подобно тому как участники свадьбы делятся на «партию жениха» и «партию невесты») и выступают в качестве «заместителей» покойного [Седакова 2004: 103-104].
Для чего же живые и мертвые встречаются за одним столом? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо в общих чертах обозначить прагматику погребального ритуала. Общеизвестно, что похоронный обряд относится к типу переходных обрядов (по терминологии ван Геннепа) [Геннеп ван 1999: 134-150]. Смерть человека осмысляется в пространственных категориях как переход из мира живых в мир мертвых. Похоронные обряды ритуально оформляют этот переход, преследуя две основных цели: успешно переправить умершего на тот свет и обезопасить живых в ситуации, когда граница между миром живых и миром мертвых оказалась разомкнутой.
Если смерть в традиционной культуре воспринимается как перемещение в пространстве, то представляется логичным классифицировать похоронно-поминальные трапезы с учетом их пространственной организации. По этому принципу они все делятся на две группы: часть трапез совершается на территории живых (в доме), другая же часть проходит на территории мертвых (на кладбище).
Однако нельзя забывать, что на протяжении похоронного обряда постепенно меняется статус умершего: переходя в мир мертвых, он из «своего» становится «чужим». В соответствии с этим трансформируются и его взаимоотношения с живыми, что отражается и на принципах организации ритуальных трапез.
Наконец, классифицируя обрядовые трапезы, необходимо учитывать разницу между прагматикой похоронных и поминальных обрядов. Если главная цель похорон - успешно переправить умершего на тот свет, то поминальные обряды ориентированы на упорядочение отношений между миром живых и миром мертвых.
Во избежание терминологической путаницы следует оговориться: граница между похоронными и поминальными обрядами достаточно зыбка. Если следовать элементарной логике, выходит, что к похоронным обрядам следует отнести все ритуальные действия, которые совершаются до того момента, как завершается погребение.
Однако все не так просто. Перемещение умершего на тот свет в традиционной культуре воспринимается как процесс, протяженный во времени. Покойник, находящийся на пути в мир иной, обладает пограничным статусом: он уже не относится к социуму живых, однако еще не получил успокоения в мире мертвых. В таком неопределенном положении умерший находится в течение 40 дней с момента смерти. К этому сроку, если все необходимые обряды были совершены правильно, он завершает свой путь на тот свет. В то же время обычай «навещать» покойника на кладбище наутро после похорон свидетельствует о том, что могила уже тогда начинает восприниматься как «дом» умершего.
Поминальная трапеза, которая проходит в доме после погребения, обладает достаточно сложной семантикой, из-за которой ее одновременно можно отнести и к похоронных, и к поминальным обрядам. С одной стороны, она осуществляется после того, как покойника вынесли из избы, то есть подразумевается, что он уже покинул пространство живых. С другой стороны, умершему ставят отдельный столовый прибор, кладут еду и наливают напитки; это свидетельствует о том, что он все же остается в доме и разделяет эту трапезу с присутствующими.
Отметим, что во всех остальных ритуальных трапезах, которые совершаются в доме после похорон (на 9-й, 40-й день, в годовые поминальные праздники), мертвые могут участвовать только как гости извне. Живые приглашают их к себе с кладбища или же, напротив, сами идут к ним «на могилку». На поминках, которые проходят сразу после похорон, покойника никогда не зовут за стол, подразумевается, что он все еще присутствует в доме, хотя и в пограничном статусе. Причитания, которые исполняются во время подобных застолий, также значительно отличаются от традиционных поминальных причитаний (подробнее см. Главу 3), что позволяет отнести эти трапезы скорее к похоронным, нежели к поминальным обрядам. Впрочем, как уже говорилось, граница между ними весьма расплывчата.
Севернорусские похоронно-поминальные причитания как жанр обрядового фольклора
В отечественной науке серьезное изучение похоронно-поминальных причитаний началось в 1872 году, когда был опубликован первый том знаменитых «Причитаний Северного края» Е.В.Барсова. Разумеется, о существовании народной традиции оплакивать покойника было известно и раньше, однако тексты причитаний прежде не привлекали внимания исследователей. Само слово «причитание» широко распространено в севернорусских говорах, С.М.Толстая рассматривает его как семантический дериват от глагола «причитать» со значением читать [Толстая 1999: 146], а К.В.Чистов связывает его с глаголами «причесть», «причислять» в смысле перечислять , прибавлять , присоединять , объясняя это значение тем, что «текст причитаний обычно представлял цепочку горестных сетований, которые были связаны между собой единым трагическим переживанием в целостную «ламентацию», как было принято называть причитания в фольклористике многих европейских народов» [Чистов 1997а: 400].
В различных диалектах русского языка известны и другие обозначения причитаний - «плачи», «заплачки», «вопы», «голошения», «вытьё». Из них наиболее распространен термин «плач», в нашей работе мы будем использовать его как синоним к слову «причитание». Слово «голошение» молодая исследовательница А.М.Карвалейру трактует как «оплакивание, состоящее из эмоциональных возгласов» [Карвалейру 2004], различая «голошения» и «причитания». Однако мы, вслед за С.М.Толстой, будем рассматривать голошение «как ритуальный акт» [Толстая 1999: 135], исполнение причитания в рамках обряда. Таким образом, под «причитанием» и «плачем» мы понимаем сам текст, а под «голошением» - процесс его исполнения.
Главной отличительной чертой причитаний как жанра является их импровизационный характер. Не существует двух одинаковых плачей, причем в данном случае речь идет не об обычном для традиционной культуры варьировании устойчивого текста. Каждое причитание складывается одномоментно в процессе совершения обряда. Хотя плакальщица активно использует «общие места», характерные для местной традиции причетов, каждый порождаемый ею плач уникален, так как посвящен определенному человеку-покойнику, конкретные обстоятельства жизни и смерти которого иногда упоминаются в тексте.
Несколько огрубляя, можно говорить о том, что каждое причитание состоит из элементов двух типов: традиционных и импровизационных. К традиционным элементам мы относим устойчивые мотивы и поэтические формулы, которые были обязательны в данной традиции. Импровизационные элементы включались в текст по инициативе самой вопленицы, которая стремилась выразить собственные индивидуальные переживания по поводу смерти близкого человека, кратко охарактеризовать покойника, то есть создать «свое» уникальное причитание, в котором отражаются конкретные обстоятельства постигшего ее горя.
Соотношение традиционного и импровизационного в причитаниях во многом зависело от мастерства вопленицы. В.И.Харитонова предлагала классифицировать все причитания в зависимости от способа передачи текста на три жанровые разновидности: «песни», «формулы» и «импровизации» [Харитонова, 1987: 140-142]. Малоодаренные вопленицы просто заучивают «причитания-песни», более талантливые пользуются «причитаниями-формулами», не просто заимствуя устойчивые мотивы чужих плачей, но и варьируя их, а самые опытные создают собственные «причитания-импровизации». Хотя эта классификация кажется не очень удачной (в первую очередь, можно усомниться в существовании «причитаний-песен»; по нашим материалам, даже самые малоодаренные вопленицы никогда не заучивают чужие причитания целиком), принцип, положенный в ее основу, верен. У более талантливых плакальщиц импровизация в плачах встречается значительно чаще, чем у остальных. Менее опытные вопленицы, напротив, предпочитают пользоваться уже готовыми поэтическими клише и сводят импровизацию к минимуму.
Все причитания исполнялись только женщинами, хотя в некоторых источниках встречаются единичные упоминания о мужских плачах [Обрядовая поэзия Пинежья 1980: 131]. Русские причитания делятся на две категории: обрядовые и внеобрядовые. Бытовые внеобрядовые причитания, «которые могли слагать женщины в особо тягостные для них памятные дни, либо в тяжелых ситуациях, когда особенно взгрустнется» [Чистов 1997а: 401], встречаются не только у русских, но и у карел, коми, мордвы. Обрядовые причитания делятся на три основных категории: похоронно-поминальные, свадебные и рекрутские.
Следует отметить, что по своему поэтическому строю и системе образов похоронно-поминальные и свадебные причитания значительно отличаются друг от друга. Как отмечает К.В.Чистов, в причитаниях невеста не только выражает свои переживания по поводу окончания «вольной» девичьей жизни, но и исполняет определенную обрядовую роль, в результате чего ее плачи отличаются большей долей условности, стереотипности, чем похоронные [Чистов 1997а: 402]. Музыковеды отмечают, что похоронные и свадебные причитания также значительно отличаются по напеву [Ефименкова 1980: 22]. Напротив, похоронные и рекрутские причитания очень близки как по напевам, так и по системе поэтических формул. Это объясняется тем, что уходящий в армию рекрут на долгие годы выпадает из крестьянского социума, поэтому разлука родных с ним осмысляется как «похороны при жизни» [Кормина 1999: 39-41].
Первую попытку классификации похоронно-поминальных причитаний предпринял Е.В.Барсов, который в самом названии первого тома своего знаменитого сборника выделил «плачи похоронные, надгробные и надмогильные». В основе этой классификации лежал пространственный признак, важно было, где именно исполняется причитание: в доме, над гробом, над могилой. Подобный принцип классификации едва ли можно признать удачным: причитать «над гробом» можно и в доме, и на кладбище, а плачи «над могилой» могли звучать и в момент погребения, и в годовщину со дня смерти. При этом тексты таких причитаний очень сильно отличаются друг от друга.
Однако многие исследователи, классифицируя плачи, либо следовали за Барсовым, либо пытались «доработать» его систему, используя тот же принцип. Так, Ю.Б.Фишков преложил разделить все плачи на «надгробные» (которые звучат до того момента, как гроб опустят в могилу), «надмогильные» (исполняются с момента погребения до того момента, как родные уходят с кладбища) и «поминальные» (которые звучат после похорон, в том числе в поминальные дни) [Фишков 1974: 101-102]. Очевидно, что эта классификация еще более условна и еще менее удачна. Разумеется, в тот момент, когда гроб опускают в могилу, никаких резких изменений плача не происходит. А ведь по логике Ю.Б.Фишкова «надгробные» и «надмогильные» причитания отличаются друг от друга. Выделение в отдельную категорию «надмогильных» плачей, которые якобы исполняются с момента погребения до момента ухода с кладбища, совсем абсурдно, потому что, по народным поверьям, после закапывания гроба вообще запрещено плакать и причитать, «чтобы не утопить умершего в слезах» [Обрядовая поэзия Пинежья 1980: 138].
Принципы описания трапез в похоронных причитаниях
Изображение застолья в похоронных и поминальных причитаниях входит в состав разнообразных устойчивых мотивов и сюжетных ситуаций (об этом см. ниже). Однако сравнение причитаний, записанных в разное время на территориях, которые расположены далеко друг от друга, показывает, что в целом описание трапез в них в значительной степени клишировано. Для конструирования образа застолья используются одни и те же устойчивые поэтические формулы.
В качестве примера можно привести два отрывка из плачей, один из которых был записан в Петрозаводском уезде Олонецкой губернии в конце XIX века и исполнялся на 40-й день, а другой был зафиксирован в Кинешемском уезде Костромской губернии в 1919 году и является похоронным. «Я поставлю, мати бедная, Тиби столички дубовый. Кладу скатерти-то браный. Кладу кушанья сахарный. Кладу питьиця медовый!» [Шейн 1898: 787] «Накрыли бы мы столы дубовые Скатертям-то чистым браныем. Кушанье-то бы мы приготовили Сладкие-медовые» [Смирнов 1920: 67].
Несмотря на то, что причитания, из которых взяты эти два отрывка, относятся к разным локальным традициям, сходство между описаниями застолья в них бросается в глаза. Каждое из них состоит из устойчивых поэтических формул («столы дубовые», «скатерти браные», «кушанья сахарные» и т.д.), которые комбинируются в определенном порядке.
Как правило, каждое такое описание состоит из трех частей: сначала изображается обстановка застолья, затем описываются кушанья, а в завершении упоминаются напитки. Обычно каждая из этих частей выражается одной поэтической формулой, причем количество подобных формул очень ограничено.
Описание обстановки чаще всего реализуется в виде формулы «столы дубовые»: «Как ты, родитель, моя матушка, // Ты станови столы дубовые» [Русские плачи Карелии 1940: 71]. Эта формула многократно встречается в олонецкой [Филимонов 1902: 168; Причитания Северного края 1997: 97; Русская народно-бытовая лирика 1962: 236] и вологодской [Сказки, песни, частушки Вологодского края 1965: 53; Ефименкова 1980: 98; Разова 1994: 177, 181, 183] традициях, отдельные причитания, включающие ее, записывались в Тверской [Готье 1897: 115] и Ярославской [Балов 1889: 5] губерниях, в Ленинградской области [Бахтин 1978: 81] и т.д. По нашим наблюдениям, данная формула является самой распространенной в описании застолья. Значительно реже упоминаются скатерти, которые стелят на стол («скатерти браные» - олонецкая [Русские плачи Карелии 1940: 71], вологодская [Разова 1994: 177], костромская [Смирнов 1920: 67] традиции; «скатерти клитчаты» -вологодская традиция [Ефименкова 1980: 98,106]).
В сборнике Барсова в описании застолья встречаются еще более редкие формулы: «стульицо кленовое» [Причитания Северного края 1997: 42], «столики точёные» [Причитания Северного края 1997: 42], «тарелочки камфоровы» [Причитания Северного края 1997: 97] (т.е. фарфоровые) и «вилочки золочёные» [Причитания Северного края 1997: 97]. В записях из Заонежья, сделанных в годы войны, используются такие формулы, как «самовары золочёные» [Русская народно-бытовая лирика 1962: 236] и «чашечки золочёные» [Русская народно-бытовая лирика 1962: 264]. Наконец, в Белозерском районе Вологодской области в плачах неоднократно упоминаются «ложки светлые» [Разова 1994: 178, 184].
Как видно из этого списка, застолье в причитаниях изображается очень условно. В качестве «строительного материала» для его описания используются только однотипные поэтические формулы-клише, которые практически не связаны с этнографической реальностью. Разумеется, крестьяне в XIX веке не использовали в повседневном быту золоченые самовары и фарфоровую посуду. Вопленицы, описывая застолье, активно пользуются приемом идеализации. Они стремятся изобразить самое богатое застолье, какое только могут вообразить.
С условностями и идеализацией мы столкнемся и при рассмотрении пищевого кода причитаний. Здесь набор устойчивых формул еще скромнее. Чаще всего еда в плачах обозначается формулами «кушанья сахарние» (олонецкая традиция [Причитания Северного края 1997: 42; Истомин 1892: 142]) или «яства сахарние» (олонецкая [Шайжин 1910: 212; Русские плачи Карелии 1940: 71] и вологодская [Разова 1994: 177] традиции). В Макарьевском уезде Костромской губернии в похоронных плачах говорилось про еду: «Напасли мы вкусу сладкова» [Смирнов 1920: 94, 97]. В вологодской традиции в считанных случаях упоминался хлеб: «хлебы белые», («Ой, да попотчуйте сестрицю, // Ой, да и хлебами белыми» [Ефименкова 1980: 98]) или «хлеб ситный» [Разова 1994: 185]. Упоминания других кушаний в плачах не встречаются.
Сравнение пищевых кодов похоронно-поминального ритуала и причитаний показывает, что в плачах пища изображается предельно условно. Показательно, что традиционные поминальные блюда (кутья, блины, кисель) там не упоминаются ни разу. Однако следует обратить внимание на устойчивые эпитеты к словам «кушанья»/«яства», которые выражают идею сладости блюд. Широкое распространение формул «кушанья сахарние», «яства сахарние», «вкус сладкий» подтверждает наше предположение о том, что сладость поминальной пищи имеет знаковый характер и ее употребление является элементом продуцирующей магии. В причитаниях именно сладость является основной характеристикой «идеальной еды».
Напитки в причитаниях, как правило, тоже являются сладкими. Чаще всего они обозначаются в тексте как «питьица медвяные» (олонецкая [Рыбников 1991: 111; Шайжин 1902: 3; Филимонов 1902: 168] и вологодская [Разова 1994: 184] традиции) или «напиточки сахарние» (костромская традиция [Смирнов 1920: 97]).
Мотив гощения на кладбище
Как уже говорилось, хождение на кладбище в поминальные дни можно рассматривать как своего рода визит живых в гости к мертвым. Сам поминальный день осмысляется как «праздник умерших», так что живые становятся их гостями, а поминальное застолье на могиле - совместной трапезой.
Значимость идеи гостевания подчеркивается в самом наименовании кладбища - «погост» (этимологически связанным со словом «гость»). В олонецких поминальных причитаниях XIX века кладбище часто называют «гостибище» (или «гостбище»): «Не одна взошла в сердечно в гостибище, // А и с собой веду сердечных твоих детушек» [Рыбников 1991: ПО]. Такое же наименование кладбища встречается и в поздних записях из Пудожского района Карелии: «Я пришла к вам да приехала, // Бажона моя матушка, // На любимое гостебище»66. Хотя в данном случае «гостибищем» называют кладбище, существует и другое значение этого слова, которое приводит в своем словаре В.И.Даль: «гостбище» - пир, угощение [Даль 1978-1980: 387]. Он же приводит несколько поговорок, связывающих «погост» и «гостевание»: «И на погосте бывают гости» [Даль 1978-1980: 387]; «Несут гостя до погоста» [Даль 1978-1980: 156]. Таким образом, в языке «кладбище», «гостевание» и «угощение» тесно связаны между собой. Визит плакальщицы на кладбище в поминальный день часто осмысляется как хождение в гости к «родителям» на праздник. Это представление находит отражение в севернорусских причитаниях. Так, для олонецких поминальных плачей характерна следующая сюжетная схема: «Проснувшись утром, вопленица вступает в диалог с прилетевшей к ней на окно говорящей птичкой, которая сообщает ей, что на кладбище ее ждут умершие родители (родственники), которые в праздничный день получили «прощеньице, с того света отпущеньице». Вопленица спешит на кладбище и видит, что ее «обманула птичка вещая», ожившие родители не встречают ее на могиле». Иногда вместо птички в тексте плача фигурируют родственники плакальщицы или случайно встретившиеся люди.
В развернутом виде эта схема реализована в одном из причитаний И.Федосовой, которое исполняется на кладбище на другой день после похорон. В этом тексте к вдове на окно прилетает две птички: «орел говорючий» и «мелкий соловеюшко», которые обращаются к ней с призывом: «Ты спахнись да за надёжную головушку, Ты справляйся во любимое гостибище! На сегодняшний Господень Божий денечек Тебя в гости ждет любимое гостибище, Твоя милая надежная головушка. Там построено хоромное строеньицо, Прорублены решётчаты окошечка, Врезаны стекольчаты околенка, Складены кирпичны теплы печеньки. Порасставлены там столики точеные, Поразостланы там скатерти всё браные. И положены там кушанья сахарные, И поставлены там питьица медвяные. Круг стола да ведь всё стульицо кленовое. У хором стоит крылечко с переходами, Сожидат тебя, надёжная головушка!» [Причитания Северного края 1997:42] По этому фрагменту видно, что мотив угощения имеет особое значение для данной сюжетной схемы. Показательно, что подробно описывается накрытый стол, который ждет вдову «во любимом гостибище». На первый взгляд, складывается ощущение, что сюжетный мотив обмана вещей птички является всего лишь риторическим приёмом, с помощью которого вдова выражается все свое горе и отчаяние. Однако обращает на себя внимание его популярность и устойчивость в традиции, что, как мы уже отмечали, обычно свидетельствует о том, что он имеет особое значение в причетах. В олонецких поминальных плачах этот мотив является очень распространенным и даже едва ли не обязательным, он встречается как в текстах XIX века, так и в поздних записях. Вот как описан прилет вещей птички в поминальном плаче по отцу, который был записан в Заонежье в годы войны: «Как сегодняшним господним божьим денечком, Прилетела самолётна мала птиченька, Она тонким голосочком все будила: «Ты вставай-ко, вставай, горюха горегорькая, Ты пойди-ко ко родителю ко татеньке. Как у твоего родителя у татеньки Есть построено хоромное строеньице, Есть состроены окошечки хрустальные, Поставлены лавочки дубовые И согреты самоварчики шумячие. И налажены чашечки золочёные» [Русская народно-бытовая лирика 1962: 264]. Как мы видим, основная сюжетная схема не меняется: птичка зовет вопленицу на кладбище и сначала описывает «хоромное строеньице», а затем щедрое угощение умерших. Тот же мотив встречается и во многих других олонецких плачах [Русские плачи Карелии 1940: 89, 144].
Образ «вещей птички» в причитаниях имеет также свои параллели в традиционных верованиях и обрядах. Так, В.Г.Базанов, комментируя реализацию этого мотива в похоронно-поминальной поэзии, пишет: «Традиционный образ перелетной птички, без которого вообще редко обходится похоронная причеть, в современной пудожской традиции, сохраняет прямое отношение к суеверному понятию вещей птицы. Многие вопленицы, от которых мы записывали плачи, уверяли нас, что перед получением нерадостного известия на подоконник их избы прилетала птица и стучала клювом в оконное стекло» [Базанов 1962: 30]. В данном случае речь идет о распространенной народной примете, согласно которой птица, постучавшая клювом в окно, предвещает дурное известие или смерть кого-то из обитателей дома .
Однако в поминальной обрядности более важна роль птиц как посредников между миром живых и миром мертвых . В этом отношении показательно кормление птиц на кладбище на поминках: Вот сидят и поминают, а что останется, дак на могилке... накрошат. А птички да собаки съедят. Нужно, чтоб птички съели. [А почему?] А птички, они вестники, приносят хорошую там весть... на небо, чтоб они [умершие] там слышали, как птички поют . Птицы как вестники связывают мир живых и мир мертвых. В этой записи они приносят «хорошую весть» покойникам о том, что живые их поминают. Но возможна и обратная связь, птицы могут приносить вести из иного мира. Именно так, на наш взгляд, следует трактовать «дурную примету», когда птица стучит в стекло, предвещая плохое известие.
Хотя пир покойников на кладбище в тексте причитания все же оказывается иллюзией, именно ложная информация о нем побуждает «горюшицу» отправиться на «родительскую могилку». Как известно, посещение кладбища в народной культуре строго регламентировано: нормой признаются визиты в специальные поминальные дни утром, в другое время посещение кладбища нежелательно и даже опасно. В этом отношении показательно, что олонецкие поминальные причитания обычно имеют стандартный зачин, в котором акцентируется время действия - раннее утро: «Уж сегодняшнего денечку // Я вставала поранешенько» . Из текста обычно следует, что причитание исполняется в «годовой Владычный праздничек», когда будет «грешничкам прощеньицо //Ас того свету возвращеньицо» . Таким образом, время исполнения плача и время в тексте прямо соотносятся друг с другом - в обоих случаях речь идет об утре праздничного дня.
Образ птички, зовущей плакальщицу на кладбище, по нашим наблюдениям, встречается только в олонецкой традиции. Однако сам мотив праздника-пира покойников на могиле распространен на более широкой территории. Так, в записи 1976 года из Беломорского района Карелии дочь причитает на могиле матери: «Что за чудо чудное? Что за диво-то великое? Сегодня ды по сегодняшнему позднему вечеру Куда тут собралось да сокупилось Уж вся-то дорога ды мила-то Породушка родительска. На какое же пир да столованье Ды на радость-то веселье велико. Дак как уж я глупа да неразумна. Ведь тут не пир и не столованье, Ведь вси пришли ды сокупились Уж на остатню ды на последню Ведь и на тиху-ту бесёдушку смирёну, Ды на крепку-ту думу да заедину»72. В этом отрывке мы видим почти ту же картину, что и в олонецких плачах. Вопленица сначала описывает картину праздничного пира умерших «родителей» на кладбище, а затем объясняет, что все это обман. Только если в олонецких плачах в обмане виновата «вещая птичка», то в данном случае вопленица сама обманывает себя. Отметим эту противоречивую двойственность, мы еще не раз столкнемся с ней, когда будем разбирать другие мотивы поминальных причитаний.