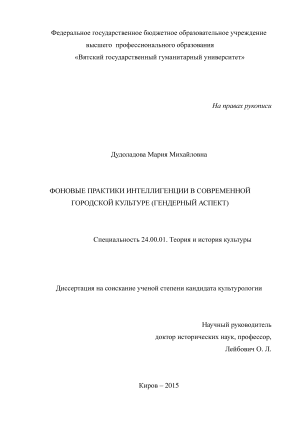Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Эвристический потенциал фоновых практик в исследовании ценностно-нормативной сферы культуры 13
1.1. Интерпретации ценностно-нормативного порядка в гуманитарном знании 13
1.2. Культурная память: воспроизведение норм и ценностей советской эпохи 32
1.3. Типология фоновых городских практик 46
Глава 2. Генеалогия и переозначивание смыслов тендерных фоновых практик городской интеллигенции 60
2.1. Программа и технология эмпирического исследования 60
2.2. Дискурсивный аспект фоновых практик городской интеллигенции 73
2.3. Фоновые практики потребления в современной городской культуре 90
2.4. Дисциплинарные фоновые практики в современной городской культуре
Заключение 130
Библиографический список
- Культурная память: воспроизведение норм и ценностей советской эпохи
- Типология фоновых городских практик
- Дискурсивный аспект фоновых практик городской интеллигенции
- Дисциплинарные фоновые практики в современной городской культуре
Культурная память: воспроизведение норм и ценностей советской эпохи
Ценностно-нормативный порядок является исходной категорией в настоящем диссертационном исследовании. Ценностно-нормативный порядок в культурологии понимается как эквивалент социологического понятия социальный порядок.
В гуманитарном знании представлены различные интерпретации ценностно-нормативного порядка, относящиеся либо к разным отраслям этого знания (философия, социология, антропология и т.д.), либо к различным исследовательским парадигмам. Для удобства изложения рассмотрим в хронологической последовательности различные подходы к исследованиям ценностно-нормативного порядка, то есть его интерпретации в различных гуманитарных парадигмах. Эти интерпретации касаются культурного смысла ценностно-нормативного порядка, его структурных элементов и социальных функций. В результате, из предложенных концепций возможно будет выбрать подход, наиболее соответствующий задачам данного исследования.
К проблематике ценностно-нормативного порядка обращались многие исследователи Нового и Новейшего времени, работавшие в различных областях гуманитарного знания. Знакомство с литературой позволяет сформулировать гипотезу о циклической повторяемости исследовательских стратегий, которых придерживались гуманитарии, занимавшиеся этой проблемой в разное время и в разных странах. Дискуссии велись вокруг двух-трех основных вопросов: о статусе ценностно-нормативного порядка в обществе, об источниках его возникновения, о месте индивида в ценностно-нормативном порядке. Менялся инструментарий, обновлял понятийный аппарат, в дискурсе появлялись новые значения, отсылающие к исторической памяти. Тем не менее, основная проблематика изучения социального остается прежней. Концепции ценностно-нормативного порядка в гуманитарном знании, как правило, пытаются ответить на вопрос, «как возможно общество». Традиционно этот вопрос входит в проблематику философских исследований. Речь идет о спекуляциях на тему целостности социальных образований, возможности сосуществования индивидов друг с другом в пространственно-временном континууме. Философы, размышлявшие над социальным порядком, пытались понять природу упорядоченности социальных отношений. Интерес к этой теме возникает в эпохи, когда рушатся, казалось бы, вековые социальные устои. В этих ситуациях проблематика социальной связи выступает на первый план в философской рефлексии.
Мысль о существовании всеобщей формы, или ценностно-нормативного порядка возникла еще в античной философии (Платон, Аристотель). Признано, что впервые понятие ценностно-нормативного порядка было закреплено в рамках концепции общественного договора, существующего в двух версиях. Рассмотрим версию общественного договора Т. Гоббса. В гоббсовском варианте ценностно-нормативный порядок устанавливается вертикально. По утверждению Т. Гоббса, по своей природе «человек человеку - волк». Но как же тогда общество существует и в нём поддерживается некая нормативность? Т. Гоббс в трактате «Левиафан» исходит из позиции, что для существования ценностно-нормативного порядка необходимо наличие государства как высшего целого, которому должны подчиняться индивиды как его части. Только в этом случае, по Т. Гоббсу, возникает ценностно-нормативный порядок [См.: 35].
Приведем комментарий Б. Рассела: «В отличие от большинства защитников деспотического правительства, Гоббс считает, что все люди равны от природы. Но в естественном состоянии, до того как появляется какая-либо власть, каждый человек хочет не только сохранить свою собственную свободу, но и приобрести господство над другими; оба этих желания диктуются инстинктом самосохранения. Из их противоречий возникает война всех против всех, что делает жизнь «беспросветной, звериной и короткой...сила и коварство являются на войне двумя
кардинальными добродетелями» [119, С.655].
Можно согласиться с мнением А. Филиппова, что идеи Т. Гоббса живы и по сей день: политическая философия английского мыслителя обладает несомненной актуальностью, поскольку «люди Гоббса» остаются нашими современниками. Здесь А. Филиппов вступает в полемику с Ф. Теннисом -свидетелем Первой мировой войны. Тот считал, что люди XX века «происходят от «людей Гоббса» [142, с. 124]. Различия между двумя подходами очевидны. Для Тенниса европейцы генетически предрасположены к насилию и анархии. Для Филиппова речь идет об унаследованной доминанте в современной культуре. Российские граждане, впрочем, так же, как и европейские соседи, по своей человеческой природе остаются «людьми Гоббса»: эгоистичными, жадными, примитивно-рациональными - и чтобы они (мы) не разорвали социальные связи:
«Суверенная власть... не может не вторгаться не только в область права, но и в область самой морали. Только в государстве есть не просто правила, но инстанция интерпретации, от которой исходят авторитетные суждения о том, что считать скромностью, милосердием, состраданием и т.п. Получается, что для сохранения мира государству, суверену приходится проникать довольно глубоко в ткань социальной жизни» [156, с. 166].
Именно поэтому «Гоббсова проблема» «...зримо или незримо присутствует во множестве социологических построений» [156, с. 159].
Д. Локк предложил альтернативный вариант концепции общественного договора, который основан на «природных законах». По Локку, «эгоистические и общие интересы совпадают только в конечном счете, важно, чтобы люди, насколько возможно, руководствовались своими конечными интересами. Иными словами, люди должны быть благоразумны. Благоразумие — это единственная добродетель, которую нужно проповедовать, так как каждое прегрешение против добродетели является недостатком благоразумия» [93, с.27].
Типология фоновых городских практик
В последние десятилетия гуманитарные науки переживают существенные изменения. В наше время антропологи, историки, социологи все больше работают не в границах своей дисциплины, а в общем поле наук о человеке [159, с. 10-158.]. Антропологический поворот в гуманитарных науках, о котором много говорят последнее время, затронул и историю. Меняется исследовательское пространство, тематика исследований, меняются подходы [137, сб.]. Современный историк изучает советскую культуру в основном по письменным источникам. Антрополог изучает отношения людей, проявленные в нормах и явлениях культуры, посредством наблюдения и интервью, без статистики [137]. «Особенностью антропологии является ... то, что мы занимается исследованиями вместе с людьми. Мы учимся воспринимать вещи (смотреть на них, трогать, слышать) так, как это делают они. И это заставляет нас видеть и свой привычный мир совершенно по-новому» [61, с. 11]. Сейчас в области антропологии основное внимание уделяется даже не ритуалам, а ритуализованным формам поведения. Другая, не менее явная тенденция -перенос внимания с архаичных форм культуры на современные Поэтому антропологу не всегда нужно выезжать в поле для сбора информации - поле само перемещается к нему [137, с.7-8].
И в этом утверждении находим ответ на следующий вопрос - как пересекаются история и антропология?
Существует исследовательское направление, близкое и историкам, и антропологам - oral history. Здесь антрополог подобен литературному критику, также имеющему дело с дискурсивным анализом. Преимущество антрополога заключается в том, что он способен подвергнуть анализу невербальные (визуальные, поведенческие) конструкции. Его цель - вычленить в говоримом сказанное, записать интерпретации, подвергнуть интерпретации интерпретациям, приближаясь к плотному описанию [7, с. 112].
Так, по мнению Томпсона, одним из значительных источников «...развития концепции исторической памяти явились труды по так называемой устной истории, которая приобрела очень широкое признание во второй половине XX в., особенно в его два последних десятилетия». Считается, что «традиционная историческая наука отдает безусловный приоритет письменным историческим источникам, уровень доверия к устным свидетельствам в ней существенно ниже. При этом, как правило, ссылаются и на погрешности памяти, и на присутствующее подчас стремление представить прошлое в выгодном для себя свете». Но в последнее время, «под влиянием субъективистской критики, показавшей, что любой письменный текст (в том числе первичный источник) также является интерпретацией, чертой современной историографии стало широкое использование устных свидетельств. В устной истории важнейшим способом «взаимодействия» с прошлым является собирание воспоминаний, их хранение и интерпретация».
По Томпсону, «важным фактором развития устной истории явился отход от прежнего взгляда на историю как преимущественно на историю «высокой» политики и усиливавшийся интерес к повседневности, понимание, что история - это не только сильные мира сего, но и те, о ком было принято говорить как о «молчаливом большинстве». Это большинство оставило после себя мало письменных источников, но обращение к их воспоминаниям (по меньшей мере, о событиях не столь отдаленных во времени) открыло в историографии совершенно новую перспективу. История приобретает новое измерение, как только в качестве «сырья» начинает использоваться жизненный опыт самых разных людей» [149, с. 17-18].
Исследователи, принадлежащие к той же школе, что и Томпсон, полагают, что сегодня человек, особенно живущий в городе, стал менее цельным, его повседневная жизнь напоминает мозаику; чтобы составить о нем представление, приходится изучать множество систем, в которые вовлечена его жизнь [126, с. 211-216]. В частности, современный человек еще совсем недалеко ушел от человека «советского», по традиции воспроизводя прежние смыслы и практики в иной культурной ситуации. По оценке К. Богданова, исследовавшего праздничную историю советского шампанского, эмоциональные переживания по поводу советской культуры определяются как «смешанные чувства»:
«Давно замечено, что в ностальгических воспоминаниях о советском прошлом респонденты социологических опросов предсказуемо выделяют такие характерные и утраченные сегодня, по их мнению, ценности советского коллективизма, как духовность, душевность, доброта, радость и т.п. Вместе с тем конкретные вопросы об особенностях быта, условиях работы, идеологии и политике заставляют тех же респондентов противоречить самим себе, и тогда советская действительность предстает действительностью взаимного отчуждения, подозрительности и жестокости» [12, с.367].
Нынешняя жизнь настолько наполнена явлениями, происходящими из ушедшей эпохи, что можно говорить о проблеме «следов» советского в современной российской городской культуре. Эти «следы» проявляются как в повседневных практиках людей, заставших советскую эпоху, так и тех, кто знает о ней от старшего поколения и средств воспроизведения культурной памяти (кино, литература и т.д.). По мнению антропологов, «социальные практики живут в повторении и рождают чувства и желания их повторять» [126, с.212]. Для выявления данных практик мы обратимся к oral history, которая поможет в исторических фактах обнаружить повседневные смыслы, что важно с антропологической точки зрения. Мы провели полевое исследование «следов» советского в современной российской культуре на основе таких качественных методов, как включенное наблюдение и биографическое интервью. Под «следами» в этом случае мы понимаем фоновые практики
Дискурсивный аспект фоновых практик городской интеллигенции
Но нас интересуют практики иного рода. Назовем их практиками «замещающими», не претендующими на нарочитую репрезентацию в публичном пространстве. Подобные практики были характерны для советской городской культуры: я не могу купить себе платье, поэтому я сделаю его из шторы.
Чтобы понять смысл рукоделия в современной тендерной повседневности, обратимся к теории фоновых практик. По мнению современных социологов, «концепт фоновых практик представляется приемлемым для социологической интерпретации исторического процесса в его конкретных ситуациях», «...мы исходим из концепта инерционности культуры, сохраняющей, в основном, своё содержание, как минимум в течение поколения после изменения внешних условий среды» [91, с.55]. В этом смысле можно говорить о том, «...что, собственно, человек, которого мы условно назвали «советским», никуда от нас не делся» [80].
Исследователь моды И. Виниченко, рассматривая особенности советского и современного российского потребления, утверждает, что «смены вкусовых пристрастий идут медленно, неравномерно по территории страны (от культурных центров к периферии), среди различных возрастных и социальных групп населения» [24].
Попытаемся в общих чертах обрисовать ситуацию, связанную с культурой потребления в советском обществе. Затем можно сузить спектр потребительского поведения до женских практик рукоделия (шитья, вязания, вышивания и др.) и выделить особенности потребления самодельных вещей. Затем я предполагаю сравнить высказывания информантов старшего поколения (1954-1958 гг. рождения) с нарративом информантов младшего поколения (1987-1991гг рождения) и на их основе интерпретировать существование фоновых практик в постсоветской городской культуре.
Можно согласиться с И. Виниченко в том, что «детальное рассмотрение приватного пространства и его составляющих, изучение практик обращения с одеждой является одним из рельефных примеров, позволяющих сделать заметными многие невидимые особенности повседневной жизни советского человека» [24].
По результатам исследований, в 1960 - 1980-е годы советское общество полностью решает проблему физиологического выживания и превращается если не в общество потребления, то, во всяком случае, в такое общество, которое стремится потреблять [См.: 10, с. 64; 59; 45, с. 126-131].
Улучшение жилищных условий и рост доходов сопровождались увеличением потребления и изменением в структуре предметов домашнего обихода. «Н.С. Хрущев и его сотрудники исходят из того, что, во-первых, население страны должно быть сыто, одето, проживать в достойных условиях..., а во-вторых, вес это человек должен получать из рук государства» [88, с. 157]. Наследники Н.С. Хрущева придерживались сходной точки зрения.
В то же время, особенность советской культуры - развитие технологий потребления в условиях дефицита. Ассортимент советских магазинов со времён отмены НЭПа вплоть до конца 1980-х годов оставался относительно однообразным и ограниченным. Людям сложно покупать самые необходимые вещи, отсюда и формируется понятие дефицита, отныне вместо «купить» потребители используют слово «достать» [114, с.5]. По свидетельству информантки: «времена были сложные, купить было нечего. Кругом был дефицит» [Интервью №8].
С точки зрения исследователей памяти, «дефицит» позднего советского времени (1970 - 1980-х годов), несомненно, является отмеченным «местом» в топографии коллективной памяти тех, кто это время пережил, - вплоть до того, что весь этот период метонимически концептуализируется через рассматриваемое понятие: «Начало 1980-х годов - это жуткий дефицит» [79]. Если очередь, как показывает Владимир Николаев, является «фокальной точкой» советской культуры, то и весь опыт распределения продуктов питания при их постоянной нехватке можно, пользуясь словами Мелвилла Херсковица, назвать «феномен[ом], который придает культуре ее особый акцент, позволяет постороннему ощутить ее особый, отличительный аромат и охарактеризовать в нескольких словах ее сущностную ориентацию» [106].
В результате сложившейся ситуации возникла целая иерархия распределения материальных благ, напрямую повлиявшая на стратегии поведения потребителей. Можно говорить о существовании советской культуры потребления, включающей в себя практики создания и переделки вещей в домашних условиях [133, с.236-259].
Вот в таких неординарных условиях советские женщины вынуждены были обратиться к практикам рукоделия в целях обеспечения своих семей одеждой и необходимыми вещами быта (постельное бельё, скатерти, шторы и т.д.). В. Тяжельникова в своей монографии «Женское рукоделие и производство одежды в городском домашнем хозяйстве: 1960 - 2000-е годы» подробно описывает и анализирует практики рукоделия на разных исторических этапах советского и постсоветского общества. На основе интерпретации интервью она указывает, что главными причинами занятия женщин подобными практиками были необходимость, затем желание соответствовать социальным нормам, а уж потом стремление к самореализации и получение удовольствия от процесса и результата творчества [150, с.321-322].
Дисциплинарные фоновые практики в современной городской культуре
В 1950-1960-е гг. была заложена основа советской свадебной обрядности. Если ранее заключение брака происходило неторжественно, обыденно, в помещении МВД (это называлось «расписаться» - поставить подпись и получить свидетельство о браке), то с конца 1960-х гг. стали играться «настоящие» советские свадьбы. Теперь это была не просто «роспись». Свадьба стала настоящим праздником со всеми присущими ему элементами: костюмами, украшениями, свадебным букетом и фотоальбомом, застольем, музыкой, танцами, играми, обрядами, традициями. Для легитимности советской брачной церемонии на свадьбах присутствовали представители местной власти. Все это позволяет говорить о том, что в рассматриваемый период были не просто заложены основы советской свадебной обрядности, органичной частью которой стали многие элементы советской свадьбы, а появилась устойчивая традиция отмечать гражданское «рождение» новой советской семьи» [172, с. 175].
Почитаем выдержки из интервью представителей советского поколения: Информант 1958 г.р. говорит о своей свадьбе так: «...а зачем? Я считаю, что пошел, зарегистрировался, да и всё, чего тут пьянки разводить. Но родственники: «надо», «всё равно надо». Особенно бабушка Рая, бабушка Вера. Она мне: «ты что, нет, давай, надо!». Ну, она такая, очень хотела праздника, ну как, у всех же свадьбы. Что мы, хуже всех, без свадьбы?] Что, свадьбу не можем справить? Да и люди, скажут, вот ведь, свадьбы даже не было. Ну и вот... Только, только поэтому. Не знаю, я совершенно не хотела никаких свадеб. Ну, народу было немного. Человек сорок. Родственники, с работы» [Интервью №8].
Информант 1961 г.р. : «ну, вот на самой свадьбе... Мне кажется, они все одинаково проходят. Тост, выпьем, за невесту, за жениха, родители, горько, танцы, салаты. (Смеётся). Кто-то драку закажет. Я не знаю, мне кажется, все свадьбы одинаково проходят. По крайней мере, на таких, каких я была, чаще всего как-то вот так. Тамада...» [Интервью №1].
Следующий информант 1990 г.р. - другое поколение, те же оценки: «...в отношении гостей. Это было все, не знаю, как будто наиграно. Их поведение, их поздравления. То есть вот эти путешествия... куда там сначала ходят. По памятникам и все в этом духе. Никому это не нужно было. Но делали, потому что так надо» [Интервью №1].
Подведем итоги. По мере анализа биографического нарратива обнаружилась значимая лакуна. Оказалось, что никто из инфомантов, повествуя о своей повседневности, и требованиях, предъявляемых к ней, не обращался к теме труда, работы на предприятии или организации. Информанты говорили о дисциплинарных требованиях в сфере либо досуговой, либо бытовой жизни. Интервью предполагало свободный рассказ информанта о своем жизненном мире, значимых практиках и моделях поведения. Сфера труда полностью выпала из нарратива. Здесь напрашивается вопрос: либо сфера труда настолько вошла в сферу повседневности, что не замечается, либо труд выпал из поведенческого кодекса информантов [89, с.60-72]. Получается, что произошло стирание «лишних» смыслов из жизненного мира информантов. Труд предполагает занятость. Можно ли это назвать мощной системой отчуждения от трудовой сферы? Восприятие труда как чужого элемента в своем жизненном мире можно интерпретировать как то, что советские ценности труда дали сбой, стерлись, выпали из жизненного мира. Произошло отчуждение культурных смыслов.
При крушении старого институционального порядка прежние дисциплинарные практики теряют свою значимость. Местом их традиционной локализации было пространство школы, казармы, больницы и социалистического предприятия. Сегодня у горожан возникают вопросы: стоит ли учиться, если учеба больше не является социальным лифтом? Стоит ли вовремя приходить на работу, если за неё не платят (твой продукт принадлежит частнику)? Как показало проведенное исследование, область производственной, или даже шире - трудовой деятельности регулярно выпадала из нарратива информантов - возможно, по причине ее малозначимости. Новый язык для описания дисциплины в труде еще не сложился. Результатом становится молчание. Дисциплинарные практики сместились к непроизводственной сфере. Произошла интерференция как минимум двух нормативных систем: 1) советской, с ее жесткой схемой модальностей «надо», «обязательно», «необходимо», «нельзя»; 2) возникшего приоритета демонстративности, свойственного современной городской культуре.
Мы наблюдаем гибридное соединение, в котором советские дисциплинарные технологии механически соединены с постсоветской демонстративностью, презентабельностью. В итоге получилась конструкция «необходимо демонстрировать» или «обязательно презентовать» - но за пределами сферы труда. Потребление, семейные ритуалы, досуг становятся новыми дисциплинарными пространствами в культуре современного российского города, семантическое наполнение которого обеспечивается культурной памятью. Например, требование родителей и стремление детей праздновать свадьбу, «как принято», «как нормальные люди делают» (со «свидетелями», с поездками по культовым местам); чтение «гламурной» студенткой книг модных авторов на лекциях и перерывах (которая, правда, потом не могла пересказать содержание этих книг). В то же время, получение диплома о высшем образовании воспринимается как выполнение обязательных требований. Но содержание процесса получения диплома - зачастую размыто и обессмыссленно.