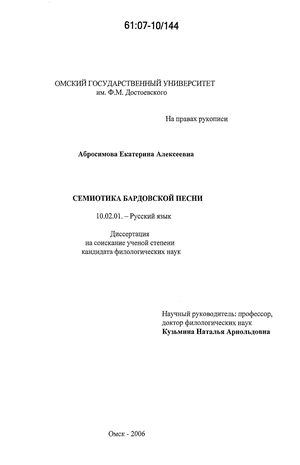Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Методология изучения культурного феномена как знаковой системы 13
1.1. Семиотика как интеграционное учение о знаковых системах 15
1.2. Традиции и методы семиотического анализа 22
1.3. Аспекты семиотического анализа 31
1.3.1. Синтактика как особый подход к анализу текстов культуры 33
1.3.2. Семантика. Языковая картина мира, единицы и методы ее реконструкции 38
1.3.3. Прагматика. Прагматическое описание феноменов культуры 47
1.3.4. Интертекстуальность как особое (четвертое) измерение текста 54
Выводы 60
Глава 2. Семантика бардовской песни: реконструкция поэтической картины мира 62
2.1. Особенности репрезентации мираї («чужого» мира) 64
2.2. Особенности репрезентации мира2 («своего» мира) 70
2.3. Особенности репрезентации мира пути (мира3) 79
Выводы 87
Глава 3. Прагматика бардовской песни: основные коммуникативные стратегии и тактики воздействия на адресата 90
3.1. Бардовская песня как фатический речевой жанр 90
3.2. «Возьмемся за руки, друзья...»: стратегия кооперации 93
3.2.1. Тактика установления и поддержания контакта 93
3.2.2. Тактика формирования особой тональности 95
3.2.3. Тактика апелляции к общему образу прошлого 97
3.2.4. Тактика коррекции картины мира (персонаж «свой») 97
3.3. «Вот такой уж я законченный чудак...»: стратегия самопрезентации 101
3.3.1. Тактика противопоставления «своего» «чужому» 101
3.3.2. Тактика самоумаления 103
3.3.3. Тактика поучения адресата 103
3.3.4. Тактика автокоммуникации 104
Выводы 105
Глава 4. Интертекстуальные знаки бардовской песни 107
4.1. «Ядерные» тексты культуры 107
4.2. Тексты, прецедентные в 60-90-е годы 118
Выводы 126
Глава 5. Синтактика бардовской песни: синтактико-семантический анализ 128
5.1. Бардовская песня в ряду синхронных феноменов: к постановке проблемы 128
5.2. Блатная песня. Фрагменты языковой картины мира: опыт описания 141
5.3. Рок-песня: мир в зеркале рок-поэзии 148
5.4. Творчество В. Высоцкого и Б. Окуджавы: индивидуальные вариации бардовской картины мира 157
5.4.1. Фрагменты поэтической картины мира В. Высоцкого 157
5.4.2. Фрагменты поэтической картины мира Б. Окуджавы 166
5.5. Советская массовая песня: мифотворчество средствами языка 173
Выводы 181
Заключение 184
Библиография 190
- Семиотика как интеграционное учение о знаковых системах
- Особенности репрезентации мираї («чужого» мира)
- Бардовская песня как фатический речевой жанр
Введение к работе
Бардовская песня - феномен русской культуры, получивший широкое распространение в период хрущевской «оттепели» как своеобразная форма протеста против официальной идеологии.
Создаваемая в основном непрофессиональными поэтами и музыкантами, обычно людьми естественно-технических специальностей (биологи, медики, геологи, математики, инженеры), бардовская песня с момента рождения сопровождается эстетическими упреками (причем даже со стороны признанных ею же авторитетов - Александра Кушнера, Бориса Чичибабина, Давида Самойлова).
Тем не менее, в немногочисленных пока работах, посвященных этому жанру, приводятся данные об огромном количестве поклонников бардовской песни: «Авторская песня - одно из самых мощных и ярких общественных движений в Советском Союзе с конца 50-х до начала 90-х годов. Рост числа и численности клубов любителей авторской песни и песенных фестивалей за эти годы просто фантастический, и это несмотря на противоборство Советской власти, доходившее до репрессий. <...> В 70-е, до середины 80-х годов Московский городской клуб имел кустовую структуру: порядка 30-ти кустов, насчитывающих от единиц до двух десятков групп (компаний) каждый. В каждую группу входило от 10-ти до 50-ти человек. Численность Московского городского клуба доходила до 10-ти тысяч человек. Подмосковные песенные слеты при всем старательном ограничении количества участников собирали на рубеже 70-80-х годов до 20-ти тысяч человек, при том что на рубеже 60-70-х - 500 человек. На Волге на фестивале памяти В. Грушина в 1979 г. собралось около 80-ти тысяч человек. Порядка 15-20-ти тысяч собирали слеты под г. Харьковом («Эсхар»). Количество постоянно действующих клубов в различных городах страны доходило до 500. Многие из них организовывали слеты, фестивали, концерты авторской песни, переписывали и распространяли магнитофонные записи. Кроме того, все клубы, их активисты постоянно обменивались информацией между собой. Таким образом, можно предположить, что только активных, организованных, входящих в клубы любителей авторской песни по всей стране было несколько сот тысяч человек, и они составляли
живую, действующую, как минимум, информационную структуру. И самое любопытное, что практически все авторы были в эту структуру включены» [Лорес .].
О природе феномена такой распространенности жанра задумывались (и продолжают задумываться) журналисты, критики и сами создатели бардовской песни. Как правило, все они приходят к мнению об индивидуально-личностном начале бардовской песни, противопоставленном громкому массовому искусству и во многом - поэзии «шестидесятников»: «Мне кажется, что причина ее популярности вот в таком дружественном настрое, в возможности разговаривать с людьми нормальным человеческим языком, рассчитывая в ответ на доверие» [Высоцкий 1988: 119].
При этом, несмотря на то что в настоящее время бардовская песня уже не ассоциируется с запретом, а число ее любителей не уменьшается, филологические исследования этого жанра выглядят крайне скромно. Если с точки зрения литературоведения определенные аспекты бардовской песни все же изучены [Курилов 1999; Аннинский 1999; Соколова 2000; Левина 2002], то лингвистические работы, посвященные данному жанру, практически отсутствуют.
Поэтому актуальность работы определяется необходимостью многостороннего изучения авторской песни и определения ее места в современной русской культуре. Исследование культурного феномена, до сих пор не получившего отражения в науке, предполагает обращение к интегрирующим областям, актуальным в современной науке о языке, - семиотике, когнитивистике, теории интертекста, коммуникативной лингвистике. В работе используется категориальный аппарат данных направлений, включающий понятия картины мира, пространственно-временной организации, прецедентности, речевых жанров, коммуникативных стратегий и тактик.
Объектом исследования являются семантика, синтактика, прагматика, интертекстуальность бардовской песни, рассматриваемой как семиотическое явление.
Предмет исследования - тексты песен, соответствующие основным признакам бардовской песни.
Цель работы - анализ бардовской песни как своеобразно организованной знаковой системы.
В задачи исследования входит:
создать (с опорой на существующие семиотические исследования) адекватную бардовской песне модель описания;
исследовать семантический уровень бардовской песни (фрагменты языковой картины мира);
в рамках прагматического аспекта описать языковое воплощение коммуникативных стратегий и тактик воздействия на адресата;
выявить и систематизировать интертекстуальные переклички бардовской песни;
рассмотреть синтактику бардовской песни (соотношение бардовской песни с синхронными жанрами);
исходя из рассмотренных особенностей бардовской семиотической системы предложить интерпретацию феномена популярности бардовской песни.
Методы исследования предполагают разноаспектный анализ рассматриваемого явления: это и общенаучный метод наблюдения, обобщения и сравнения; и когнитивное исследование, моделирование объекта, метод концептуального анализа; элементы методов речежанрового анализа; интертекстуальный анализ; обзорно-фактологическая подача анализируемого материала и исторический экскурс в эпоху «оттепели».
Материал исследования
На данный момент не существует четкого определения бардовской песни -явления, относимого к различным традициям, жанрам и периодам времени [Кури-лов 1999; Лорес .]: «очень трудно назвать существенный признак, позволяющий надежно провести раздел между авторской песней и другими песенными жанрами. Многие светлые умы бились над этой задачкой, но только запутали себя и других» [Сухарев ]. Исследователи и составители сборников относят к бардовской песне самые разнообразные тексты, в том числе положенные на
музыку стихи русских поэтов (Пушкина, Мандельштама, Цветаевой и др.), сонеты Шекспира, переведенный шотландский фольклор, популярные тексты рок-поэзии [Авторская песня. Антология 2004], так как в советское время основным принципом определения авторской песни являлся социальный: «В самом деле, почему «Гренада» - авторская песня, а «Каховка» - нет? Стихи в обоих случаях написаны М. Светловым, тема их одна и та же: гражданская война. Говорить, что какое-то из этих стихотворений лучше другого, сложно. Если б даже мы провели сравнительный литературный анализ. Может быть, дело в музыке? Но и музыкальное решение обоих произведений схоже. Обе песни, что называется, народ стал петь в быту. Почему же тогда «Гренада» относится к авторской песне, а «Каховка»- нет? Потому что «Гренаду» написал композитор-любитель? Это ближе к правде. В действительности потому, что «Гренаду» написал композитор-любитель, не поддерживаемый официальной властью, т.е. для общественного движения КСП- свой. Это очень любопытно: М. Светлов, как автор «Гренады», свой поэт; а как автор «Каховки» - чужой, официальный, государственный» [Ло-рес ]. С распадом тоталитарного режима жанр перестает быть протестным по своей сути и его границы становятся еще более неявными.
При этом в научных и критических работах существует стремление как-то упорядочить тексты, образующие дискурс бардовской песни. Так, Д.А. Сухарев выделяет «элитарную» разновидность бардовской песни (на стихи М. Цветаевой, И. Бродского, Аре. Тарковского, С. Парнок и др.); Ю. Лорес говорит о поэтической (Б. Окуджава) и студенческой (Ю. Визбор) традициях жанра, Дм. Курилов различает лирическую (Б. Окуджава) и эпическую (В. Высоцкий) бардовскую песню, Е. Соколова - «песню друзей» и «творчество философов, созерцателей». Кроме того, практически во всех исследованиях указываются специфические традиции «мэтров», основателей жанра: Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Кима, А. Галича.
В связи с такой неопределенностью исследуемого феномена в диссертационном сочинении принято рабочее определение бардовской песни, составленное
на основе выделяемых в литературе критериев [Высоцкий 1988; Курилов 1999; Лорес .; Кофанова 2002]:
триединство поэта, композитора, исполнителя в лице Автора;
доминирование поэтической составляющей бардовской песни;
особая атмосфера исполнения (в кругу близких друзей, где Автор равен Слушателю, где каждый является творцом, исполнителем и слушателем в равной мере);
временное ограничение (1960-е - начало 1990-х).
При этом исследователи отмечают неравнозначность данных признаков: важнейшими, жанрообразующими называются второй и четвертый, тогда как первый и третий могут в известных пределах нарушаться [Лорес «Без триединства тоже ничего. Юлий Ким не становится хуже, когда поет не под собственные мелодии, а под музыку Геннадия Гладкова или Владимира Дашкевича. Неслабые бардовские песни получились у московского врача и ленинградской учительницы в "Иронии судьбы", а там куча народу участвовала. В творчестве Александра Дулова - в его выборе, интерпретации поэзии - куда больше личностного, чем у иных триединых, и так же личностно работают с книжными стихами многие другие барды, в том числе авторы последней генерации, чьи имена пока не у всех на слуху» [Сухарев ].
Поэтому для анализа были отобраны песни, соответствующие всем критериям или двум основным (исследовались тексты, музыка к которым написана не автором слов, а также тексты, время создания которых выходит за рамки установленного периода).
Одной из проблем, связанных с изучением авторской песни, как известно, считается отсутствие единого общепринятого термина, обозначающего данный феномен культуры. Авторская, бардовская, самодеятельная, туристская песня -вот наиболее распространенные номинации одного и того же явления. Каждое из перечисленных обозначений подчеркивает определенную особенность этого крайне неоднородного феномена. Так, термин авторская песня акцентирует внимание на индивидуально-личностном начале текстов и, по-видимому, больше
подходит для обозначения песен бардов-поэтов, родоначальников жанра. К настоящему времени, по нашему наблюдению, в традицию филологического описания творчества В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича входит именно термин авторская песня [Курилов 1999; Соколова 2000; Левина 2002; Абельская 2003]. В названии самодеятельная песня подчеркиваются сходные с фольклорными особенности бытования (как известно, рассматриваемый феномен являлся своеобразным фольклором интеллигенции), а также тот факт, что авторами бардовской песни по большей части являлись так называемые любители, а не профессиональные поэты и композиторы. Наименование туристская песня закрепилось за рассматриваемым явлением в связи с одной из сфер функционирования жанра: традиционно бардовская песня - это песня походная, помогающая людям объединиться в трудных условиях. Название бардовская песня, как нам представляется, связано с искусством песни вообще. На наш взгляд, этот термин наиболее удачен по нескольким причинам. Во-первых, бардами, как известно, называли себя сами создатели этого жанра. Во-вторых, «высокопарный» термин кельтского происхождения соответствует ерническому, ироническому настрою бардовской культуры в целом. В-третьих, мы видим в этом древнем, имеющем богатую культурную традицию названии выражение нашего представления о близком к фольклорному бытованию рассматриваемого жанра: неважно, кто является автором текста, главное - особая атмосфера исполнения. Кроме того, известные и признанные исследователи жанра, своего рода классики бардистики - Дм. Сухарев и Л. Аннинский -пользуются терминами барды, бардовская песня. Предпочитая название бардовская песня, мы понимаем его условность и употребляем термины бардовская и авторская как синонимы.
Таким образом, материалом исследования стали тексты, соответствующие основным признакам бардовской песни, - «классические» бардовские песни. Для анализа было взято 246 песен 51 автора.
Кроме «классической» разновидности бардовской песни, мы анализировали некоторые тексты бардов - поэтов (Б. Окуджавы, В. Высоцкого); это произведения с выраженным индивидуальным стилем, благодаря которому такие тексты воспринимаются любителями бардовской песни как «канонические». В связи с
этим нарушается критерий 3) «особая атмосфера исполнения», когда Автор равен Слушателю.
Также, для описания синтактики жанра, в работе рассматриваются существующие одновременно с бардовской песней музыкальные направления, поэтому анализируются тексты блатной песни (фольклорные и авторские); тексты рок-песен, тексты советской массовой песни, популярные в исследуемый временной промежуток. Отметим, что данные жанры описаны в филологической литературе крайне скупо, поэтому в нашей работе приняты условные определения, приведенные в главе 5.
Научная новизна исследования связана с практически полным отсутствием традиции лингвистического описания бардовской песни: в диссертации впервые представлен комплексный лингвосемиотический анализ данного культурного явления, включающий описание языковой картины мира, коммуникативных стратегий и тактик воздействия на адресата, интертекстуальных перекличек бардовской песни. Жанр рассматривается как сверхтекстовое единство; предложено исследование «ядра» жанра - «классической» разновидности бардовской песни, отграниченного от периферии - текстов бардов-поэтов.
Теоретическая значимость исследования
В диссертации предложена модель комплексного лингвистического анализа явления культуры. Общесемиотический подход позволяет с разных сторон раскрыть природу изучаемого феномена, осознать его специфику. Исследование интертекстуальности как одной из граней знаковой системы дает возможность более глубоко изучить семантику, синтактику и прагматику жанра.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов работы в общих и специальных филологических и культурологических курсах. Возможно, что выводы и обобщения, сделанные в диссертации, заинтересуют исследователей, занимающихся изучением феномена художественной ценности текста, проблемой жизнеспособности и эволюции жанров.
Положения, выносимые на защиту
Бардовская песня - парадоксальное явление русской культуры, одна из форм «языкового сопротивления» тоталитарному новоязу. Элитарность и массовость, фольклорная и литературная традиции, герметичность и открытость, единое семантическое пространство и одновременно крайняя неоднородность корпуса текстов - все это требует многоаспектного описания данного культурного феномена. Семиотический анализ, включающий четыре уровня (аспекта) - семантику, син-тактику, прагматику и интертекстуальность, представляется наиболее адекватным природе исследуемого объекта.
Модель мира бардовской песни в основных своих чертах сходна с мифопоэти-ческой моделью, с ее четкой оппозицией «своего» и «чужого» и одновременно утверждаемой гармонией природы и человека, цикличным временем, соотносимым с циклами природы. Вместе с тем авторская песня творит новый миф, в котором «идеальное место» достижимо (хотя и не всегда достигаемо) и находится в реальном мире, а «идеальное время» периодически повторяется в земной жизни героя. Архаическая модель мира может быть рассмотрена как форма языкового сопротивления тоталитарному мироустройству: вечные гуманистические идеалы определяют ценностную шкалу жанра в противовес античеловечности и размытости этических норм тоталитарного государства.
Прагматика бардовской песни связана с фатической природой исследуемого жанра и свойственными ему коммуникативными функциями: контактоустанавли-вающей, призывной, функциями пароля и самовыражения автора. Соответственно, две основные коммуникативные стратегии бардовской песни - стратегия кооперации и стратегия самопрезентации, каждая из которых представлена набором тактик.
Бардовская песня, рассматриваемая как единый текст, знак культурной жизни, может быть названа «сильным» текстом, энергия которого поддерживается
«ядерными» текстами и модными в эпоху расцвета бардовской песни произведениями, а также перекличками с каноническими для жанра песнями и текстами поэтов «своего» круга. Вместе с тем насыщенность формулами и реминисценциями позволяет жанру функционировать как особого рода код, понятный в полной мере лишь «своим».
Бардовская песня перекликается с другими формами «языковой самообороны» - блатной песней и рок-поэзией, образуя своеобразный «протестный» дискурс, построенный на оппозитивных принципах и противопоставленный дискурсу советской массовой песни. Принципиальная особенность последней - отсутствие противостояния: один «рай» сменяет другой, повторяя его в более совершенном виде, это борьба «хорошего» с «лучшим». Соотношение «классической» бардовской песни с творчеством выдающихся бардов-поэтов (В. Высоцкий, Б. Окуджава) рассматривается как со-противопоставление «школы» - системы правил, стереотипов - и идиостиля поэта.
Противопоставленность тоталитарной массовой культуре и связанная с этим подчеркнутая элитарность бардовской песни, «справедливая» и понятная модель мира, построенная на классических оппозициях, эффективное воздействие на адресата, постоянный энергообмен с прецедентными текстами, сохранение целостности и единообразия текстов за счет перекличек с каноническими для жанра песнями и текстами поэтов «своего» круга - все это позволяет объяснить причины популярности и жизнеспособности жанра бардовской песни.
Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии.
Семиотика как интеграционное учение о знаковых системах
В лингвистике существует два значения термина «семиотика»:
1) научная дисциплина, изучающая общее в строении и функционировании различных знаковых (семиотических) систем, хранящих и передающих информацию, будь то системы, действующие в человеческом обществе (язык, явления культуры, обычаи и обряды, кино), в природе (коммуникация в мире животных) или в самом человеке (например, зрительное и слуховое восприятие предметов, логическое рассуждение);
2) система того или иного объекта, рассматриваемая с точки зрения семиотики в первом значении [ЛЭС 1990: 440].
Уже из самого определения следует, что для современной науки характерно широкое понимание семиотики: по сути, практически любая форма человеческой деятельности в той или иной мере может быть рассмотрена как знаковая система.
Так, Вяч. Вс. Иванов пишет, что «область знаков, символов и текстов, состоящих из знаков и символов, чрезвычайно широка» и в некотором смысле «совпадает со всей духовной культурой» [Иванов 1999: 628]. Поэтому существует огромное количество научных трудов, посвященных семиотике [Лотман 1973, 1981; Левин 1998; Иванов 1999; Степанов 2001; Барт 2004]. Анализируя все это множество разноплановых исследований, можно сделать вывод о том, что различные культурные феномены и направления искусства функционируют по законам знака.
Уже Ч. Моррис, один из основоположников научного знания, призванного объединить гуманитарные и естественные методы, предложил рассматривать эстетику как часть семиотики [Моррис 1983], установив своего рода традицию широкого понимания знаковой системы.
Среди российских и западных исследователей с середины XX века и до настоящего времени распространена символическая теория сознания. Так, Э. Кассирер пишет о том, что способность создавать символы - одна из характерных особенностей человека; любые виды культуры представляют собой знаки, коды [Кассирер 1990]. Л.С. Выготский обосновал теорию развития культуры как системы знаков, которые служат для управления поведением. В книге «Развитие высших психических функций» исследователь анализирует реликты древних форм поведения современного человека, включенные в систему высших форм поведения (бросание жребия, счет на пальцах). Будучи не в состоянии сразу, пользуясь лишь своими собственными, внутренними ресурсами, принять решение, посчитать и т. д., человек прибегает к знакам внешнего мира, которые помогают ему «управлять поведением». При этом использование сигналов характерно не только для человека, но и для животных, тогда как «сигнификация, то есть создание и употребление знаков» является основной деятельностью человека, отличающей его от животного. Наибольшее же влияние на становление человека оказала такая знаковая система, как язык [Выготский 1966:111].
К. Леви-Стросс видит назначение семиотики в том, чтобы человечество смогло понимать себя, а это необходимо для сохранения вида. С помощью лингвистических методов исследователь предлагает изучать такие знаковые структуры, как мифы, ритуалы, социальные установления, и приходит к выводу, что строение культуры подобно строению языка [Леви-Стросс 1983].
По М. Бахтину, все виды человеческой деятельности, в том числе и литература, направлены на «смыслы», которые выражаются в знаках: «каковы бы ни были эти смыслы, они должны принять.. .знаковую форму, видимую и слышимую нами» [Бахтин 1975: 406].
Особенности репрезентации мираї («чужого» мира)
Конституирующий семантический признак мира], на наш взгляд, может быть определен как чужое. Мирі несет отрицательный заряд; это обычное, «официальное» место нахождения героя, те место и время, которые героя не устраивают, но в которых по разным причинам он вынужден существовать.
Негативность мираї для героя подтверждают эпитеты: ветер колючий и злой (Михалев 201), будничная хмарь (Митяев 1), школа постылая (Анчаров 2), на заплеванном мысу (Арно 13), черные города (Визбор 3), хмурые дни (Визбор 17), тяжелый день (Клячкин 3).
Мирї; по нашему наблюдению, формируется такими семантическими полями, как холод, темнота и цивилизация. Эти семантические поля, связанные между собой конституирующим признаком чужое, определяют смысловое наполнение категорий пространства, времени, образов персонажей, а также цветовую символику.
Категория времени
Категория времени мира] определяется двумя семантическими парадигмами - природное время и социальное время. Отметим, что граница между этими и другими обозначаемыми нами парадигмами весьма условна, так как компоненты времени (а также других категорий) связаны с психологическим восприятием основного персонажа.
Природное время в миреї опознается по следующим маркерам:
-темное время суток и природные явления, сопутствующие темному времени суток: ночь, по ночам, темно, темнота, тьма, мгла, впотьмах (на улице - вьюга, зима, ночь (Зайцев 2), в комнате промозгло темно (Бабенко 1);
-холодное время года и природные явления, соответствующие холодному времени года: зима, осень, холод, мороз, метели, лед, заморозки (ветер...колючий и злой (Михалев 20), лупит ветер по голове кулаками снежной пурги (Круш 15);
-психологическое состояние человека, связанное с темным временем суток и холодным временем года: в черном хаосе сна (Ширяев 2), осенняя печаль (Кукин 4), хмурые дни (Визбор 17), и холодно, и ветер, и сумерки в глазах (Кукин 12).
Здесь и далее цифра в скобках соответствует номеру песни в списке цитируемых текстов Маркерами социального времени, по нашему наблюдению, выступают обозначения праздничных дат и глобальных временных отрезков: среди иных красивых дат и юбилеев (Афанасьев 1), праздниками календарь уже не трогает души (Митяев 1); эпоха непрухи, звезда невезенья (Визбор 9), у этой эпохи свирепая похоть (Анчаров 4), эпоха недорода (Арно 11), в лапах «века-волкодава» (Та-таринов 1).
Как видно из анализа языковых реализаций, обе рассмотренные семантические парадигмы времени входят в состав всех выделенных семантических полей мираї - холод, темнота, цивилизация. Так, обозначения темного времени суток формируют семантическое поле темнота, холодного времени года - холод, вся семантическая парадигма социальное время относится к семантическому полю цивилизация. При этом названные семантические поля находятся в неразрывном единстве: когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди (Городницкий 1) - холод, темнота, будничная хмарь (Митяев 1) - цивилизация, темнота.
Бардовская песня как фатический речевой жанр
В филологических работах устоялось мнение, что песня практически любого жанра может быть рассмотрена как речевое произведение, причем коммуникативные цели песен различных жанров оказываются во многом схожими между собой [Соколова 2002; Норман 2004; Дьяконова, Стернин 2005].
Как уже отмечалось в главе 1, большинство песен массовых жанров является средством общения той или иной группы людей, обладает суггестивной и про-нологической функцией, предполагающей закрепление определенного стереотипа поведения, функцией физиологической и психологической разрядки, идентификации с себе подобными, рекреативно-гедонистической, связанной с получением удовольствия от слушания музыки, эстетической, предполагающей получение эстетического наслаждения, а также эскапистской - функцией ухода от реальности [Шостак 1996; Норман 2005]. Тем не менее, каждый песенный жанр располагает особыми средствами достижения коммуникативных задач.
Бардовская песня, число любителей которой не уменьшается со времени ее создания, по-видимому, обладает достаточно эффективным механизмом воздействия на адресата. Исследователи отмечают особую важность филологического изучения коммуникативного аспекта бардовской песни, по причине того что в песнях этого жанра основную смысловую нагрузку несет слово, поэтическая составляющая, а не музыка и не особые эффекты исполнения, как в других музыкальных направлениях (роке, популярной музыке) [Соколова 2002; Дьяконова, Стернин 2005].
Бардовская песня практически всегда подразумевает собеседника: Давай с тобой поговорим (Митяев 9), Манъка, как твои дела? (Анчаров 1). При этом адресат и автор чаще всего предстают в неразрывном единстве (как уже отмечалось, одним из жанрообразующих признаков бардовской песни является неразличение исполнителя и слушателя: каждый член «своего» круга является носителем бардовского языка, владеющим сверхтекстом бардовской песни). В реальной ситуации бытования бардовская песня звучит как обращение к каждому, кто ее понимает. Причем оказывается не столь важным, сидит ли адресат в кругу друзей у костра, или находится в зале, или даже прослушивает песни в записи.
В филологической литературе обозначены две основные коммуникативные задачи этого песенного направления: 1) средство дружеского общения по душам среди единомышленников, способ проведения времени в кругу «своих»; 2) консолидирующая функция - функция объединения людей в трудных, тяжелых условиях [Дьяконова, Стернин 2005: 278-279]. Эти коммуникативные задачи являются общими для всех массовых музыкальных жанров [Шостак 1996]: во-первых, изначально камерная, бардовская песня воспринимается как особый код, метаязык, понятный лишь посвященным; во-вторых, это своеобразный пароль для людей, находящихся вдалеке от дома - в экспедициях, походах. На наш взгляд, могут быть добавлены и такие коммуникативные задачи бардовской песни, как призывная - функция вовлечения новых носителей бардовской культуры, расширения круга «своих», а также функция авторского самопознания. Первая задача является конкретизацией присущей всем массовым музыкальным жанрам суггестивной функции (функции вовлечения в определенный круг и закрепления стереотипа поведения), вторая позволяет назвать бардовскую песню жанром, продолжающим русскую поэтическую традицию [Курилов 1999; Тарасов 2005].
Исходя из перечисленных коммуникативных задач, на наш взгляд, бардовская песня может быть обозначена как разновидность фатического общения, жанры которого характеризуются ориентацией на «своего» читателя (слушателя), включением в себя образа идеальной аудитории [Чернышова 2004]. По замечанию исследователей, в современном понимании фатика имеет определенные цели [Чернышова 2004]: целенаправленность фатического общения выражается в терминах стратегий, таких как стратегии кооперации [Виноградов 2000 lib.socio.msu.ru], стратегии фатического акта [Клюев 2002]; а также в определении функций: контактоустанавливающая функция, функция максимального приближения слушающего к личности говорящего [Винокур 1993].