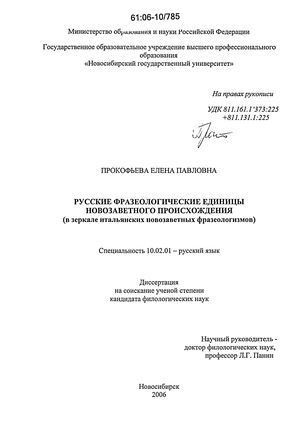Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. НОВОЗАВЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ СВЯЗЬ С ИСТОЧНИКОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 13
1.1. История изучения фразеологических единиц библейского происхождения 13
1.1.1. Определение единиц библейского происхождения и их границ 13
1.1.2. Подходы к изучению единиц библейского происхождения 19
1.1.3. Факторы, повлиявшие на своеобразие единиц библейского происхождения в русском и итальянском языках 24
1.1.4. Выводы 27
1.2. Языковые источники новозаветных фразеологических единиц. 29
1.2.1. О роли церковнославянского и латинского языков в формировании русской и итальянской языковых культур 29
1.2.2. Русские и итальянские новозаветные фразеологические единицы по соотнесенности с языковыми источниками 35
1.2.3. Выводы 46
1.3. Фразеологические единицы по структурно-семантичекои соотнесенности с прототипами из текстов нового завета 48
1.3.1. Фразеологические единицы русского языка по структурно-семантической соотнесенности с прототипами из текстов Нового Завета 48
1.3.2. Фразеологические единицы итальянского языка по структурно-семантической соотнесенности с прототипами из текстов Нового Завета 58
1.3.3. Выводы 67
1.4. Новозаветные фразеологические единицы русского языка в зеркале соответствующих единиц итальянского языка 69
1.4.1. Новозаветные фразеологизмы, имеющие прототипы в тексте Нового Завета 69
1.4.2. Фразеологизмы, образованные путем мотивировки образом 78
1.4.3. Безэквивалентные новозаветные фразеологизмы 84
1.4.4. Выводы 85
1.5. ВЫВОДЫ 88
ГЛАВА II. НОВОЗАВЕТНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 91
2.1. Фразеологическая картина мира 91
2.1.1. Научная и языковая картины мира 91
2.1.2. Фразеологическая картина мира и ее свойства 95
2.1.3. Схема фразеологической картины мираР.Х. Хайруллиной 102
2.1.4. Выводы 104
2.2. Русская новозаветная фразеологическая картина мира.. 106
2.2.1. Тематический блок «Человек» 106
2.2.2. Тематический блок «Человек и Вселенная» 115
2.2.3. Новозаветная фразеологическая картина мира в русском языке 119
2.3. Итальянская новозаветная фразеологическая картина мира 125
2.3.1. Тематический блок «Человек» 126
2.3.2. Тематический блок «Человек и Вселенная» 134
2.3.3. Новозаветная фразеологическая картина мира в итальянском языке... 138
2.4. Русская новозаветная фразеологическая картина мира в зеркале итальянской 141
2.4.1. Из истории русско-итальянских отношений 141
2.4.2. Русская новозаветная фразеологическая картина мира на фоне итальянской 146
2.4.3. Выводы 164
2.5. ВЫВОДЫ 166
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 168
БИБЛИОГРАФИЯ 173
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Словник новозаветных фразеологизмов русского языка 198
- Определение единиц библейского происхождения и их границ
- Русские и итальянские новозаветные фразеологические единицы по соотнесенности с языковыми источниками
- Научная и языковая картины мира
Введение к работе
Вторая половина XX в. характеризуется усилением интереса к социальной стороне языка, к освещению культурно-исторических ценностей народов, хранилищем которых являются национальные языки, а их создателем - конкретная языковая личность. На смену имевшим недавно место стремлениям обезличить и уравнять культурные ценности разных народов пришло понимание глубокого изучения их нравственного опыта, морально-этического потенциала, феномена человека в культуре и в жизни общества в целом. Происходящие в последние десятилетия процессы духовного возрождения народов и роста их национального самосознания выдвинули в качестве первостепенной задачу выработки принципиально новой технологии гуманизации научного знания. Это в полной мере относится и к лингвистике.
Язык, является, с одной стороны, инструментом познания мира человеком и хранилищем индивидуального и общественного опыта, восприятия и оценки окружающей действительности, с другой, отражает мировосприятие конкретной этнокультурной общности. В языке (и не только в нем) находят выражение национальный характер, психический склад народа, его история и культура.
Другой тенденцией конца XX в. стало возрождение религиозной жизни в России. Влияние Библии, ее переводов на формирование, развитие, а в ряде случаев даже на сохранение языков народов, приобщенных к христианской культуре, трудно переоценить. В течение длительного исторического периода библейская символика закреплялась в сознании людей. Множество слов, устойчивых сочетаний и афоризмов возникло на базе текста Библии и библейских сюжетов путем использования собственных строительных средств по иноязычным моделям или без них (на основе мотивировок-стимулов: реалий, отправных идей, образов и т.п.) как достояний иноязычных народов: они образовали новые семантические целые и имели регулярный характер употребления [Солодухо 1977:18]. Обращение общества к христианским ценностям отразилось на лексическом и фразеологическом составе современного русского языка. Распространенным стало апеллирование к Богу и христианским понятиям, употребление библейских реминисценций и вовлечение в текст религиозных терминов.
Корпус библеизмов занимает не последнее место во фразеологическом фонде русского языка. Слова и выражения, обязанные своим происхождением Священному Писанию, широко представлены в фундаментальном лексикографическом труде В.И. Даля «Толковый словарь живого великорусского языка». В работах Н.М. Шанского, A.M. Бабкина, Р.П. Попова, В.М. Мокиенко, Э.М. Солодухо и др. рассматривались проблемы происхождения, установления источника библеизмов, их классификации и варьирования; уделялось определенное внимание и этимологии библейских выражений, тщательно анализировались библеизмы с архаичными значениями и формами слов. Изучению библеизмов посвятили статьи Ф.А. Краснов, П.Д. Филиппова, З.И. Семенова, В.Л. Смирнов, Н.А. Мещерский, В.В. Чедиа, Б.С. Шварцкопф, Ю.А. Романов, С.С. Волков.
В 1990-х годах, в связи с серьезными изменениями в общественной и политической ситуации в России, возрастающей ролью Церкви в жизни страны, обращением к библейским текстам широкой читающей публики, повышенной активностью использования библейской лексики в художественных и публицистических текстах, интерес к библеизмам усилился. Поскольку до сих пор не существует полного собрания крылатых слов, восходящих к Священному Писанию, а необходимость подобного собрания очевидна, становится понятным стремление исследователей заполнить эту лакуну: появляются статьи, объясняющие библейские выражения (Гвоздарев 1992, Горячева 1991), а также предпринимаются попытки создания библейских словарей-справочников (Горбачев 1991, Кондратьев 1991, Матвеева, Макаров 1993, Матвеева 1994). Вызывают интерес лингвистов проблемы функционирования библейских ФЕ в художественных и особенно в публицистических текстах (Литвиненко 1991, Верещагин 1993, Дементьева 1993, Андреева 1993), а также проблемы сопоставительного изучения библеизмов (Степанова 1991, Лилич, Мокиенко, Степанова 1993, Котова 1993, Лилич 1994). Некоторым аспектам диахронического изучения библеизмов посвящена работа А. Бириха и И. Матешича. Вопросы переводов и толкования Библии в славянских языках рассматривались в сборнике «Переводы Библии и их значение в развитии духовной культуры славян», включающем в себя материалы международной библейской конференции 1990г., посвященной 70-летию Русской библейской комиссии, а также в сборнике «Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских народов».
Проблемы классификации библеизмов затрагивались в работе А.В. Кунина, были подробно рассмотрены Э.М. Солодухо, И. Хразиньской, Ю.А. Гвоздаревым, С.Г. Шулежковой и др.
Все люди вовлечены в единый мировой исторический процесс, но их представления формируются под влиянием различных факторов. Следовательно, ценности, общие для всех народов, располагаются в различном соотношении. Эта особая структура общих для всех народов элементов и составляет национальный образ, национальную модель мира.
Фразеологическая картина мира - это универсальная, свойственная всем языкам, образная система особых языковых единиц, передающих особенности национального мировидения. Она характеризуется отличительными признаками, среди которых наиболее важными являются универсальность, антропоцентризм, экспрессивность, включающая в себя образность и модальность. Такая картина мира фиксируется фразеологическими средствами языка и рассматривается как языковой феномен национально-культурного наследия. Проблема универсального и национального во фразеологии рассматривается в работах Э.М. Солодухо, Ю.П. Солодуба, Д.О. Добровольского и др. Сопоставительному изучению русской фразеологии посвящены многочисленные публикации, монографии,
диссертационные исследования. Н.Н. Амосова, Е.Ф. Арсеньева, Ф.М. Белозерова, Н.Л. Гоголицына, А.В. Кунин, Н.Ю. Пятницкая, О.П. Иванова изучали русскую фразеологию в сравнении с английской; С. Воинова, Г. Петрова - с болгарской; Чыонг Донг Сан - с вьетнамской; Г.З. Черданцева - с итальянской; М.М. Копыленко - с казахской; Д. Дашдаваа - с монгольской; Л.В. Ковалева, Л.С. Куркова, А.Д. Райхштейн, И.И. Чернышева - с немецкой; А.Г. Гринева, P.M. Козлова - с польской; Л.К. Байрамова - с татарской; Р.Х. Хайруллина - с башкирской; Г. Салямов -с узбекской; СИ. Головащук, Л.Ф. Миронюк, Э.Н. Покровская - с украинской; А.Г. Назарян, Н.Е. Каик - с французской и др. В основе фразеологической картины мира лежит образное мировидение, формирующееся в процессе коллективного многовекового постижения и преобразования человеком окружающей его среды. Она воссоздает картину мира в сфере обиходно-бытового общения людей, поэтому наиболее близка наивной. Усваивая фразеологизмы, мы воспринимаем фразеологическую картину мира, а потом создаем ее в процессе использования фразеологизмов в речи. «Строго говоря, у каждого индивида каждой конкретно-исторической эпохи своя собственная картина мира, единственная и неповторимая, как и все живое. Она конкретизируется им в результате его непосредственных контактов с миром, из наличного материала культуры, в которой заложены все известные образцы и варианты картины мира на базе интуиции о мире, которые пробуждаются под влиянием культуры или актов жизнедеятельности» [Постовалова 1988:45]. Новозаветная фразеология также является частью фразеологической картины мира, она отражает особенности мировоззрения, привнесенные в картину мира христианством. Актуальность темы данного исследования определяется следующим. В русском языке, в разных его стилях, слова, фразеологизмы и афоризмы библейского происхождения имеют длительную историю употребления. Многие библеизмы используются в русской художественной литературе и публицистике, особенно XIX в., а также в живой разговорно-обиходной речи, хотя за семьдесят лет советской власти религиозный смысл некоторых из них «выветрился»; часть библеизмов, составляющих золотой фонд русской и международной фразеологии и афористики, вследствие изгнания Библии из жизни россиян стала забываться. Но в последние годы в обществе возрос интерес к Церкви, религии и тем самым к Библии, и делаются попытки возвратить без искажений к жизни слова и стоящие за ними высоконравственные понятия. Исследование русских библеизмов в сопоставлении с аналогичными единицами других языков дает возможность выявить их национальное своеобразие и специфику мировосприятия народа, что важно для преподавания русского языка в иностранной аудитории. Хотя в последние годы появился ряд исследований некоторых групп библеизмов в сопоставлении с соотносительными единицами других языков, русские библеизмы на фоне единиц итальянского языка монографически еще не изучались. Объектом исследования в диссертационном сочинении являются русские и итальянские фразеологизмы новозаветного происхождения — языковые единицы, пришедшие из текстов Нового Завета и употребляющиеся в современных языках, как правило, в переносном значении. Такое сужение объекта исследования вызвано тем, что Новый Завет по преимуществу является исторической основой европейской этики, а его образная система и символизм дают больше простора для метафоризации языка и образования фразеологических единиц. Предмет исследования - системное описание новозаветных фразеологизмов русского языка и фразеологической картины мира, реконструированной на их основе, а также выявление специфики данных единиц на фоне соотносительных фразеологизмов и фразеологической картины мира итальянского языка. Цель работы - осуществить описание новозаветных фразеологических единиц в системно-семантическом и лингвокультурологическом аспектах на фоне новозаветных фразеологических единиц итальянского языка. Конкретные задачи исследования: 1) выявить русские фразеологизмы новозаветного происхождения и соответствующие им по источнику происхождения итальянские языковые единицы и представить их в виде словников в приложении; 2) определить лексический состав новозаветных фразеологических единиц, установить источники их происхождения и определить тем самым степень участия «языков-консервантов» (Л. Г. Панин), церковнославянского и латинского, в образовании фразеологического фонда русского и итальянского языков; 3) на основе анализа новозаветных фразеологических единиц с точки зрения соответствия их прототипам выявить их семантические и структурные изменения; 4) опираясь на факты фразеологического фонда соответствующих языков, рассмотреть русские новозаветные фразеологические единицы на фоне соответствующих единиц итальянского языка, определить их специфику и особенности в освоении текста Нового Завета русским и итальянским народами; 5) реконструировать русскую и итальянскую фразеологические картины мира на основе значений новозаветных фразеологизмов этих языков; 6) рассмотреть реконструированную русскую новозаветную фразеологическую картину мира на фоне итальянской новозаветной фразеологической картины мира, выявив тем самым специфику отражения в них мировоззрения русского и итальянского народов. Методы и приемы исследования. В ходе анализа новозаветных фразеологизмов кроме общенаучных методов наблюдения, систематизации материалов были использованы также сравнительно-исторический, сопоставительный и интерпретационный методы. Источником языкового материала послужили: 1)30 фразеологических словарей, словарей крылатых слов и выражений современного русского языка, из которых путем сплошной выборки было извлечено 285 единиц; 2) 4 итальянских и 2 итальянско-русских фразеологических словаря, из которых было извлечено 220 единиц. Полный список источников приведен в конце работы. Научная новизна проведенного исследования состоит в следующем: 1) впервые осуществлен комплексный системно-семантический и лингвокультурологический анализ новозаветных фразеологизмов русского языка на фоне соотносительных итальянских языковых единиц; 2) установлены русские новозаветные фразеологизмы, имеющие соотносительные по происхождению и значению новозаветные фразеологизмы в итальянском языке, и новозаветные фразеологизмы, не имеющие соответствий; 3) путем сопоставления соотносительных по значению и происхождению русских и итальянских новозаветных фразеологизмов выявлены как абсолютные (полные), так и неполные эквиваленты новозаветных фразеологизмов, различающиеся лексическим составом или грамматическими особенностями; 4) составлены словники русских и итальянских новозаветных фразеологизмов (даны в приложении к диссертационной работе); 5) реконструированы русский и итальянский фрагменты фразеологической картины мира, представленные новозаветными фразеологическими единицами; 6) проведено сопоставление картин мира русского и итальянского народов на базе новозаветных фразеологизмов, выявлены их культурологические особенности; 7) в научный обиход введен новый фактический материал, извлеченный из фразеологических словарей русского и итальянского языков, который может стать базой для дальнейшего изучения русских и итальянских новозаветных фразеологизмов. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно включается в актуальную проблематику современных лингво-культурологических исследований, ориентированных на выявление христианских мировоззренческих ценностей. Исследование новозаветных фразеологических единиц расширяет наши знания о картинах мира русского и итальянского языков, реконструированных на основе фразеологических единиц общего источника происхождения - Нового Завета. Фактический материал диссертации и полученные в ней результаты могут быть использованы в дальнейших лингвокультурологических исследованиях. Практическая значимость работы определяется тем, что результаты исследования могут быть использованы в вузовских лекционных курсах фразеологии современного русского языка, лингвокультурологии, в преподавании русского языка как иностранного, а также в переводческой практике. Рекомендации по использованию результатов исследования. Основные положения работы могут быть использованы при изучении национального и универсального в культуре, а также их отражения в языке и картине мира. На защиту выносятся следующие положения: 1. Культурные традиции и мировосприятие народа оказали большое влияние на освоение текста Нового Завета, что нашло свое отражение в различии русского и итальянского новозаветных фразеологических фондов. 2. На формирование новозаветного фразеологического языка повлияли языческие представления, что отразилось на различии новозаветных фразеологических картин мира русского и итальянского языков. 3. В русском языке преобладают фразеологические единицы, образованные на основе выражений, существующих в тексте Нового Завета, в то время как в итальянском языке большее распространение получили новозаветные фразеологические единицы вторичного образования и единицы, образованные на основе новозаветных образов и сюжетов. 4. Фразеологические единицы русского языка, образованные на основе церковнославянского текста Нового Завета, составляют большую часть новозаветного фразеологического фонда русского языка, в то время как фразеологизмы, образованные на основе латинского текста Нового Завета, -лишь незначительную часть новозаветного фразеологического фонда итальянского языка. Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав («Новозаветные фразеологические единицы и их связь с источником происхождения», «Новозаветная фразеологическая картина мира»), Заключения, библиографического списка, включающего 250 наименований, и пяти приложений: «Словник новозаветных фразеологических единиц итальянского языка», «Словник новозаветных фразеологических единиц русского языка», «Новозаветные фразеологические единицы русского языка по структурно-семантической соотнесенности с прототипами из текстов Нового Завета», «Новозаветные фразеологические единицы итальянского языка по структурно-семантической соотнесенности с прототипами из текстов Нового Завета», «Русские и итальянские эквивалентные фразеологические единицы новозаветного происхождения».
Определение единиц библейского происхождения и их границ
В современных исследованиях элементы, пришедшие в язык из Библии, рассматривают в рамках группы языковых единиц - библеизмов. В составе русских библеизмов значительное место занимают фразеологизмы и афоризмы, большая часть которых пришла в русский язык после принятия Христианства на Руси; однако четкого определения, какие единицы относить к библеизмам, до сих пор нет.
Одни исследователи определяют библеизмы как «языковые единицы, заимствованные из Библии или испытавшие семантическое воздействие библейских текстов, употребление которых связано с образным, метафорическим переосмыслением имен персонажей, реалий и сюжетов Библии и других книг Священного Писания» [Оноприенко 1997:3]. То есть языковые элементы, как со структурой словосочетания и предложения, так и отдельные слова. Другие относят к библеизмам устойчивые сочетания (фразеологизмы) и афоризмы, которые «характеризуются рядом признаков, а именно: смысловой законченностью, воспроизводимостью (с возможными вариантами), семантической и стилистической маркированностью (переносным значением, повышенной экспрессивностью, часто принадлежностью к книжному стилю лексики)» [Бетехтина 1995:20].
Нет и четкого представления о природе этих единиц. С одной стороны, в традиционной классификации фразеологических единиц выделяется группа устойчивых сочетаний слов, которые пришли в русский язык извне и употребляются в нем в том же виде, в каком существуют в языке-источнике. Среди этих фразеологических единиц выделяют заимствования из старославянского языка и из книг Священного Писания: избиение младенцев, строить на песке, до скончания века [Шанский 1996:100-108]. Эти единицы и являются библеизмами.
С другой стороны, известность источника происхождения позволяет исследователям считать подобные обороты «крылатыми словами», т.е. устойчивыми изречениями, появившимися в языке из определенного литературного, публицистического или научного источника, или на их основе. «Крылатые слова» характеризуются: 1) связью с источником; 2) раздельнооформленностью; 3) воспроизводимостью; 4) устойчивостью компонентного состава и грамматической структуры (не исключающей вариантности); 5) стабильностью, устойчивостью семантики, закрепленной за данным оборотом в языковом узусе [Шулежкова 1995:21].
Как мы можем отметить, выделение категории крылатых слов как особой категории фразеологии основывается, в первую очередь, на признаке известности источника этих единиц. Но «сама степень известности (осознанности) источника выражения может значительно колебаться: от четкого знания текста (контекста-первоисточника) до смутного представления о принадлежности цитаты» [Шварцкопф 1990:111]. Недостаточное знакомство с конкретными условиями возникновения того или иного крылатого слова приводит к тому, что ассоциации, которые они вызывают в нашем сознании, меркнут, а значение крылатого слова понимается неправильно [Ашукин, Ашукина 1986:6].
Таким образом, библеизмы могут быть отнесены к «крылатым словам и выражениям», так как их связь с источником образования в большинстве случаев очевидна.
Некоторые исследователи предлагают относить библеизмы к текстовым реминисценциям, т.е. осознанным VS. неосознанным, точным VS. преобразованным цитатам или иного рода отсылкам к более или менее известным ранее произведенным текстам в составе более позднего текста. Текстовые реминисценции могут представлять собой цитаты (от целых фрагментов до отдельных словосочетаний), «крылатые слова», отдельные определенным образом окрашенные слова, включая индивидуальные неологизмы, названия произведений, имена их авторов и персонажей, особые коннотации слов и выражений, прямые или косвенные напоминания о ситуациях. [Супрун 1995:17]. Можно говорить о близости или переплетении в нашей памяти хранилищ фразеологизмов, паремий и текстовых реминисценций. Существует достаточно оснований полагать, что некоторые фразеологические выражения возникли из текстовых реминисценций, но затем соответствующие тексты были забыты, и остались только реминисценции (нередко в усеченном виде), которые и входят во фразеологический состав языка [Виноградов 1947:357]. Главное отличие текстовых реминисценций от фразеологизмов в том, что фразеологизмы стремятся к потенциальному замещению слов, а текстовые реминисценции такой тенденции не имеют. [Супрун 1995:26]. Это различие не позволяет относить библеизмы, обладающие характеристиками фразеологизмов, к текстовым реминисценциям.
Русские и итальянские новозаветные фразеологические единицы по соотнесенности с языковыми источниками
При сравнении всего корпуса исследуемых нами фразеологических новозаветизмов русского языка с текстами Нового Завета на церковнославянском и русском языках, мы можем выделить две группы единиц с точки зрения их соответствия языковым источникам.
Первую группу составляют фразеологические новозаветизмы, прототипы которых в церковнославянском и русском текстах Нового Завета идентичны. Фразеологические новозаветизмы, входящие в эту группу, составляют 27% исследуемых единиц русского языка. Например: алчущие и жаждущие (Мф. 5:6), в русском тексте Евангелия от Матфея мы читаем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», и такое же выражение мы находим в церковнославянском варианте: «БЛЖЕНИ ЗлчЙшТи н жлждЙшТи правды: гаки) тій НЛСЫТАТСА», или соль земли (Мф. 5: 13), сравните русский «Вы - соль земли» и церковнославянский «Вы есте соль 7 ШЛУ\» варианты, еще один пример не судите да не судимы будете (Мф. 7: 1); текст на русском языке «Не судите, да не судимы будете» полностью повторяет текст на церковнославянском «Не С8ДЙТЕ, да НЕ сйдйліи ЕЙДСТЕ». Вторую группу составляют фразеологические новозаветизмы, прототипы которых в церковнославянском и русском текстах Нового Завета различаются. Они составляют 73%. Рассмотрим несколько примеров: носить на руках (Мф. 4: 6), так в русском тексте мы читаем: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя», в то время как в церковнославянском варианте этот отрывок звучит следующим образом: «гакш Згглш/иъ свои/иъ пов Ксть w ТЕЕ (со ранйти тАО, И на рйк ъ кбумХтъ ТА». В церковнославянском тексте использовано лово взять, что значит принимать в руки , в то время как в русском тексте употреблен глагол нести, означающий не просто принимать в руки , но взяв, перемещать вместе с собой куда-нибудь . от лукавого (Мф. 5: 37) «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» и «Е8ДИ же слово В ШЕ: ей, ей: ни, ни: ийшше же СЕМ (Я нЕпрТА ни єсть». В церковнославянском тексте использовано слово неприязнь, являющееся образованием второй ступени от глагола прияти любить, благожелательно относиться , в то время как в русском тексте использовано слово лукавый - общеславянское суффиксальное производное от слова лука со значением хитрость, коварство .
Итак, единицы второй группы могут соотноситься с текстом Нового Завета на церковнославянском языке или же с текстом Нового Завета на русском языке. Это позволяет нам разделить их на две группы:
Научная и языковая картины мира
Современная лингвистика исследует языковые процессы в неразрывной связи с потребностями коммуникативной деятельности и с учетом человеческого фактора, когда субъект речи включается в описание языковых механизмов. Основой изучения результатов познавательной деятельности человека и закрепления их в языке является феномен «картина мира». В начале XX в понятие «картина мира» широко использовалось учеными-философами, логиками, а также исследователями частных наук. Однако в последнее десятилетие изучение данного философского понятия получило иное направление, что вызвано изменением общественной модели мира, в которой мир теперь предстает «не как вещевой склад, на полках которого лежат рассортированные по классам предметы и признаки, а как совокупность фактов» [Арутюнова 1987:101].
Исторически понятие «картина мира» возникло в процессе изучения становления человека как разумного существа. Человек воспринимает окружающую действительность как «картину», в которой все предметы и явления мира, а также сам мир, взаимосвязаны, поэтому картина мира является одним из способов структурирования информации об объективной действительности.
Понятие «картина мира» многогранно. Данный феномен имеет длительную историю развития и является объектом изучения философии, логики, культурологии и других наук.
Термин «картина мира» впервые был выдвинут в рамках физики в конце XIX - начале XX вв. Одним из первых этот термин стал употреблять Г. Герц, который понимал под картиной мира «совокупность внутренних образов внешних предметов, из которых логическим путем можно получать сведения о поведении этих предметов» [Герц 1914:53]. М. Планк считал, что в картину мира должны включаться лишь представления, отражающие устройство природы как таковой, независимо от восприятия ее человеком. Он определял научную картину мира как абсолютную модель реального мира, и практическую картину мира как модель, создаваемую языком в ходе познания окружающей действительности на основе своих переживаний. Хотя чувственное восприятие у всех людей различно, «картина мира, мира вещей для всех людей одинакова» [Планк 1958:104-105]. Воссоздание картины мира - это необходимое условие жизнедеятельности человека. «Человек стремится каким-то адекватным способом создать себе простую и ясную картину мира для того, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной ... на эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни» [Эйнштейн 1967:136].
Таким образом, картина мира - это глубинный слой миропонимания человека, созданный в результате двух процессов. Во-первых, в результате опредмечивания, объективирования и осмысления образов мира, лежащих в основе жизнедеятельности человека, и, прежде всего, его практической деятельности, во-вторых, в результате создания, разработки новых образов миров посредством рефлексии объективной действительности [Хайруллина 2001:6]. Если концепция научной картины мира сформировалась сравнительно недавно, то мысль об особом языковом мировидении была сформулирована В. Гумбольдтом еще в начале XIX в. С его точки зрения, понять природу языка и объяснить ее можно, лишь исходя из человека и его окружающего мира. «Постигая предметы, человек сближается с внешней природой и самостоятельно развертывает свои внутренние ощущения в той мере, в какой его духовные силы дифференцируются, вступая между собой в разнообразные соотношения; это запечатлевается в языкотворчестве» [Гумбольдт 1984:104].
Термин «языковая картина мира» впервые ввел в языкознание немецкий ученый Л. Вайсгербер, который отмечал, что в каждом языке содержится особое мировоззрение, что каждый язык составляет единство (целостность) мировоззрения, поскольку он содержит выражение всех представлений, которые каждый народ создает об окружающем его мире, и всех ощущений, которые мир в нем вызывает [Вайсгербер 1993:23-35].
Картина мира - то, каким себе рисует мир человек в своем воображении — феномен более сложный, чем языковая картина мира «та часть концептуального мира человека, которая имеет привязку к языку и преломлена через языковые формы» [Кубрякова 1988:142]. Язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. «Во-первых, в его недрах формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины мира у человека. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, его культуры» [Постовалова 1988:11].