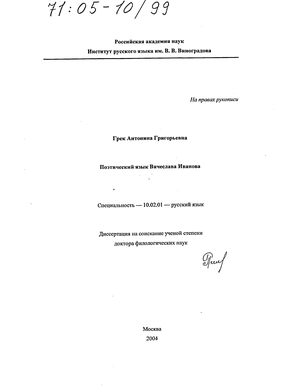Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Архаичность и книжность поэтического язьпса Вяч. Иванова
1 . Об одном из парадоксов эволюции поэтического языка Иванова в его отношении к архаичной традиции 34
2. Книжно-архаичная стилистика сб. «Прозрачность» (лексико-фразеологические средства) 45
3. Составные прилагательные: между архаичной традицией и словотворчеством 61
4. Архаичная поэтика «Послания Иоанна Пресвитера Владарю царю тайного» в «Повести о Светомире царевиче» 105
Глава II. Поэтическая фонетика
1. К проблеме звуковых повторов в поэтическом языке и индивидуальном стиле Вяч. Иванова 123
2. Звукообразы, консонантные сгущения и ударенный вокализм 133
3. Анаграмматические тексты 153
4. Некоторые особенности звуковой организации текстов сб.
«Свет Вечерний» 170
Глава III. Образная символика и «мифопоэтический» слой
1. Сны и сновиденья в поэтическом языке и текстах Иванова 191
2. Хаос — океан — буря—Дионис в текстах «дионисийского» класса 224
3. Рождество, волхвы, пещера, звезда в классе рождественских» текстов 244
4. Жизнь и смерть в циклах «Зимние сонеты» и «Римские сонеты» 263
5. Движение и неподвижность в стихах из «Римского Дневника 1944 года» 275
Глава IV. Грамматика поэтического языка и текстов
1. Корнесловные повторы: структура, семантика, функции 287
2. Местоименная поэтика: я и ты в мелопее «Человек» 326
3. Поэтика некоторых видов бессоюзных соединений: семантика и композиционные функции 364
Глава V. Вяч. Иванов и поэтическая традиция
1. Ивановские «двоесловия» на фоне поэтической традиции 409
2. Ф. Тютчев и Вяч. Иванов: схождения и различия 424
3. А. Пушкин и «пушкинские» цитаты у Вяч. Иванова 439
4. Красота мира в стихах сб. «Кормчие Звезды» в контексте пушкинской темы 457
Глава VI. Поэтика стихотворений. Анализы.
1 .«Неведомому Богу»: мифологический синкретизм и архаичность 472
2. «Днепровье»: элементы поэтической биографии, стилистика, ритмика 485
3. Поэтика двух стихотворений со словом «каникула» 498
4. Авторская молитва («Небесный Царь! Приди к нам, Утешитель...»)... 507
Заключение.. 525
Библиография
Словари 532
Источники... 532
Научная литература 534
Список сокращений 550
- Об одном из парадоксов эволюции поэтического языка Иванова в его отношении к архаичной традиции
- К проблеме звуковых повторов в поэтическом языке и индивидуальном стиле Вяч. Иванова
- Сны и сновиденья в поэтическом языке и текстах Иванова
Введение к работе
Изучению поэтического языка Вячеслава Иванова посвящена данная работа. Один из ярких представителей «Серебряного века» русской культуры, теоретик и глава русских символистов, собеседник многих выдающихся людей и университетский профессор, ученый-классик, историк древностей и переводчик был замечательным поэтом, ср. характеристику Д.П. Святополка-Мирского: «Вячеслав Иванов, большой поэт, изысканный стилист в прозе и один из наших наиболее образованных знатоков классики» [Святополк-Мирский 2002, с.49]. Пять книг лирики Вяч. Иванова, начиная с «Кормчих Звезд» (1903 г.) и кончая «Светом Вечерним» (1949 г.), достаточно полно, хотя и не исчерпывающе, представляют его поэтический язык.
Содержание понятия «поэтический язык» в представлениях и поэтической практике Вяч. Иванова можно определить как язык, взятый в его творческом аспекте. Называя поэта «органом, через который растет язык...» (цит. по [Эткинд 1995, с. 185]), он как бы возвращается к кругу идей В. фон Гумбольдта и его русского последователя А. А. Потебни о языке и творческом начале в нем, к представлениям о первоначальной целостности языка, об органичной связи всех составляющих его частей [Гумбольдт 1984], [Потебня 1976]. Не случайно в читанном Вяч. Ивановым в Баку курсе лекций по поэтике первым идет тезис об онтологии языка и поэтического начала в нем: «1. Язык и поэзия родились одновременно. Сам по себе "язык, построенный символически, выражающийся при помощи троп, подчиненный законам евфонии и образности" является произведением искусства. (Лекция І)». В статье «О новейших исканиях в области художественного слова», написанной в .то же время (1922 г.), он настаивает: «...Потебня остается неуязвим в своем анализе природы слова и в утверждении языкотворческого символизма» (IV, с. 646-647). Вместе с тем Иванов критически относится к приверженцам теории образности в языке поэзии. В рамках бакинского курса по поэтике поэзия определяется им как «обращение поэта к стихии родного языка, без всякой цели, из любви к языку». Далее, развивая эту мысль, Иванов говорит о единстве поэзии и языка, с которым она связана, о стихийном начале в том и другом, о совместном существовании языка и поэзии, о том, что поэзия является функцией языка [там же, с. 185-186]. Актуальность такого взгляда на язык и
поэтическую функцию в нем для современной филологической науки может быть засвидетельствована следующим контекстом: «"Художественное", т. е. эстетически "отмеченное" и образующее "поэтическую" функцию, начинается с самого языка, поскольку каждое обозначение, каждый ономатетический акт уже в силу исходных условий предполагает метафоричность и, следовательно, вводит два "объекта", объединяемых общим обозначаемым, что и образует основание для того, чтобы рассматривать эти два "объекта" как термины сравнения"» [Топоров 1992, с. 4].
Уже в 30-е годы, живя в Риме, поэт вернется к этому кругу вопросов, обнаруживая в отношениях между языком и поэзией, языком и историей философии новый аспект: зависимость от языка того и другого, ср.: «В языке заложена и поэзия и философия народа» [Иванов 2001а, с. 138]. Его живая речь — устная или в эпистолярном жанре [Альтман 1995], [Иванов 2001а] — выразительна, поэтична, парадоксальна, эпиграмматична, как у древних, и не умалена орудийным отношением к языку. Ср. один из ответов Вяч. Иванова в диалоге с О. А. Шор:«— Вы не забыли русский язык, живя за границей?:— Я не разучился ему, даже живя в России» [Иванов 2001а, с. 139].
Говоря о целостности языка вообще и проступающем в нем начале поэтическом, Иванов одновременно подчеркивал характерное лишь для поэзии: связанность речи, которая достигается разного вида повторами, и завершенность формы (13. Лекция Ш.). Поэтическую речь он определял по Гомеру и его школе как «язык богов» и, естественно, противополагал речи повседневной (14. Лекция III). К особенностям поэзии Иванов относит й ее консерватизм, свойственный ей «закон сохранения форм» [там же, с. 187]. Поэтическая традиция была для него драгоценным кладязем, из которого он черпал некогда появившиеся формы. В этом отношении и взгляды Вяч. Иванова, и его поэтическая практика созвучны кругу идей А. Н. Веселовского — «нашего великого филолога» (Вяч. Иванов), напомнившего, что помимо личной поэтической школы, «есть еще школа истории: она отбирает для нас материалы нашего поэтического языка, запас формул и красок» [Веселовский 1989, с. 74].
О том, что проблема поэтического в языке по отношению к поэзии Вяч. Иванова, требует обсуждения некоторых категорий, напомнил С. С. Аверинцев. Так, для стиля Иванова характерна «уникальная густота» слов
высокого слога, «поэтизмов из поэтизмов». Вместе с тем, этот слой словоупотреблений отличается у поэта-символиста необычайной смысловой точностью [Аверинцев 2001, с. 7].
«Поэтическое» в представлениях самого Иванова не связано исключительно с формой и не определяется кругом высоких тем. Об этом он писал в предисловии к одному из своих поэтических сборников («Нежная Тайна», 1912 г.), где признавался, что «в долгих размышлениях о существе поэзии разучился распознавать границы священных участков» — как по содержанию, так и по форме, в узком, техническом смысле этого слова. Мерилом «поэтического» для него служит «достоинство» формы, понимаемое как ее художественно цельное тожество с содержанием (III, с. 7—8)'. Более развернутое понимание поэзии как искусства в аспекте формы Иванов дал в статье «Форма зиждущая и форма созижденная»2. Форма — не средство и не цель, пишет в ней автор, и сразу, в следующем абзаце, определяет искусство, поэзию в том числе, как «целостное двойное КАК, — т. е. как художник выражает и как он видит мир», а затем напоминает о том, что «отличительной чертой подлинной художественной деятельности является почти бессознательная мудрость КАК, благодаря чему художественное произведение приобретает порою, будто косвенно, так сказать сверхдолжно, собственными средствами, а не привнесенными извне, даже и познавательную ценность» (Ш, с. 675).
Традиционность и архаичность, наряду с творчеством новых форм, — характерная черта языка поэзии Иванова. Его поэтическое слово заключает всю полноту исторически сложившегося и выкристаллизовавшегося значения. «Внутренняя форма» его слов, образов и символов отличается необыкновенной полнотой и верностью своему первоначальному смыслу. Этот смысл проступал и проговаривался им, в отношении некоторых слов, в его научной прозе и устных диалогах — в поэзии он оживал, оказываясь причастным к актуальному настоящему в жизни лирического поэта.
Так, в статье «Наш язык» (1918 г.) Иванов говорит о том, что Божественные слова «Суббота для Человека, а не для Человек для Субботы»
Здесь и далее в круглых скобках даются ссылки на брюссельское собрание сочинений поэта, с
казанием тома и стр.
«Forma formans е forma formata». Статья была написана в 1947 г. (III, с. 674).
толкуются нами «рабски, не no-Божьи и не по-людски», и далее толкует их
следующим образом: «если бы эти слова отнимали у Человека Субботу, умален
был бы ими лик Человека; но они, напротив, впервые даруют Человеку Субботу
Господню, и только в своем божественном лике Человек возвышается и над
Субботою» (IV, с. 678). К смыслам этого древнего изречения, но в несколько
измененном виде, Иванов возвращается в одном из февральских стихотворений
«Римского Дневника 1944 года»3:
Поэзия, ты — слова день седьмой, Его покой, его суббота. Шесть дней прошли, — шесть злоб: как львица, спит Забота; И, в золоте песков увязшая кормой, Дремотно глядючи на чуждых волн тревогу, Святит в крылатом сне ладья живая Богу И лепет паруса, и свой полет прямой.
(III, с. 597)
Для Иванова язык был сокровищницей истории, живым памятником жизни народов, и он видел свое призвание в том, чтобы «быть поэтом исторической памяти» [Аверинцев 1975, с. 169, 191]. Это, однако, не превращало его поэзию в музей, а его самого в собирателя древностей и реставратора, что понимали лучшие его читатели. Известный филолог-классик Ф. Зелинский писал о том, что поэзия Иванова возвращает читателя «к изначальности, к периоду творческой молодости языка», когда язык вновь становится гибким и способным к новым образованиям, а то, что казалось полузабытым и даже совсем забытым, воскресает [Зелинский 1917, с. 109].
Другой читатель, впоследствии выдающийся представитель русской религиозно-философской мысли и священник, С. Н. Булгаков видел в личности поэта вестника далекого прошлого, свидетельствующего о нем своим, внутренним знанием, ср.: «В лице Вяч. Иванова, нашего современника, общника наших дел и дум, мы имеем как будто живого вестника из античного тяира, которому ведомы тайны древней Эллады, интимно близки его боги, который был эпоптом в Элевзине, блуждал по холмам Фракии с вакхами и мэнадами, был завсегдатаем в Дельфах, воочию присутствовал при рождении
3 См. ту же мысль, в которой завершение творческого акта определяется через образ ветхозаветной субботы, в прозаическом тексте автора: «Изначальная интуиция формы, требующей воплощения (часто немым прибоем ритма), ее движение и превращения, наконец ее исполнение и покой, суббота совершившегося бытия, — совершенство, в котором живы все последовательные содержания времени, а времени больше нет, — вот зарождение, разлитие и конечная цель поэтического творения» («Мысли о поэзии», 1938 г. III, с. 664; курсив наш. —
трагедии» [Булгаков 1976, с. 135]. А вот как оценивает ивановский опыт «античной» трагедии («Тантал») современный исследователь: «...трагедия Вяч. Иванова может пониматься как еще одна версия древнегреческого мифа, обеспечивающая ему новое продолжение жизни, встраивающая его в круг проблем сегодняшнего дня, если говорить о содержании, и как еще один опыт античной трагедии на русском языке, если ставить акцент на форме. И то и другое — из числа «сильных» примеров того, как «панхроническое» в сфере философии духа пресуществляется в «синхроническое», современное, даже сиюминутное, как динамически наводятся мосты от «частного» своего к «общему» чужому, чтобы понять, объяснить и оправдать свое не только из него самого, но и из того общего, в связи с которым говорят — «так оно всегда и бывает» [Топоров 1989, с.93].
Миф и ритуал в их архаичных формах и как творческое начало для поэта-символиста, таким образом, составляют наиважнейший фактор архаичности поэтики Иванова (см. также [Брагинская 1988], [Булгаков 1999], [Топоров 1995в] и др.).
О том, что архаичность языка Иванова мотивирована содержательно и эстетически, напомнил современный филолог и литературовед Е. Эткинд. Сонеты и венки сонетов Вяч. Иванова, его философская лирика, пишет он, посвящены «парящим в самых далеких эмпиреях отвлеченностям», а его поэтика устремлена к затрудненности, требующей выделенности отдельного слова. За архаизированной стилистикой этих форм скрывается сознательно и настойчиво провозглашаемая им идея культуры как памяти, как культа предков, как воскрешения отцов [Эткинд 1995, с. 142, 146, 148]. Ср. определение самим Вяч. Ивановым типа «творчества преемственного, или культуры в собственном смысле» в ст. «О веселом ремесле и умном веселии» (Иванов 19096).
Поэтическое свидетельство значимости для поэта живой стихии языка,
запечатленного в вечности языкового опыта давно прошедших и не столь
отдаленных веков, Иванов оставил в стихотворении «Язык», написанном 10
февраля 1927 г.:
Родная речь певцу земля родная: В ней предков неразменный клад лежит, И нашептом дубравным ворожит Внушенных небом песен мать земная.
А. Г.).
(Ill, с. 567)
Знаменательно, что первоначально это стихотворение называлось «Поэзия» [Иванов 2002, II, с. 363], а при его публикации в «Современных Записках» было озаглавлено «Слово — Плоть» (III, с. 846). Колебания в названии отражают равновесие трех тем, трех ключевых смыслов сонета, которые можно представить виде символической цепочки: язык — поэзия — Слово (взятое в аспекте религиозном, евангельском). Эта же мысль ранее была выражена Ивановым в тексте дискурсивном — статье «Наш язык», написанной в первые годы революционных преобразований (1918 г.), в том числе преобразований в области языка, орфографии, письменности. Здесь ее автор говорит, с одной стороны — о природном даре, «доставшемся нашему народу как жребий, как некое предназначение его грядущего духовного бытия», с другой — о «таинственном крещении» его в «животворящих струях языка церковнославянского», частично претворившего его «плоть и духовно преобразившего его душу, его "внутреннюю форму"» (IV, с. 676).
Архаизированно-книжный и славянизированный, язык Иванова имеет свое объяснение и в стилистических вкусах эпохи, которые он еще застал в своем детстве, отрочестве и юности (вторая половина XIX в.). Образованность Вяч. Иванова, отмечаемая всеми знавшими его современниками, биографами и исследователями, двадцать лет занятий наукой, предшествовавших появлению первого поэтического сборника, а также в дальнейшем связанных с диссертационной работой по дионисийским мифам и ритуалам, тоже один из факторов его книжно-архаичной стилистики [Лосев 1989, с. 465; Бонгард-Левин 2002,с.134-135].
Вместе с тем этот как бы намеренно архаизированный язык мотивирован и не до конца реализованной в русской поэтической традиции стилистической тенденцией к «архаичности», возвращавшей к торжественным одам Ломоносова и стихам Державина. Одновременно в нем получает развитие и стилистика каноничного использования церковнославянизмов и архаизмов поздним Пушкиным [Виноградов 1935, с. 172]. Нельзя недооценивать и проявления в нем «эстетического» фактора: на фоне литературного языка, включая господствующую стилистическую традицию в произведениях художественной словесности, такой архаизированный язык обращал на себя внимание, казался
необычным и странным, восхищал или раздражал своей предельной языковой стратегией. За этим языком стоит выбор как «высшая ответственность творца». Именно так определяет цену выбора художником слова В. Н. Топоров, выбора «неповторимости как высшей формы «художественного» бытия, открывающей новые смыслы» [Топоров 1992, с. 6].
Что же касается исторических и временных границ этого русского поэтического языка Иванова, то они трудноустановимы. Как справедливо пишет С. С. Аверинцев, поэтический язык Вяч. Иванова «нельзя даже приблизительно отождествлять с какой бы то ни было минувшей фазой эволюции русского языка; это не имитация и не реставрация старины, но попытка дать через старину язык вне времени, обобщенно выразить его, так сказать, платоновскую идею, или аристотелевскую энтелехию» [Аверинцев 2001, с. 72]. Реализованная в нем полнота возможностей отражает замысел поэта, его отход от языка эмпирического к умопостигаемому [там же, с. 73], ср. с наблюдением Ф. Зелинского: «Если бы было принято составлять для наших поэтов, как для древних, "специальные словари", вряд ли кто-либо оказался бы по запасу своих слов богаче нашего поэта» [Зелинский 1917, с. 109]. Будучи таковым по замыслу и реализации, этот поэтический язык неизбежно преизбыточен не только для обыкновенного слуха, но даже для изощренного, если его носитель замкнут в границах определенной эпохи (см. одно из таких свидетельств в [Адамович 1966, с. 152]).
Пятью книгами лирики Иванова не ограничено число текстов, наблюдаемых в данной работе. Корпус описываемых текстов включает: некоторые стихотворения, не вошедшие в состав этих 5 книг и опубликованные в IV томе брюссельского Собрания сочинений поэта, одну из пяти книг «Повести о Светомире царевиче», а также некоторые статьи по эстетике и научную прозу. Особую значимость для задач данного исследования в аспекте архаичности и книжности языка Иванова занимает пятая книга «Повести» — последняя из написанных самим автором, язык которой трансцендирует «то равновесие русских и церковнославянских элементов, которое характерно для произведения в целом» [Аверинцев 2001, с. 118]. Ритмическое начало этой необычной прозы, образно-мифологический строй, ориентированный на поэтику древнерусской словесности, включая народную поэзию русских «духовных
стихов», сближает ее с творчеством Вяч. Иванова в его стиховой форме, т. е. с поэзией в чистом виде4.
Представленный выше в самых общих чертах «образ» русского и поэтического языка Вяч. Иванова предопределил главные задачи данного исследования. Одна из главных задач заключается в том, чтобы описать различные по характеру и степени архаичности единицы поэтического языка в творчестве поэта разных его периодов. Описание таких единиц языка и текста предполагает определение их стилистического статуса и истоков архаичности (древнерусская словесность, церковнославянский язык, «эллинский» язык в его византийской и античной культурных традициях). Важным в рамках подобного описания является установление соотношения между архаичной традицией, усваиваемой автором, и его собственными архаизаторскими устремлениями, которые проявляются в языковом творчестве (в духе «архаики»). Архаичность некоторых форм и категорий языка не лежит на поверхности. Она обнаруживает себя в характере построения текста, воспринимается на фоне поэтической традиции — ближайшей к Иванову или более удаленной от него во времени.
Специально описанию таких архаичных и архаично-книжных форм, выявлению связанных с ними закономерностей индивидуального стиля Вяч. Иванова в контексте поставленных в данном исследовании задач посвящена его первая глава «Архаичность и книжность поэтического языка Вяч. Иванова». Наиболее явно и открыто для наблюдения эта черта авторской стилистики обнаруживается в употреблении соответствующего слоя лексики и поэтической фразеологии. Сложнее ее увидеть в семантике и употреблении грамматических форм. Так, в необычайно богатом словаре составных прилагательных языка Иванова, которые описываются в одном из разделов данной главы, лишь небольшой слой представлен кальками с греческого языка, называемыми в некоторых работах «грецизмами» [Эткинд 1997]. Большая их часть связана с церковнославянской книжно-письменной традицией. Некоторые из этих калек, как, например, фиалкокудрый, отражают практику перевода античных авторов в русской поэзии, в том числе и переводы самого Иванова. Степень и характер архаичности оказывается, таким образом, различной по
4 Ср. наблюдение над жанровой природой «Повести о Светомире» М. Стойнич: «...в «Повести» совершенно устранима граница между стихами и прозой» [Стойнич 1988, с. 157] — что, разумеется, не совсем так, но тенденцию к сближению прозы и стиха или свойственную текстам
своєму происхождению и судьбе каждого прилагательного или определенного словообразовательного типа в литературном языке, его истории.
Язык V-й книги «Повести о Светомире» — диагностически важной для понимания архаизаторских тенденций Иванова и эволюции его авторского стиля — описывается в работе в двух аспектах: 1) как семантический язык архаичного пространства и не отделимого от него архаичного времени и 2) как список церковно-славянских, или по типу церковнославянских, и древнерусских архаичных элементов, в том числе частеречных форм, словопорядка, синтаксических конструкций, а также жанрово отмеченных речевых и текстовых фрагментов5.
Таким образом, в первой главе исследования описываются различные единицы поэтического языка и текста в аспекте их архаичности и книжности. Эта глава в некотором отношении как бы над-страивается над более системным описанием фактов поэтического языка автора в следующих трех главах исследования, где выявляются некоторые закономерности поэтической фонетики языка и текстов Иванова, их образно-символического строя, грамматики. Однако и в этих главах, с доминирующим в них принципом уровневого описания фактов поэтического языка и их системных связей, при описании звукового строя, символики и грамматики автора, неизменно обнаруживается архаичный, или по типу архаичного, слой единиц. Это могут быть консонантные сгущения или анаграмматический принцип построения текста; определенные образы и символы (или их значения), воссоздаваемые мифотворчески и с ориентацией на каноническую традицию, например, в составе цитатных или цитатообразных элементов из богослужебных текстов; корнесловные повторы типа: думу думать (figura etymologica), пламени пламень (тавтологический повтор), разум неуразумеваемый (словообразовательный повтор антиномического типа) и др.; архаичные обозначения и значения 1 и 2 лица (ср. церк.-сл. аз, ecu, библ. в форме церк.-сл.. «Аз Есмь»); определенные
более архаичных эпох их близость исследовательница почувствовала верно. 5 См. отмечаемую Т. Венцлова ориентацию «Повести» на жанр летописи, неканоническую легенду, апокрифы, западный рыцарский роман [Венцлова 1988, с. 26]. М. Стойнич отмечает два жанровых полюса «Повести»: конкретно-историческое и сказочное, а также указывает на присутствие в ней «следов» малоизвестного апокрифического текста, известного в русском переводе как «Евангелие Детства» (у цитируемого автора этот текст в соответствии с западной традицией называется «евангелие младенчества»), переводов греческой литературы — «Сказания об Индейском царстве», «Повести о новгородском белом клобуке» и др. [Стойнич 1988, с. 156-157].
виды бессоюзной связи предложений, семантика которых связана с выражением архаичных смыслов.
Архаичный компонент подчеркивается и при наблюдении некоторых единиц языка и особенностей стиля Иванова в пятой главе исследования, рассматриваемых здесь на фоне и в контексте поэтической традиции. В шестой главе, посвященной анализу отдельных стихотворений, наблюдения над формами архаичности включены в общий контекст изучения поэтики каждого из текстов.
Доминантная для языка и стилистики поэтических текстов Иванова черта — архаичность — оказывается, как можно видеть из сказанного выше, в центре данного исследования, хотя в разных его главах освещается с различной полнотой.
Из всех поэтов-символистов Вяч. Иванов оказывается «самым символистским символистом» (С. С. Аверинцев). В мифе он «ведает», по словам С. Н. Булгакова, «воспоминание о мистическом событии, космическом таинстве...» [Булгаков 1976, с. 140]. Символизм и мифологичность, в представлениях Иванова, не отделимы друг от друга. «Символизм в новой поэзии, — писал он в статье "Заветы символизма" (1910 г.) — кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словами всенародного языка особенное, таинственное значение, им одним открытое, в силу ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и пределами общедоступного опыта» (II, с. 593). Миф Иванов понимает как синтетическое суждение, где подлежащее — понятие-символ, а сказуемое — глагол, ибо, пишет он далее, «миф есть динамический вид символа, — символ, созерцаемый как движение и двигатель, как действие и действующая сила» (там же, с. 594,595). Истинный символизм, каким видел его Иванов, по существу своему теургичен: он соединяет, подобно радуге, творит, изображает — и ему «свойственнее изображать земное, нежели небесное: ему важна не сила звука, а мощь отзвука» (ст. «Мысли о символизме» 1912 г.). При этом «истинный символизм не отрывается от земли; он хочет сочетать корни и звезды и вырастает звездным цветком из близких, родимых корней» (II, с. 611). Эти хорошо известные положения Иванова как теоретика символизма могут служить некоторым ориентиром в описании его языка и с позиций
лингвопоэтики, в особенности, ключевых звукообразов его поэзии, образно-символического строя, грамматики.
Тезис Потебни: «Поэзия — мышление образами» Вяч. Иванов уточняет: «до образов в языке возникли звукообразы, составляющие основу поэтической речи»; определяя поэзию со стороны формы как связанную речь, он подчеркивает роль звуковых повторов: рифмы, ассонансов, рифмы по началу, аллитерации и собственно звуковых повторов, т. е. «повторения определенных звуков в той же строке в том же порядке, как они прозвучали, или в обратном» (цит. по [Эткинд 1997, с. 186, 187]). Анализ Ивановым пушкинских звукообразов, как бы приоткрывающий тайны поэтического ремесла, подсказывает одно из направлений в изучении фонетической техники самого Иванова. Звукообраз как единичный звук или некоторый комплекс звуков, обнаруживая высокую степень повторяемости (что не исключает вариативности комплекса, изменений в его составе в цепи повторений) в структуре текста, связан с определенным смыслом, нередко с ключевым или одним из ключевых. Эта закономерность фонетической организации текста проявляется и у поэта-классика, каким был Пушкин, и у символиста, каким был Иванов. Различие, индивидуально-авторские особенности связаны с качеством звуков, составом звукокомплексов, плотностью их расположения и движением в тексте, их смысловой и содержательной наполненностью, экспрессивными коннотациями. Существенными в этом плане оказываются артикуляционные и акустические признаки согласных и гласных русского языка, благодаря которым возрастает смыслообразующая и лейтмотивная функция повторяющихся звуков в поэтическом тексте [Тарановский 2000а], [Топоров 1990, 1995г], [Кожевникова 1989], [Ковтунова 2003].
Анализу поэтической фонетики Иванова, взятой в обозначенном выше аспекте, посвящена вторая глава данного исследования. Здесь также описываются различные звукообразы; поэтические тексты — близкие по особенностям фонетической организации или в каком-либо отношении противопоставляемые; стихотворения, отражающие в своем буквенно-звуковом составе ключевое имя, т. е. построенные по принципу анаграмматизма; ряд текстов из сб. «Свет Вечерний», отражающих некоторые особенности авторской стилистики этого периода.
В построении текстов, которые строятся подобно архаичным текстам, описанным Ф. де Соссюром, по анаграмматическому принципу, Иванов является, по словам В. Н. Топорова, непревзойденным мастером анаграммирования в русской поэзии [Топоров 1987]. В данной работе анализируется круг текстов о розе с разной техникой анаграммирования.
Изощренность звуковой техники Иванова проявляется в выборе повторяющихся звуков, их соотнесенности со смыслом разной степени конкретности и определенности. Она проявляется в конфигурации повторов, их разнообразии и вовлеченности в звуковую ткань текста, связи с ритмикой стиха.
В работе анализируется фонетика различных сборников поэта со стороны ключевых или сопровождающих ключевые и фоновых звукообразов, консонантных сгущений, техники анаграмматизма, звуковой «палитры», складывающейся из повторов разного рода и сгущений в стихотворном тексте.
Третья глава работы посвящена образной символике и мифологическому началу в поэзии Иванова, обнаруживающих себя не только на уровне словоупотреблений, поэтической фразеологии, грамматики, но также в семантике и синтактике текста и текстовых фрагментов.
Мысли и теоретические воззрения Вяч. Иванова на проблему символа, образа и мифа созвучны взглядам на символическое и мифологизм, высказанным в трудах П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова — философов и богословов «Серебряного века», собеседников и единомышленников поэта. В данной главе некоторые из этих взглядов излагаются в связи с задачами анализа конкретного материала. Они также включены в контекст современных филологических работ — С. С. Аверинцева и В. Н. Топорова, развивающих эту традицию. Напомним некоторые существенные для нее положения и дефиниции.
Приводившиеся выше определения символа и мифа, наблюдения над характером связи символа и образа Вяч. Ивановым показывают, что в рамках этой традиции символ и образ, миф и символ не противополагаются, но и не отождествляются. С исчерпывающей полнотой содержание этих категорий и отношений между ними раскрывается С. С. Аверинцевым. «Символ есть образ, наделенный всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа», — пишет он. И далее определяет всякий символ как образ, добавляя к сказанному, что «и всякий образ есть хотя бы в некоторой мере, символ». Но
«если категория образа предполагает предметное тождество самому себе, то категория символа делает акцент на другой стороне той же сути — на выхождении образа за собственные пределы, на присутствии некоторого смысла, интимно слитого с образом, но ему не тождественного». А затем о том, что символизируемый образ обретает смысловую глубину, что смысл символа нельзя дешифровать «простым усилием рассудка» и что в нем присутствует «теплота сплачивающей тайны», что смысловая структура символа многослойна и что смысл символа осуществляет себя как динамическая тенденция: «он не дан, а задан» [Аверинцев 2001а, с. 154-155].
Проблеме мифологизма, символизма, архаичности как высшего класса универсальных модусов бытия в знаке и анализу текстов с «мифопоэтическом» слоем в русской литературе посвящен ряд исследований В. Н. Топорова [Топоров 1983, 19956, 2003а] и др. Сформулированные в них принципы анализа текстов соответствующего класса, методы и техника анализа в значительной степени определили характер и направление наблюдений над образным и мифопоэтическим началом в творчестве Вяч. Иванова, представленных в данной главе.
Анализ образно-символической системы Вяч. Иванова, в соответствии с указанной традицией, выдвигает на первый план то образный, то символический аспекты ее описания. Так, например, поэтические сновиденья Иванова, несомненно, символичны, но при их описании естественнее прибегать к категории образа и через нее описывать специфику сновидческих образов и картин поэта-сновидца. Центральный для всего творчества Иванова миф о Дионисе, отражающий архаические представления и ритуал древних, связывается с фактами и событиями биографии поэта, вообще с современностью, т. е. в соответствии с переживанием дионисийства как психологического феномена. Дионис как имя-символ объемлет множество более частных образов-символов (взятые в других отношениях они могут быть столь же общими), в том числе: хаос, бездна, океан. Архаичный, в данном случае это — «дионисийский», компонент в них является определяющим, но реализуется он только в рамках текстов определенного класса. Этот класс текстов с «дионисийским» комплексом смыслов выделяется в данной работе по * аналогии с классом текстов, содержащих «поэтический» комплекс моря, который описан В.Н.Топоровым [19956].
«Дионисийский» комплекс включает ряды символов и их образные соответствия. Дионис как ключевой образ и символ обязателен для диагностически сильных текстов этого класса. «Дионисийский» комплекс отличается набором смыслов и регулярной их повторяемостью (встречаемостью) в текстах. С ним связан некоторый круг контекстов в творчестве Иванова — в большинстве своем поэтических и стихотворных, но также в прозе поэта, посвященной проблемам эстетического. Те и другие в отношении этого слоя смыслов, соответствующего круга образов и символических рядов и цепочек обнаруживают параллелизм и типологическое сходство.
Символы в поэзии Вяч. Иванова образуют замкнутую систему. Эта замкнутая система символов «не может быть отработана и выявлена ни на пространстве одного стихотворения, ни на пространстве одного поэтического цикла, одного поэтического сборника» [Аверинцев 1996а, с. 170-172]6. Система такого рода, по словам С. С. Аверинцева, предполагает «вступление в права наследования огромным "тезаурусом" традиционной символики, хотя у Иванова традиционные смыслы имеют и новый, притом весьма личный смысл», не забывая, однако «о своем конкретном историческом прошлом» [там же, с. 178, 183].
О традиционности символов у Иванова необходимо помнить всегда, но, может быть, более всего к этому располагают стихотворения автора о Рождестве, написанные в разное время и вошедшие в разные поэтические сборники. В них обнаруживается и высокая степень близости к канонической традиции, и какой-то удивительно целостный, при всем разнообразии его восприятия и изображения автором, интимно-личный образ Рождества — как события, праздника, акта веры и качества бытия. Верность автора канонической традиции в употреблении символов, связанных с темой Рождества, в стихотворениях соответствующего класса текстов особенно ощутима в цитатных и «цитатообразных» элементах из канонических Евангелий, в особенности от Матфея и Луки, других текстов богослужебной традиции этого цикла.
6 См. один из таких опытов реконструкции системы символов, неизбежно схематичный, в диссертационном исследовании М. Ю. Стояновского [Стояновский 1996].
Системность символов в рамках отдельного поэтического цикла и в аспекте пространственности описьюается в данной работе на примере двух сонетных циклов Вяч. Иванова: «Зимние сонеты» и «Римские сонеты» — лучшего, по свидетельству современников (А. Ахматова, Д. Святополк-Мирский, Ф. Степун), из написанного им. Как автор этих сонетов Иванов всматривается в окружающее его бытие, — по словам И. И. Ковтуновой, «смотрит вокруг себя», — переживая и осмысливая его как стояние над бездной, что отразилось в «Зимних сонетах», или как торжествующе-победительную силу, что запечатлено в «Римских сонетах». В сонетах обоих циклов отразились факты поэтической биографии автора, преобразованные пространством текста и цикла, складывающейся в них системой символов. Оба цикла, несмотря на их укорененность в конкретном бытии, времени и пространстве, отличает пронизанность мифопоэтическим и архаическим началом. Каждый цикл в отдельности в аспекте историко-биографическом и историко-литературном анализировался литературоведами [Дэвидсон 1996], [Тахо-Годи 2003]. В данной работе ключевые и с ними связанные другие символы в составе этих циклов описываются, в первую очередь, с «содержательной» стороны, т. е. со стороны выражаемых этими символами смыслов и формируемого при их участии образа пространства, в связи с фактами биографии поэта и по отношению к архаичной традиции. Символика и смыслы обоих циклов рассматриваются также в соотнесенности друг с другом (принцип тождества и контраста).
Анализом символов, связанных с идеей движения-неподвижности, завершается данная глава. Этот круг символов и их образных соответствий рассматривается здесь на материале рада стихотворений из «Римского Дневника 1944 года» — этого необычного в истории литературы жанра и последнего лирического цикла из написанных Ивановым. Философские размышления Вяч. Иванова над Динамизмом как одним из культов современной жизни и над культом жизни как одной из установок «современного духа» (III, с. 457) в стихах «РД» связаны с символическим образом Титана, в котором отразился предображенный античными мифами образ Иксиона, а также с символами: родник, ручей, сын-беглец Пегас как крылатый конь, поэзия, искусство и др. Смысловая глубина этих символов и звучание в них «личного», т. е. индивидуально-авторского и одновременно интимного,, компонента
обнаруживается в тексте в смыслах ближайших к ним предикатов и характеризующих определений, в семантике включающих эти символы конструкций, в смысловом движении всего текста. Смыслы повторяющихся, сквозных символов раскрываются от текста к тексту. Повторяющиеся символы и их смыслы служат лирической циклизации. Один из аспектов системности этой группы символов проявляется в их противопоставленности символам, выражающими статичность. Противопоставление символов, выражающих динамичность, и символов со значением неподвижности не исключает их парадоксального сближения (см. один из примеров: Святит в крылатом сне ладья живая Богу — с контрастными смыслами символов в образе крылатого сна, а также контрастного синтагматического сближения сна и ладьи).
Грамматика поэтического языка и текстов Иванова описывается, главным образом, в четвертой главе данного исследования. Здесь представлено описание таких грамматических форм и категорий, как корнесловные повторы, категория лица, некоторые формы гипотаксиса. К корнесловным повторам в данной работе отнесены: конструкции с грамматической связью компонентов одного корня, представляющих его, словообразовательно или словоизменительно, в разных формах (день денниц, волит воля, небеса небес); повторы корней как элемент грамматики текста, существенного для его смыслового движения и структуры (см. Сквозят... сквозя, тают... тает в примере: Сквозят и тают туманы, —/И тает, сквозя, мой сон). Категория лица описывается в формах первого и второго лица и преимущественно в их местоименном выражении. Некоторые формы бессоюзных соединений, обнаруживающие поэтическую семантику и функции в языке и текстах Иванова, выделяются в работе на фоне традиционных типов бессоюзных предложений, но с учетом сильно выраженных в них текстовых признаков. Все эти формы и категории, несмотря на то, что вместе они и не образуют системы, могут рассматриваться как диагностически важные для описания некоторых черт поэтической грамматики Вяч. Иванова и особенностей его авторского стиля.
Описанию корнесловных повторов (в указанном выше понимании), которые характерны для язьпса и текстов Иванова, предшествует обзор работ по истории языка и стилистике, в которых с разных позиций, на разном материале и при разном количестве приводимых фактов описывается эта
разновидность повтора Корнесловные повторы как грамматически связанные компоненты в рамках одной конструкции или текста имеют общую функцию: они направлены на смысл. Ср. сказанное Вяч. Ивановым в лекциях по поэтике: «Чем больше в поэзии чувствуются корни форм, тем больше выигрывает поэзия...» [Эткинд 1997, с. 188]. Корнесловные повторы служат «сгущению» смысла или его «углублению» (обнаружению «внутренней формы» слова), его варьированию; они наглядно осуществляют смысловое движение в тексте. Безусловна их связь со звуковой стороной текста и его грамматикой.
В задачи описания этих корнесловных форм в рамках данного исследования входит: 1) установление степени традиционности и архаичности различных корнесловных повторов в языке и текстах Иванова и их описание на фоне различных поэтических традиций: народно-поэтической, богослужебной литургической, русской поэзии ХІХ-ХХвв.; 2)полное их представление в языке и текстах различных поэтических сборников автора (по принципу «каталога»), начиная с «Кормчих Звезд» и кончая «Светом Вечерним»; 3) наблюдение над эволюцией корнесловных повторов в творчестве Иванова. В задачи описания входит и выявление случаев «возвращения» автора к уже использованным корнесловным повторам.
Анализ категорий первого и второго лица как фактов поэтической грамматики Иванова ограничен, за исключением нескольких стихотворных контекстов, пространством одного текста — мелопеи «Человек». Ограничение наблюдения компенсируется выбором такого текста, в котором автором достигнут некий предел в творческом употреблении местоименных форм и их глагольных эквивалентов. Я и ты в этом необычном по жанру произведении обнаруживают свои онтологические корни, богатство историко-философских, мифопоэтических и др. смыслов. Структура мелопеи, и в особенности ее первые две части: «Аз есмь» и «Ты еси», демонстрирует изощренность авторской техники в использовании местоименных форм как со стороны семантики, так и со стороны их текстового употребления, композиционной функции.
Анализ содержания Я и Ты в мелопее «Человек» неизбежно требовал привлечения хотя бы минимального числа религиозно-философских и богословских контекстов, ориентирующих исследователя в направлении формирования смыслов некоторых местоименных форм и их употреблений, помогающих объяснить, раскрыть, истолковать их содержание. По отношению
к произведению, представляющему собой размышление автора о смысле самосознания как дара, который вне любви к человеческому и Божьему «Ты» превращается в проклятие Люцифера; о пути человечества как вечном споре, по слову Бл. Августина, между любовью к себе, доведенной до презрения к Богу, и любовью к Богу, доведенной до презрения к себе; о новом опыте существенного, сверхлично-личного всечеловеческого единства живых и мертвых [Аверинцев 2001, с. 93], такое обращение к текстам иной, религиозно-философской и богословской традиции было плодотворным. Благодаря этим текстам качество второго как в формуле искусства как «двойного КАК» (об этом определении Вяч. Ивановым искусства см. выше), т. е. качество перволичных форм и форм, указывающих на адресата, прояснялось, оказывалось доступным для интерпретации.
Из форм бессоюзных' соединений для задач описания поэтической грамматики Иванова были выбраны следующие три: 1) бессоюзные соединения с семантикой созерцания, первая часть которых включает глагол со значением зрительного восприятия, видения, сновидения (иногда — именную форму с тем же значением); 2) бессоюзные образования диалогического характера, представляющие собой вопросно-ответные структуры, большей частью текстового происхождения; 3) однородные ряды номинативов, связанные способом бессоюзной связи. Выбор данных форм определялся двумя факторами: обусловленностью каждой формы некоторыми содержательными моментами, относящимися к особенностям Иванова как личности и художника, и регулярной повторяемостью формы в текстах разных периодов творчества.. Описание поэтической семантики и функций этих разновидностей бессоюзных сочетаний в языке и текстах Иванова строится в рамках подхода, предложенного И. И. Ковтуновой в книге «Поэтический синтаксис» [Ковтунова 1986], и с учетом некоторых идей В. Н. Топорова о зависимости техники языка, в особенности характерных и повторяющихся структур с «некоторыми общими ходами мысли, принципами восприятия, познания и самопознания» [Топоров 1990, с. 100, 101]. Специально описываются в этой части работы случаи сгущения в употреблении бессоюзных конструкций одного вида и разных в границах одного текста или текстового фрагмента. Такое описание должно выявить их композиционную функцию в подобного рода текстах. Оно позволяет
также описать группу текстов с разными случаями сгущения в употреблении данной грамматической категории.
Отношению Вяч. Иванова к предшествующей поэтической традиции посвящена следующая, пятая глава исследования. Из ивановских «двоесловий», т. е. составных прилагательных, здесь рассматривается лишь небольшой круг. Это, во-первых, кальки с греческого типа пиндаровского фиалкокудрые, имеющие стилистический ореол поэтичности в греческом языке; во-вторых, ряд церковнославянизмов, отмечаемых в словарях литературного языка как книжные или поэтические словоупотребления {светозарный, благовонный). Некоторые из прилагательных этих двух групп, а также целый ряд других рассматриваются в работе на фоне державинских и тютчевских словоупотреблений, в сопоставлении с языком Пушкина. Данный раздел также включает фрагмент сравнительного анализа прилагательных с компонентами -крылый, сребро- (и некоторых других) у Иванова и в русской поэтической традиции предшествующей и современной автору эпохи. В рамках этого анализа были использованы факты, приводимые в «Материалах к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XX вв.» [Кожевникова, Петрова 2001]. Особый интерес представляют примеры типа «цитат», которым соответствуют факты из поэтики текстов других авторов: А. Блока, В. Брюсова.
Черты и характерные особенности поэтики Иванова ярко обнаруживаются при ее сравнении с поэтикой Ф. И. Тютчева и А. С. Пушкина. Известно, что Иванов декларировал свою близость к Тютчеву. Как поэту ему был близок тютчевский мифологизм, пророчествование и сновидчество, тютчевский символизм. В работе анализируются не только черты сходства поэтики Иванова и Тютчева, но и их различия: на уровне словаря, особенностей мифологизма, звучания общих тем, реализации некоторых ключевых смыслов, характерных синтаксических структур, грамматики и композиции цитатного текста. Определяющими для такого описания были мысли и оценки Вяч. Ивановым Тютчева и его поэзии. Многое объясняется перспективой литературных связей Иванова и Тютчева [Аверинцев 1992]. Такому описанию во многом способствовали исследования, посвященные творчеству Тютчева ([Пумпянский 1928], [Топоров 1990] и др.).
Два раздела данной главы посвящены анализу некоторых черт поэтики Иванова, укорененных в пушкинской традиции, на нее ориентированных или с
нею по ряду признаков сближающихся. Родство, которое ощущал поэт-символист с поэтом-классиком, удостоверяется некоторыми фактами поэтической биографии Иванова, его устными высказываниями по поводу пушкинской поэзии и самого Пушкина, докладами и статьями, посвященными творчеству поэта. Но в работе главным образом анализируются «следы» Пушкина в поэзии самого Вяч. Иванова, Наиболее явно один из таких «следов» обнаруживается в цитатном и цитатообразном «пушкинском» слое в стихотворениях Иванова. Большинство таких текстов указаны в примечаниях Р. Е. Помирчего к отечественным изданиям сочинений поэта [Иванов 1976, 1995, 2, с. 270 и др.]. В данной работе уточняется объем цитируемого из Пушкина, анализируются способы и техника цитирования. Как было показано В. Н. Топоровым при анализе цитатного слоя «Прогласа» Константина Философа и «блоковского» текста в поэзии А. Ахматовой [1995г, 2003в], техника цитирования, при которой «чужой» текст, сохраняя свою связь с исходным, но, преобразуясь в разных отношениях, органически включается в новый, связано особое, «композиторское» мастерство автора [Топоров 1995г, 2003в]. К авторам, владевшим такой техникой цитирования в высшей степени, относится и Вяч. Иванов.
Точная передача главных и узнаваемых смыслов «чужого» текста и/или некоторых черт его поэтики, что проявляется и в цитировании Ивановым других авторов, включая Тютчева, является важным признаком каноничности отношения Иванова к Пушкину. Установление степени близости цитатного материала в новом тексте к исходному, проявляющееся в семантике, формально-грамматической, звуковой и ритмико-интонационной организации, композиционной и текстовой функции, проясняет характер такой точности.
Представления Вяч. Иванова об эстетическом, точнее — о Красоте как Божественном начале, проявляющемся в бытии и творчестве поэта-гения, в значительной степени также связаны с именем Пушкина, его видением Красоты и поэтическим свидетельством о ней. В этом убеждают как статьи и доклады Иванова о Пушкине, так и его стихотворения, посвященные Красоте, творчеству поэта-гения с упоминанием имени поэта или в контексте пушкинской темы. В работе анализируются, главным образом, поэтические тексты: их ключевые темы, образно*мифологический слой и словарь, грамматика, особенности композиционного строя.
В заключительной, шестой главе исследования анализируется поэтика некоторых стихотворений Вяч. Иванова с установкой на полноту рассмотрения всех сторон и участия различных единиц языка и текста в выражении их поэтических смыслов. Выбор текстов обусловлен характерологической особенностью каждого из них, что частично отразилось в заглавии каждого из анализов. Всего в этой главе проанализировано 5 стихотворений. Два из них, написанные на одну тему и в одно время, близкие и одновременно контрастные по стилистике, представлены в одном разделе.
Стихотворение «Неведомому Богу» (сб. «Кормчие Звезды»), представляющее собой своего рода поэтический каталог языческих, ветхозаветных и христианских культов и образов, отличает мифологический синкретизм. Пространство поэтического сновидения, в котором созерцание лирическим «я» одного культа или мистериального образа сменяется другим, где принцип метаморфозы и превращения определяет отношения между этими образами, отличается целостностью и фрагментарностью одновременно. Этот ключевой, по словам Н. В. Котрелева, для Иванова периода «Кормчих Звезд» текст с его картинами далекого и кровавого прошлого [Иванов 1999, с. 49], мистикой увиденного и пережитого во сне (реальном или поэтическом), с образами и символами, взятыми из контекста различных культур, но расположенными в христоцентрической перспективе, характерен для Вяч. Иванова в целом — как для поэта, который благоговейно относился к культуре и «воскрешал» ее. При анализе стихотворения обращается внимание на такую сторону архаичности, которая связана с ритуалом и ритуальным действом, его пространственной и временной семантикой.
Второй из анализов посвящен поэтике стихотворения «Днепровье», тоже вошедшего в сб. «Кормчие Звезды» (цикл «Райская мать»). В этом стихотворении отразились факты поэтической биографии Иванова. Этот текст обнаруживает явную и скрытую архаичность. Его смысловая и структурная соотнесенность с эпиграфом ко всему циклу обнаруживает признаки лирической циклизации. Кроме образно-символического строя, включающего слой единиц с архаичной окраской, предметом анализа является семантика изображаемого в стихотворении киевского пространства, а также стилистика лексических и смысловых повторов, грамматических форм, словопорядка.
Описываются также ритмико-интонационная и строфическая организация стихотворения.
Два стихотворения из «Римского Дневника 1944 года» начинаются с латинского (или итальянского) слова каникула в русской транскрипции. Семантика этого ключевого в структуре обоих текстов элемента включает его значения в латинском, итальянском и русском языках. Смыслы каждого из стихотворений, характер их развертывания в тексте обусловлены значениями ключевого слова, отражают топографию Рима как сакрального и исторического города, время написания стихотворения (историческое, объективное: конец войны, календарно-природное: июль, время наибольшего зноя и субъектное: 80-летний русский поэт и профессор приезжает в Рим в каникулярное для себя и своих студентов время). Анализ близких в смысловом и структурном отношении стихотворений включает также наблюдения над их различиями: в словаре образов, стилистике, грамматике текста и др. Поэтика данных стихотворений описывается с учетом тех изменений, которые происходят в поэтическом языке и стиле Иванова этого периода, — усиления разговорного начала при сохраняющейся книжности, ориентации на неявную архаичность.
Заключает данную главу текст, который исследователи творчества поэта (О. А. Шор-Дешарт, С. С. Аверинцев) определяют как авторское переложение молитвы Святому Духу. Этой авторской молитвой завершается Эпилог ивановской мелопеи «Человек», о которой уже шла речь в данном исследовании в связи с поэтикой категорий 1 и 2 лица. Наблюдения над данным текстом, включающим также элементы из Господней молитвы, частично отразившего, подобно всей мелопее, гностические представления о роли познания, обращенного на самораскрытие человека, и самопознания как пути к Богу и спасению [Болотов 1994], [Топоров 1983, с. 270], главным образом, касаются поэтики преобразования словесных и синтаксических формул, синтагматики текста. Авторская молитва анализируется в сравнении с ее церковнославянской и — фрагментарно — греческой версиями из канонической традиции. Анализ ориентирован на выявление смысловой и концептуальной близости сравниваемых версий, сходства и различий в их словаре, грамматике, текстовой организации, композиции. Заключающая композиционная роль авторской молитвы в мелопее «Человек» — этом сложном историко-философском и религиозном сочинении Иванова — сказывается на ее построении, смыслах,
стилистике, стиховой организации. Одной из главных задач анализа является установление соотношения между признаками каноничности и авторской оригинальности в данном тексте, обнаруживающими себя в семантике и употреблении языковых единиц, в синтагматике текста и «композиторском» мастерстве автора.
Содержание шести глав данного исследования, изложенное выше, поставленные в нем задачи описания единиц поэтического языка и текстов Вяч. Иванова, особенности этого описания, о которых частично было уже сказано, свидетельствует о его актуальности, новизне и научной значимости.
Об актуальности исследования не в последнюю очередь говорит и тот факт, что язык и стилистика данного автора, за исключением отдельных сторон и частных наблюдений, на фоне истории русского литературного языка и в аспекте собственно лингвопоэтическом практически не изучался. Отсутствие специальных исследований, посвященных языку и стилю Вяч. Иванова, в этой области контрастирует с большим числом работ об Иванове, относящихся к сфере литературоведения, истории культуры, эстетики, философии, религии, богословия.
Язык поэта-символиста и блестящего стилиста как самостоятельный объект описания не был до сих пор предметом специального изучения со стороны лингвистов. Сказанное, однако, требует оговорки. Так, прекрасные образцы анализа буквенно-звуковой структуры ряда анаграмматических текстов Вяч. Иванова, что уже отмечалось выше, были даны В. Н. Топоровым [1987]. В другой работе этого же автора, посвященной мифу о Тантале, поставлена проблема создания «античной» трагедии русским поэтом ' и средствами русского языка [Топоров 1989]. Паронимические сочетания консонантного типа в языке и текстах поэта еще раньше анализировались Н. А. Кожевниковой [1984]. Но в указанных работах язык и тексты Иванова рассматриваются на фоне, русской поэтической традиции или как реализация одной из версий античного мифа. Иначе говоря, язык Иванова не предстает здесь как самостоятельный объект описания.
Специально языку Вяч. Иванова посвящены две работы Л. А. Гоготишвили [1999, 2002]. В первой из них, больше ориентированной на теоретические высказывания Иванова-символиста, обсуждается проблема
имени и предиката в представлениях поэта на фоне имяславия. Вторая работа посвящена анализу антиномического принципа в поэзии Иванова и языковым формам и приемам его воплощения [Гоготишвили 2002]7. Однако при анализе соответствующих языковых форм в текстах Иванова, воплощающих этот принцип, автора, как представляется, больше интересует теоретический аспект их рассмотрения, в особенности референциально-логический и философский. Ср.: «Общая тактика лексических способов расшатывания именующих потенций сочетаний из лексических антонимов — надстраивание дополнительных антиномических этажей. Иванов часто пользуется общераспространенными способами такого надстраивания. <...> Характерно же ивановскими приемами надстраивания антиномических этажей, направленными на расшатывание именования, можно признать те, с помощью которых различные пары антонимов не помещаются в однотипные синтаксические позиции, используясь в качестве имен разных референтов, а вводятся в непосредственное синтаксическое скрещивание и тем направляются на единое референциальное поле, расщепляя его и раскалывая целостно-предметное восприятие референта. Например, прием нанизывания двух пар антонимов на один синтаксический стержень: Розы сладость /На горечи Креста (Ш, 445) или всасывание в воронку символического тождественного суждения не одной, а двух пар взаимонанизанных антонимов; И корни — свет ветвей, и ветви — сон корней (I, 747). Предметная контурность общего референта теряет здесь отчетливые очертания» [Гоготишвили 2002, с. 225-226].
В качестве примера другого рода исследования, лингвистического по методам и характеру наблюдений, но по существу игнорирующего вопросы поэтики, в том числе и авторской стилистики, можно привести кандидатское сочинение В. Ю. Прокофьевой, где описаны элементы мифологизма в лексической структуре текстов Вяч. Иванова [Прокофьева 1996].
Указанными работами в целом определяется уровень и фрагментарность изучения языка поэзии Вяч. Иванова со стороны лингвистической науки.
Намного лучше в этом отношении выглядит литературоведение. Работы С.С. Аверинцева, Н.В. Котрелева, А.Е. Барзаха, Е. Эткинда, М.Л. Гаспарова,
7 Другая, более ранняя работа этого автора, посвящена проблеме имени и предиката в воззрениях Вяч. Иванова [Гоготишвили 1999]. Собственно лингвистический аспект проблемы имени и предиката в этой работе представлен неявно и периферийно.
К. Тарановского, Л. Силард, А.Б. Шишкина и др. исследователей творчества Вяч. Иванова привлекают внимание к ключевым вопросам языка и стиля поэта и оказываются чрезвычайно важными для изучения поэтического языка Вяч. Иванова в аспекте лингвопоэтическом.
Значение работ С. С. Аверинцева в этом ряду трудно переоценить. На протяжении нескольких десятилетий С.С. Аверинцев всматривался в творчество Вяч. Иванова, постигал его с разных сторон, в разных проявлениях, никогда не обособляя частное от целого, чтобы не исказить это частное и не умалить целое. Не столь обширные по количеству страниц и объему книги, статьи и комментарии С. С. Аверинцева, обращенные к личности и творчеству Вяч. Иванова [1975, 1992,1995а, 1996а, 20016, 20026], содержат множество проницательных наблюдений, то более развернутых, то эпиграмматически сжатых, но всегда точных. Они ориентируют «другого» — читателя и исследователя — в литературных связях поэта-символиста, в восприятии его личности, в соотношении его теоретических воззрений и поэтической практики, в достоинствах и «слабостях» его поэзии, в прочтении его прозы и даже в понимании отдельных его реплик и сентенций — на фоне истории русской поэзии и культуры, в контексте «Серебряного века» русской культуры и европейской культуры. Не случайно данное исследование поэтического языка Иванова «пестрит» ссылками на работы и труды этого филолога, что можно было понять из сказавшейся части Введения. Аверинцев яснее других видел истоки и ошущал парадоксы необычайной архаичности русского языка в поэзии Иванова, в том числе о его языковой утопии; он подчеркнул системность символов в творчестве поэта-символиста; «вслушался» и всмотрелся в фонетику и ритмику его стихов; обратил внимание на характерно-ивановские, но в духе «шеллингианской» поэтики тождества, повторы типа «небеса небес»; определил мелопею «Человек» как центральное произведение всей символистской культуры, охарактеризовал ее в аспекте содержательном, религиозно-философском и в жанровом; писал о пушкинской и тютчевской традициях в творчестве поэта-символиста; указал на гномическое начало в стихотворениях Иванова, писал об особенностях ивановского юмора и стратегии цитирования в творчестве поэта, которая проявляется в наложении образов и формул различных культурных традиций, ддр.
Е. Эткинд, Т. Венцлова, А.Л. Топорков и др. продолжили наблюдения над архаичностью языка и стиля Иванова, особенно ярко проявляющуюся в некоторых его произведениях («Терпандр», «Повесть Светомире» и др.) [Эткинд 1997, Венцлова 1988, Топорков 2002, 2]. Н.В. Котрелев внимательнейшим образом исследует архивы Вяч. Иванова, уточняя историю создания некоторых текстов, отразившиеся в них факты биографии, литературные связи, т.е. все то, что относится к «эктропическому» пространству Автора, в понимании В.Н. Топорова, или к проблеме интертекстуальности [Котрелев 1996, 2000]. Важными являются работы, публикации текстов поэта и комментарии к ним А.Б. Шишкина, в особенности те, которые привлекают внимание к религиозно-философскому и символистскому аспектам текстов, языка, фактов биографии Вяч. Иванова [Шишкин 1992,1996]. Об особенностях ритмики и строфики Вяч. Иванова на фоне других поэтов начала XX века писал М. Л. Гаспарова [Гаспаров1993, 2000]. Проблема отдельных образов в поэзии Иванова, связанных с его переводами из древних, влияние на других поэтов в аспекте интертекстуальности были рассмотрены К. Тарановским [Тарановский 2000]. Л. Силард писала о мифологическом слое некоторых текстов Иванова, исследовала тонкую и динамичную связь различных культурных и религиозных традиций в их содержании [Силард 1999]. А.Е. Барзах привлек внимание к разного рода повторам в языке Иванова и поставил вопрос об их источниках и функциях, подчеркнул своеобразие ивановской цитаты [Барзах 1995]. В наблюдениях над цитатами и реминисценциями в творчестве Вяч. Иванова многое было сделано Р.Е. Помирчим [Иванов 1976, Иванов 1995,2].
В текстологическом, историко-культурном отношении и в плане поэтической биографии автора важными для данного исследования были работы, публикации, комментарии и примечания к текстам биографа поэта О. А. Шор-Дешарт (в брюссельском СС Иванова), воспоминания дочери поэта Лидии Вячеславовны [Иванова 1992] и его сына — Димитрия Вячеславовича [Обер, Гфеллер 1999]. Исследования других зарубежных и отчественных литературоведов и филологов, писавших об Иванове и его творчестве ([Дэвидсон 1986], [Климов 2002], [Мицкевич 2002], [Стояновский 1996], [Павлова 2003] и др.), способствовали уточнению задач данного исследования.
Лингвопоэтический аспект исследования языка поэзии Вяч. Иванова во многом определен именами и работами, принадлежащими уже истории науки
в этой области: А. А. Потебни, А. Н. Веселовского, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, позднего Р. О. Якобсона. Виноградов и Жирмунский были не только младшими современниками Вяч. Иванова, размышлявшими в 20-е годы XX над вопросами поэтики, но отчасти и его единомышленниками: во взглядах на соотношение языка поэтического, языка художественных произведений и языка литературного, разговорной речи; над взаимообусловленностью «формы» и «содержания» в произведении словесного творчества и в языковом факте, рассматриваемом со стороны эстетической. Исследования В. В. Виноградова по языку и стилю Пушкина и др. [Виноградов 1935, 1938, 1980] оказали влияние на такие аспекты описания языка Вяч. Иванова в рамках данной работы, как: связь языка этого автора с историей литературного языка, восприятие и оценка этого языка и стиля на фоне книжной церковнославянской традиции, соотношение в нем индивидуально-авторского и общепоэтического начал, традиции и новизны. Поучительным было также характерное для метода Виноградова отношение к произведению художественной словесности как к сложному и динамичному целому, в объяснении и описании которого, с той или иной точки зрения, заключаются задачи поэтики. Статьи В. М. Жирмунского: о немецком романтизме и современной мистике, отразившихся в мирочувствии и поэтике символистов, о типах композиции в стихе, о чертах индивидуально-авторской поэтики в звуковой организации стихотворного текста [Жирмунский 1921, 1996, 2001] — способствовали более глубокому пониманию и объяснению некоторых особенностей поэзии Вяч. Иванова и со стороны формы, и в отношении содержания и смыслов. Поздний Р. О. Якобсон, писавший о поэтической функции языка, о близости поэта и жреца в архаичную эпоху [Якобсон 1983, 1987], также оказывается созвучен теургу, символисту и архаисту Вяч. Иванову, в свое время строго высказавшемуся о притязаниях «русских формалистов» заложить основы новой поэтики (IV, с. 646).
Современный этап лингвистической науки, исследующей язык поэзии, представлен в данной работе рядом имен. Из главных первым должен быть назван В. Н. Топоров, частые ссылки на идеи и труды которого уже встречались в предшествующей части Введения. Работы этого замечательного филолога и лингвиста по общим проблемам семантики и структуры текста и поэтики текста в аспекте пространственности [Топоров 1983, 1993 а], по классу архаичных
текстов [Топоров 1988а, 1995в, 1987] и архаичным элементам в истории русского языка [1961], по «мифопоэтическому» слою в русской литературе [Топоров 19956,2003а], по семантике и композиции цитатных текстов в аспекте интертекстуальности, «авторской» в том числе, диалогичности [Топоров 1995г, 1984] — явились для данного исследования определяющими, и концептуально-методологически, и в отношении конкретных методов и приемов описания единиц поэтического языка и текста. Идеи В. Н. Топорова об «эктропическом» пространстве поэзии, представляющем собой два пересекающихся «подпространства»: Творца и текста, дали новый импульс к привлечению фактов биографии Вяч. Иванова при анализе текстов, отразивших их с разной степенью преобразования.
Изучение языка поэзии и художественных текстов, как показали работы В. Н. Топорова и других лингвистов (Р. О. Якобсона, Вяч. Вс. Иванова, Т. М. Николаевой, Т. В. Цивьян), должно соединять синхронический и системный аспект описания с диахроническим. Такой подход, преодолевающий противопоставленность синхронии и диахронии в описании языка, при описании языка поэзии Вяч. Иванова с его исключительно архаизаторскими тенденциями является наиболее адекватным. Следование ему отразилось в постановке задач данного исследования, в структуре работы, в содержании ее глав, в характере наблюдения над конкретными языковыми формами, текстами и их единицами.
Определяющими для данной работы были также исследования по синтаксису поэтического текста, некоторым категориям поэтической грамматики и поэтическому языку и стилю одного автора И. И. Ковтуновой [Ковтунова 1971, 1993, 1986, 2003, 2004]. Как показала И. И. Ковтунова, специфика категорий и форм поэтической грамматики в сравнении с аналогичными фактами литературного языка и разговорной речи, обнаруживается, большей частью, в семантике этих единиц и их текстовом употреблении. Своеобразие этой семантики и употребления, обусловленное действием специфических для поэтической речи факторов коммуникации, и составляет содержание «поэтического» в данных формах. Его выявление требует обращения к тексту — целому или его фрагментам. Вне текста поэтические свойства и характеристики единиц поэтической грамматики, соотношение в них общепоэтического, связанного с целым направлением или
школой и индивидуально-авторского начал, не очевидны. Труды И. И. Ковтуновой, в которых следование виноградовской традиции в изучении произведений словесного творчества соединяется с кругом новых идей и подходов в современной лингвистике и поэтике, были поучительны и своей «деликатностью» в отношении к описываемым автору и тексту: абстрактные построения и научные модели в них не довлеют, но служат интерпретации и описанию объекта.
Труды М. Л. Гаспарова в области стиховедения, а также посвященные проблеме взаимодействия синтаксиса и стиховой формы, стилистике переводных текстов авторов архаичных эпох [Гаспаров 1983, 1986, 1989а, 19896, 2000], исследования В.П.Григорьева, относящиеся к области теоретической поэтики, поэтической образности и языку поэзии В. Хлебникова [Григорьев 1979, 1986], Н. А. Кожевниковой — по словоупотреблению и звуковой организации поэтических текстов (в творчестве А. Пушкина, А. Белого, А. Блока, А.Ахматовой и др.) [Кожевникова 1979, 1982, 1996] во многом содействовали уточнению задач и характера наблюдений над языком, стилем и особенностями индивидуальной поэтики Вяч. Иванова, что отмечается по ходу данного исследования.
Обращение к некоторому кругу проблем религиозно-философской литературы — тр. С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, М. Бубера и др., — к богословским комментариям и наблюдениям над текстами литургической традиции С. С. Аверинцева, М. Ф. Мурьянова, Г. П. Чистякова было естественным при изучении языка и текстов Вяч. Иванова, чей символизм относится к роду «духовного символизма». Привлечение работ этой традиции полезно и в том отношении, что они проясняют некоторые особенности мировоззрения Вяч. Иванова — мировоззрения, которое «сакрализует культурную традицию, систематически употребляя в приложении к ней категории, обычно прилагаемые в богословском дискурсе к тому, что называется Священным Преданием» [Аверинцев 20026, с. 11]. С другой стороны, поэтика византийских и церковно-славянских богослужебных текстов вошла как в состав языка русской поэзии, так и в поэтические тексты и язык Вяч. Иванова. Названные выше работы помогают ориентироваться в церковной поэтической традиции и на ее фоне оценивать факты поэтического языка и тексты Вяч. Иванова. Ср. сказанное М. Ф. Мурьяновым: «Сегодня
интерпретация произведений искусства слова, созданных русскими поэтами на религиозную тему, представляет, пожалуй, наибольшие трудности, потому что филологу, специализированному на поэзии нового времени, церковная традиция известна лишь извне и в самых общих чертах, достаточной начитанностью по этому вопросу обладают только медиевисты, которые, со своей стороны, обычно далеки от проблематики поэзии нового времени» [Мурьянов 20036, с. 175].
Участие в научных конференциях, организуемых Н. Д. Арутюновой, и устные беседы с И. И. Ковтуновой, В. П. Григорьевым, М. Л. Гаспаровым, Н. А. Кожевниковой, Н. В. Котрелевым, К. А. Максимовичем, А. А. Тахо-Годи, Г. П. Чистяковым, Л. Л. Шестаковой и др. по общим и частным проблемам поэтики Вяч, Иванова, получившим отражение в данной работе, были для ее автора вдохновляющими и плодотворными. Чтение докладов по отдельным проблемам диссертационного исследования и их обсуждение на заседаниях отдела стилистики и языка художественной литературы (ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН) способствовало уточнению некоторых понятий, используемых в работе, усилению аргументации и диалогичности всей работы в целом.
Структура работа, кроме Введения и шести глав, о содержании которых было уже сказано, включает Заключение и Библиографию. Каждая глава предваряется краткой аннотацией ее содержания В Заключении приводятся основные результаты исследования и главные выводы.
Об одном из парадоксов эволюции поэтического языка Иванова в его отношении к архаичной традиции
Архаичность составляет важнейший компонент поэтики и поэтического языка Вяч. Иванова. Об этом писали, как уже отмечалось во Введении, многие, в том числе: Ф. Зелинский, А. Белый, Д. Святополк-Мирский, С. Аверинцев, Т. Венцлова, Е. Эткинд, А. Барзах, А.Топорков. В ст. 1920 г. «Русское письмо. Символисты» Д.П. Святополк-Мирский, давая высокую оценку Вяч.Иванову как стилисту («Как стилист, он не знает себе равных...»), отмечал его архаическую манеру выражения, в которой нет ничего искусственного, замысловатого, так как Иванов «пользуется всеми теми преимуществами, которые русский язык приобрел благодаря близкому родству с церковно-славянским», притом что он «говорит на языке, который по своей структуре ближе греческому, чем язык Буало...» [Святополк-Мирский 2002а, с.30].
Необычайная плотность в употреблении различного рода архаизмов в ивановских текстах наблюдается уже в «Кормчих Звездах» (1903 г.) — первом поэтическом сборнике Иванова. Сказанное Аверинцевым о «разгуле изысканных архаизмов» у Вяч. Иванова в контексте разговора об О. Мандельштаме и в противоположность его поэтике [Аверинцев 1996в, с. 202] можно отнести ко всем трем периодам творчества поэта-символиста: раннему, среднему и, с некоторыми оговорками, к позднему. Особенно ярко эта черта поэтического языка Иванова проявилась в трех главных поэтических сборниках: «Кормчие Звезды», «Cor Ardens», «Свет Вечерний», представляющих разные периоды его творчества, — ив его «Повести о Светомире царевиче». В языке Вяч. Иванова, каким он предстает в его поэзии и в поэтизированном повествовании-сказе об исторических судьбах России, действительно можно видеть обобщенный образ русской речи «от Илариона и Епифания Премудрого до словаря Даля» (С. Аверинцев). Разного рода церковнославянизмы и русизмы древнерусской эпохи, в художественной и нехудожественной литературе XVIII—XIX вв., воспринимаемые в более позднее время как архаизмы, устаревшая лексика, книжные средства или элементы высокого и поэтического стилей, занимают в «русской речи» Иванова-поэта не просто значительное, но чрезвычайно важное место. Церковнославянизмы преображение, рождество, предание, общеязыковые славянизмы блаженство, кормчий, наслаждение, двукорневые имена с благо-, злато-Ьолото- и -творить, -кудрый [Верещагин 2000, с. 168] и другие определяют его архаическую стилистику.
Крайности архаичного «славяно-русского языка» в поэтическом языке Иванова, в известной степени, подобны тем, какие были свойственны литературному языку XVIII в.: «и по материалу, и, главным образом, по степени его концентрации» [Левин 1964, с. 34]. Как и в литературном языке, оценка стилистических качеств некоторых элементов архаичного слоя славянизмов в языке Иванова, представляется достаточно сложной, хотя и по-иному. Общекнижные и маловыразительные в контексте «высокого» слога слова вежды, ветр, живот (в значении жизнь), зреть, младой, хладный, древо, сретать, очи, десница, огнь, соделыватъ, восхотеть, объемлю и др., если судить по употреблению в первой половине XIX века и по их конечной судьбе [Левин 1964, с. 81-82], в поэтических контекстах Иванова они большей частью выступают сигналами архаичного и высокого поэтического стиля, как бы обретая не свойственную им в языке литературном выразительность. Возвращаясь в своем творчестве к важнейшему источнику русского языка — языку церковнославянскому, Иванов одновременно возвращается к отразившемуся в нем, говоря его же словами, «духу, образу, строю словес эллинских» (IV, с. 616). Усваивая уроки использования архаизмов своими учителями и предшественниками Пушкиным и Тютчевым, Иванов превосходит их в этом. Ему оказывается ближе ломоносовско-державинская поэтическая традиция с ее подчеркнутой архаичностью и одичностью. При этом Иванов, как пишет С. С. Аверинцев, обнаруживает «очень последовательную, не боящуюся крайностей языковую стратегию» и «небывалое со времен битв шишковской "Беседы любителей русского слова" с карамзинским "Арзамасом" пристрастие к славянизмам», сквозь которые для знатока греческого просвечивают знакомые обороты и словообразовательные модели, т. е. греческие образцы [Аверинцев 2001, с. 70].
Вяч. Иванов как будто действительно ощущал себя «органом, через который растет язык» (цит. по [Эткинд 1995, с. 186]). В его поэтическом языке «растут» ранее освоенные русской поэзией славянизмы и всякого рода архаизмы и их новые «побеги», созвучные архаичным элементам древнерусской эпохи. И в этом тоже есть аналогия с литературным языком эпохи Ломоносова, Радищева, Державина (XVIII в.), где неологизмы звучат «нередко так же архаично и искусственно, как и самые обветшалые славянизмы» [Левин 1964, с. 67].
Поэтическая практика Иванова в отношении использования архаичной «словенской» лексики и других средств церковнославянского книжного языка, а также архаичных элементов языка исконно русского не расходилась с его теоретическими воззрениями на поэзию. Так, один из тезисов Иванова в его лекциях по поэтике обращает внимание на то, что поэзия «хранит однажды найденные формы» (цит. по [Эткинд 1995, с. 137]). Архаичные формы в составе его русского языка, и поэтического языка в особенности — органичный компонент представлений Вяч. Иванова о культуре как памяти — «памяти не только о земном и внешнем лике отцов, но о достигнутых ими посвящениях, — как "культе предков", как "воскрешении отцов"» (Ш, с. 395, 412). В том и другом можно видеть проявление «культурной дипломатии» поэта (выражение Н. В. Котрелева).
К проблеме звуковых повторов в поэтическом языке и индивидуальном стиле Вяч. Иванова
Особенности поэтической фонетики Вяч. Иванова в значительной степени объясняются присущей ему чуткостью к звуковой стихии языка и ее возможностям в сфере поэтического творчества. Однако эта общая закономерность проявляется и в творчестве других выдающихся поэтов. Ориентирами для выявления своеобразия поэтической фонетики Иванова могут быть принадлежащие ему наблюдения над звуковой организацией стиха и звуковой техникой Пушкина. Характер и направление анализа фонетики текстов Иванова в значительной степени определяется свойственной для его поэтики «вовлеченностью» звуков в формирование поэтических смыслов, что неоднократно отмечалось разными исследователями его творчества. Отсутствие специальных исследований в этой области поэтического языка Иванова отчасти компенсируется целым рядом отдельных и весьма ценных наблюдений и замечаний, принадлежащих разным исследователям, — все они, по возможности, будут приведены ниже и включены в общий контекст наблюдений. Обращение к научным трудам, выполненным на другом материале и с преимущественным вниманием к звуковым повторам как поэтическому приему или элементу формы, не имеет в данной работе самодовлеющего значения, но также ориентировано в смысле «уроков» анализа на поэтическую фонетику Иванова.
Выражения «звучащая плоть» и «мыслить звуками», «живопись звуков», принадлежащие Иванову-теоретику, характеризуют его отношение к звуковой стихии поэтического произведения как основе и чувственной форме, которая не отделима от смыслов и рождающегося поэтического содержания. В заключении статьи «К проблеме звукообразов у Пушкина» (1925 г.) он пишет: «Самое внутреннее и духовное в сердечном опыте, породившем поэтическое творение, отпечатлелось на самом внешнем и чувственном в составе этого творения, на его звучащей плоти» (IV, с. 349). Утвердившемуся в филологической науке XIX в. представлению об «образном» первоначале поэтического творчества он противопоставляет вывод о роли «звукового» начала: «"Образами мыслит поэт" — говорили нам, прежде всего он мыслит звуками». Эта афористически выраженная и полемически заостренная мысль завершает всю статью. Правда, о первоначале звуковой стихии в поэтическом творчестве Иванов говорил и раньше, в рамках курса по поэтике, который читался им в Бакинском университете. В записях одного из слушателей курса эта мысль Иванова звучит так: «Формула Потебни "Поэзия — мышление образами" — неверна, до образов в языке возникли звукообразы, составляющие основу поэтической речи» (цит. по [Эткинд 1997, с. 186]). Именно в звукообразе, как его понимает Вяч. Иванов осуществляется связь звука и представления, фонический материал получает смысловую мотивированность. В этом взгляды и поэтическая практика Иванова обнаруживают близость к позиции других современных ему поэтов — Бальмонта и Хлебникова [Эткинд 1997, с. 188], [Григорьев 1979], [Кожевникова 1990, с. 168-170].
В своих бакинских лекциях по поэтике Иванов подчеркивает мысль о том, что важнейшим признаком поэзии со стороны формы является связанность речи. Связанность как свойство поэтической формы, стиховой ткани произведения достигается ритмом и звуковыми повторами. В список звуковых повторов Иванов включает рифму, ассонансы, рифму по началу, аллитерацию, собственно звуковые повторы. Собственно звуковыми повторами называется «повторение определенных звуков в той же строке в том же порядке, как они прозвучали, или в обратном» (цит. по [Эткинд 1997, с. 186— 187]). Интересно в связи с приведенным наблюдением обратиться к двум статьям одного из младших современников поэта В. М. Жирмунского — «Задачи поэтики» (1919) и «Валерий Брюсов и наследие Пушкина» (1922), — где сходная мысль выражена более детально и с установкой на научную дифференциацию1. Среди особенностей звукового строя поэтической речи, которые должны изучаться в рамках поэтики, Жирмунский называет: особый выбор звуков, их особое расположение и качественную сторону, которая является источником художественного впечатления. Важно также обращать внимание на связь звуковых и лексических повторов2. Художественное упорядочение фонетического материала проявляется и на уровне композиции. Жирмунский также указывает на значение повторяющихся одинаковых ударных гласных, на расстановку их в симметричных местах строфы или стиха, усиливающую «впечатление густоты и насыщенности художественного целого» [Жирмунский 2001, с. 27,42,49,236 и др.].
Сны и сновиденья в поэтическом языке и текстах Иванова
Символика снов, увиденного во сне или пережитого как поэтическое сновиденье-мечтанье составляет одну из ярких особенностей символической системы и всего поэтического языка Иванова. На эту сторону творчества поэта обратил внимание один из современников поэта С. Н. Булгаков в статье, написанной как отклик на сб. «Борозды и Межи» (1916 г.): «"Сновидцем быть рожден поэт", настойчиво повторяет Вячеслав Иванов стих Вагнера, разумея вещие сна, вещей обличение невидимых» [Булгаков 1976, с. 138]. Поэтическое «сновидчество» Иванова проявляется по-разному: некоторые из его стихотворений строятся как развернутое сновиденье; в других — сновидческие образы, сон, вообще символика и семантика сна занимают важное место, определяя семантический строй и структуру значительных или более локальных фрагментов текста. О роли сновидений и сновидческой символики в поэзии Иванова свидетельствует уже сама частота корнесловов со значением сна. Большей частью это существительное сон, адьектив сонный и глагольные формы: безличная снится, личные типа спит и др. Именно они сигнализируют о присутствии в поэтическом тексте сновидческих образов.
Сновидческие образы и смыслы в поэзии Иванова обусловлены рядом факторов. Некоторые из них в рамках «пространственной» поэтики В. Н. Топорова могут быть связаны с «под-пространством» Автора, другие — с «под-пространством» текста [1993а]. Мысли о поэтических сновидениях или описание увиденного во сне включают и литературно-критические статьи Вяч. Иванова, его дневники. Особая чуткость Иванова к сновиденьям объясняется целым рядом причин. Едва ли не наиглавнейшая из них — влияние мифопоэтической традиции. О роли снов и дивинаций у древних, в особенности у древних греков, Иванов знал не только как ученый книжник, но и как поэт-мифотворец. К этому располагали и психо-физиологические особенности личности Иванова, о которых частично свидетельствуют его дневниковые записи. К сказанному следует добавить огромное влияние на Иванова поэтической и религиозно-философской традиций,, в которых сновиденья и их символика занимают важное место (Данте, Петрарка, Тютчев, Достоевский, Новалис, Флоренский)1.
О значении, которое придавал Вяч. Иванов снам в своей жизни и судьбе, косвенно свидетельствуют два обращенных к нему стихотворных посвящения М. Альтмана, два сонета с общим заглавием: «Снотолкование». Первый из сонетов начинается так: Немало вещих снов, сновидец чудный, / Поведал миру ты, но всех их боле /Мне кажется пронзительным до боли / Последний твой, и горестный и трудный [Альтман 1995, с. 13].
В качестве теоретика символизма Иванов о поэтических снах в процессе творчества наиболее полно сказал в докладе, опубликованном в 1913 г. под названием «О границах искусства» (II). Творчество форм, по Иванову, проявляется «в мистической эпифании внутреннего опыта, которая может быть ясным видением или лицезрением высших реальностей», затем следует «аполлинийское видение», которое представляет собой «то сновидение
1 Следование поэтической традиции, проявление последней в тексте имеет отношение и к «подпространству» текста. Но этот вопрос здесь специально не обсуждается. поэтической фантазии, что поэты привыкли именовать своими творческими «снами». «Третий момент поэтического творчества являет собой воплощение снов в смысле, звуке...» (II, с. 631-632). Статья начинается пространным отрывком из третьей главы «Новой Жизни» Данте с его мистическим опытом сновидений, запечатленных в слове. Далее назван Петрарка и приведен его 34 сонет с визионерной формой изложения лирической идеи, а затем и Гете как «художник порубежных царств между искусством и природой, искусством и мистикой» (с. 628-629, 651). Пушкин тоже не забыт автором: пушкинские строки «И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей» ярко иллюстрируют природу аполлинийских снов (с. 645). К этому ряду упоминаемых в статье авторов может быть добавлено еще два имени: Тютчев и Новалис.
Общее влияние поэтики Тютчева на Иванова, как известно, было весьма значительным, а это предполагает и влияния частного порядка2. Как «ночной» поэт Тютчев часто обращается в своих стихах к символике сновиденья. См. несколько контекстов: «Лишь Музы девственную душу В пророческих тревожат снах!»; «Твой сон - пророчески-неясный, как откровение духов...»; «И в нашей жизни повседневной бывают радужные сны»; «Она между двойною бездной, лелеет твой всезрящий сон— ...» [Тютчев 1966].