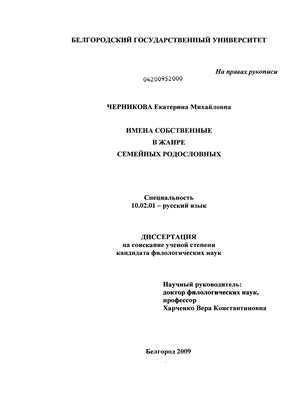Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ: СВОЕОБРАЗИЕ ИХ СЕМАНТИКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВО ВНУТРИСЕМЕЙНОМ ДИСКУРСЕ 27
1.1. Проблема значения имени собственного 27
1.2. Функциональная неоднородность антропонимов 45
1.3. Ономастический состав семейных родословных 60
1.4. Историко-культурные имена в языковой
ткани семейных родословных 65
1.5. Феномен прецедентного имени в родословном дискурсе 69
Выводы по главе 1 72
ГЛАВА II. АНТРОПОНИМИКОЙ КАК ЯДЕРНАЯ ЗОНА СЕМЕЙНЫХ РОДОСЛОВНЫХ 74
2.1. Стратегия имянаречения: типология мотивов в зеркале семейных родословных 78
2.2. Стратегии именования субъектов в жанре семейных родословных: имя в устах членов семьи 92
2.2.1. Родственный фактор 93
2.2.2. Возрастной фактор 98
2.2.3. Тендерная атрибуция 102
2.2.4. Психологический (межличностный) фактор 103
2.3. Особенности введения имени собственного
в текст (первое упоминание имени) 105
2.3.1. Структура интродуктивного контекста 106
2.3.2. Способы введения имени собственного в текст 109
2.4. Дистрибуция имени собственного 112
2.5. Типология употребления имени собственного 123
Выводы по главе II 135
ГЛАВА III. «ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ» В ЖАНРЕ СЕМЕЙНЫХ РОДОСЛОВНЫХ 138
3.1. Клички животных в контекстах внутрисемейного нарратива 139
3.2. Топонимика семейных родословных 141
3.2.1. Имена собственные - географические узлы
в развитии нарратива родословных 141
3.2.2. Топонимические легенды в сюжетике
повествования о собственной семье 147
3.3. Названия учреждений, предприятий, реалий быта и др. как проявление дальней периферии ономастикона семейных родословных 148
3.4. Языковая личность автора в аспекте употребления имен собственных 156
3.5. Интердискурсивность семейных родословных в аспекте употребления имени собственного 161
Выводы по главе III 166
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 169
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 175
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 193
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 198
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Квантитативные показатели дистрибуции имени собственного 199
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Историко-культурный антропонимикой в исследованных текстах семейных родословных 207
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Образцы семейных родословных 210
- Проблема значения имени собственного
- Стратегия имянаречения: типология мотивов в зеркале семейных родословных
- Клички животных в контекстах внутрисемейного нарратива
Введение к работе
1. Язык семейных родословных как относительно новый объект современной лингвистики
Внутрисемейный дискурс относится к малоизученным сферам отечественной лингвистики, хотя охватывает многочисленные ипостаси языка семьи: внутрисемейное словотворчество [Харченко 2008], интертекстуальность в репликах членов семьи, паремии, задействованные в спонтанном общении и др. В пространстве внутрисемейного дискурса ощутимо прорисовывается специфический жанр повествований (устных и письменных), который можно подвести под понятие семейных родословных. Это развернутый рассказ об истории семьи, который сравнительно недавно попал в поле зрения специальных лингвистических исследований [Харченко 2002, 2003, Павлова 2004, Рухленко 2005]. В публикациях В.К. Харченко заострена проблема актуальности исследования семейных родословных, намечены возможные перспективы научного поиска в данном направлении, в частности, перспективы восстановления утраченных концептов: СВЕРХМНОГОДЕТНОСТЬ, СВЕРХДОЛГОЛЕТИЕ, ЛИЧНЫЙ ГЕРОИЗМ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ [Харченко 2007: 6]. По мнению В.К.Харченко, анализ корпуса текстов семейных родословных делает возможным исследование и такой лингвистической проблемы, как синергетика типа текста (повествования, описания, рассуждения) в динамике расширения при описании, углубления при рассуждении, неожиданности - при повествовании [Харченко 2007: 46]. Особо подчеркивает исследователь большие возможности анализа семейных родословных в плане изучения
отечественного ономастикона. «Богатейший материал по антропологии (и несколько меньший по топонимике) делают сам жанр семейных родословных надежным средством изучения функционирования имени в ситуации смены поколений. Списки имен родственников автора текста дают возможность отнаблюдать разнообразие и динамику корпуса личных имен, образование гипокористических имен, проблему мотивированности в выборе имени. Особые абзацы посвящены фамилиям, не обойдены вниманием и прозвища, в том числе семейные, то есть родословные дают возможность проникнуть в игровую (семейно-дружескую) герменевтику имени» [Харченко 2003].
В диссертационных исследованиях А.А. Павловой и Н.Н. Рухленко на материале семейных родословных был подвергнут детальному рассмотрению целый ряд актуальных проблем, начиная с языковой специфики самого жанра. Подробно анализируя жанровые признаки исследуемых текстов, А.А. Павлова отмечает особенности нарратива в сочинениях о семье: наличие обязательной связи между персонажами и автором-повествователем [Павлова 2004а: 32-33]. Несомненно, значимым в исследовании А.А. Павловой является рассмотрение семейных родословных как гипертекстов, для которых характерны нелинейность и экстериоризация текстуальных связей, длительность, т.е. «большая протяженность во времени и пространстве рассказа одного какого-либо эпизода по сравнению с другими эпизодами, не столь релевантными для рассказчика», детализация, что «дает возможность частично объяснить способность текста внутрисемейной родословной одновременно оставаться и линейным текстом (нарративом), и нелинейным, то есть гипертекстом» [Павлова 2004а: 22-23].
Особое внимание исследователь обращает на специфику интертекстуальности. Наряду с художественными и публицистическими реминисценциями выделены внутрисемейные прецедентные тексты, для которых в жанре семейных родословных существуют различные средства маркирования (графические, композиционные, стилистические средства,
использование слов- и сочетаний-стимулов, а также грамматические средства выделения чужой речи - введение прямой, косвенной, редуцированной, свободной прямой и несобственно-прямой речи) [Павлова 2004а: 40].
Детальный анализ внутрисемейных родословных позволил А.А. Павловой определить концептосферу жанра и её ядерно-периферийную организацию, а также выявить специфику способов лексической репрезентации концептов. Определены сегменты Я концепта, профильные признаки концепта ПАМЯТЬ с учетом тендерной и возрастной характеристик авторов, ядерная и околоядерная зоны концепта ИМЯ, особенности его функционирования в отличие от других концептов и т.д. [Павлова 2004а: 116].
Ценность исследования А.А. Павловой заключается в описании дистрибуции концептов с применением метода моделирования концептуального пространства, который позволяет «одновременно фиксировать случаи как пересечения концептов, так и непосредственно их актуализации» [Павлова 2004а: 117]. Разработанная методика помогла выявить прототипическую структуру текстов внутрисемейных родословных, как набор наиболее характерных концептов. Результаты исследования представлены не только в таблицах, но и в виде графического изображения концептуальной дистрибуции, что позволило выявить актуальные для процесса концептуального прогнозирования типы связи между составляющими концептосферы: отношения подчинения, включения, равнозначности [Павлова 2004а: 118-126].
Анализируемое исследование языка семейных родословных позволило наметить интегративную область науки, которую исследователь называет нейроконцептологией. Подчеркнуто также, что семейные родословные, представляющие собой спонтанное припоминание информации, могут стать ценным источником изучения процесса памяти [Павлова 2004а: 147].
Диссертационное исследование Н.Н. Рухленко посвящено анализу ключевого для жанра родословных концепта СЕМЬЯ. Структурная организация концепта рассматривается посредством анализа фреймов (КРОВНОЕ РОДСТВО и РОДСТВО ПО СУПРУЖЕСТВУ), которые включают в себя слоты: СЕМЬЯ КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ, РОДИТЕЛИ -ДЕТИ, МУЖ - ЖЕНА [Рухленко 2005: 54]. Н.Н. Рухленко определила структуру концепта СЕМЬЯ в жанре семейных родословных: ядро (субъекты семьи и чувства, объединяющие их), околоядерная зона (ПАРА, БРАК, РОДОСЛОВНАЯ, РОД, БЛИЗКИЕ, ФАМИЛИЯ, СОЮЗ, СЕМЕЙСТВО, РОДНЫЕ, ПРЕДКИ, СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО/РОДСТВЕННЫЕ КОРНИ, КЛАН, ПАРТИЯ, СУДЬБА, ДОМ) и периферийная зона (КНИГА, ПРОСТРАНСТВО, ГОСУДАРСТВО, ТЕАТР, МУЗЕЙ, ВРЕМЯ, ДУША, ЦЕННОСТЬ, НАУКА, ИСКУССТВО, ВЫСШАЯ СИЛА, ГНЕЗДО, ОТПЕЧАТОК, ЗЕРКАЛО, НОША, РЕКА, ЗДАНИЕ, ОЧАГ, РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРИМЕНТА, НИТИ, ОМУТ). Исследователем был разработан прием анализа взаимодействия и пересечения микрополей и установлены типы отношений между ними, основанные на положительных или отрицательных эмоциональных переживаниях [Рухленко 2005: 178-179]. Анализ слотов способствовал не только созданию структуры концепта, но и установлению параметров для выделения микрополей, а также в целом определению объема содержания понятия СЕМЬЯ. [Рухленко 2005: 117-118]. При анализе концепта СЕМЬЯ учитывались межконцептные связи с такими концептами, как ВОЙНА, СМЕРТЬ, ИЗМЕНА.
В исследовании Н.Н. Рухленко использовано понятие языковых сгущений: «таких систем лингвистических фактов, которые даже при поверхностном впечатлении определяют своеобразие жанра» [Рухленко 2005: 176]. К жанрообразующим сгущениям отнесены портретные описания, паремии, аксиологические характеристики, онимикон. Признавая особую значимость имен собственных в структуре жанра, исследователь
рассматривает такие явления, как мотивы именования в семейной сфере, тезоименность, коннотативное содержание имени, особенности первичных и вторичных внутрисемейных имен. [Рухленко 2004: 120-133], однако в целом об онимиконе в исследовании говорится постольку, поскольку концепт СЕМЬЯ трудно представить без именования родственников.
Разумеется, при всей безусловной значимости отмеченных диссертаций и монографии данными работами не исчерпывается область возможного изучения языка семейных родословных.
При первом же знакомстве с текстами сочинений «История моей семьи» бросается в глаза обилие имен собственных и прежде всего наименований лица. Исследование имен собственных (в частности антропонимикона) долгие годы и по настоящее время проводилось и проводится на богатейшем материале художественных текстов: в составленном Г.Ф. Ковалевым библиографическом указателе, насчитывается 1943 позиции! [Ковалев 2006]. Помимо художественного вектора сбора материала в последние годы стал чаще привлекаться документоведческий вектор: сведения из ЗАГСов, телефонные справочники, архивные материалы, регистрационный фонд поликлиник [Олейникова 2007, Беляева 2008]. Выводы в таком случае «опираются на анализ фамилий, отвечающих в матрице соотношения знания и незнания критериям «было/ есть и зафиксировано» [Задорожный, 2002: 26]. Таким образом, изучение имен собственных в жанре свободного сочинения «История моей семьи» восполняет лакуну между «виртуальными» именами собственными в художественном тексте и «сухими перечнями» фамилий в текстах документов. Материалы семейных родословных с позиции своеобразия ономастического состава монографически до сих пор изучены не были.
Исследователи имен собственных, равно как исследователи речевого этикета, не раз отмечали отсутствие разработки социостилистической парадигмы форм личного имени «в их
социокультурном пространстве и лингвокультурологической специфике» и указывали «на многообразие формул, которое может дать официальная формула именования русского человека, что может быть истолковано с позиций прагмалингвистики» [Формановская 2004а: 30-31]. Представляется, что материалы семейных родословных создают оптимальную базу для изучения социостилистических парадигм форм личного имени как в социокультурном аспекте, так и в лингвокультурологическом преломлении.
Исследование имени собственного в составе семейных родословных вписывается в общую теорию языкового позитива, поскольку трудно найти категорию слов, в большей степени обладающих положительной коннотацией, нежели имена собственные (личные). «Имя по сущности своей глубоко положительно, это - сама положительность, само утверждение (назвать - утвердить на веки вечные, закрепить в бытие навсегда, ему присуща тенденция к нестираемости, несмываемости, оно хочет быть врезанным как можно глубже, в возможно более твердый и прочный материал и т.п.), в нем нет ни грамма отрицания, уничтожения, поэтому вокруг имени сосредоточиваются все положительные, утверждающие, хвалебно-прославляющие формы языковой жизни (оно глубоко эпично, с другой стороны и эпос (также трагедия) не могут быть анонимными или псевдонимными или неисторичными, т.е. о заведомо вымышленном, типическом, только возможном лице, как роман) <...> Пока сохраняется имя (память), сохраняется (остается) в бытии именуемый, продолжает ещё жить в нем» [Бахтин 1992: 146].
2. Цель и задачи исследования
Актуальность разработки темы определяется, во-первых, тем, что активизировавшийся в современном социуме жанр семейных родословных лингвистами стал исследоваться относительно недавно [Павлова 20046, Рухленко 2005] и содержит много неизученных языковых и речевых явлений,
тенденций, фактов. Во-вторых, при мощном слое публикаций, посвященных именам собственным, возникла асимметрия между исследованием онимов в художественном дискурсе и во всех остальных дискурсах. В-третьих, актуальность определяется тем, что имя собственное весьма значимо для самоидентификации языковой личности как автора сочинения, так и адресата (адресатов) текста. В-четвертых, изучение состава имен в родословных актуально в плане устранения дефицита лексического разнообразия имен в социуме.
Научная новизна исследования определяется тем, что имена собственные рассматриваются в новом исследовательском пространстве семейных родословных, при этом анализу подвергаются все типы имен собственных: антропонимы как ядерная зона, топонимы как периферийная, имена собственные - названия предметов как объекты дальней периферии исследуемого жанра. Новым является обнаружение жанрового своеобразия в таких характеристиках имен собственных, как дистрибуция имени, частотность официальных и неофициальных имен, квантитативные характеристики задействованных в семейных родословных формул именования, способы введения имени собственного в текст. Введение в научный оборот самого материала (фрагментов сочинений на тему «История моей семьи») с комментариями, отражающими связь языка и жанра, также свидетельствует о закреплении относительно нового направления лингвистического поиска. В работе ряд понятий и терминов получил авторское толкование: семейное имя, дворовая фамилия, внутрисемейное именование и др.
Материалом исследования послужили тексты сочинений на тему «История моей семьи». Авторами сочинений явились взрослые респонденты, а именно студенты различных факультетов Белгородского государственного университета очного и заочного отделения. Объем сочинения был задан в пределах 0,4 п. л. В общей сложности было проанализировано
377 сочинений, в которых было выделено свыше 2000 контекстов, содержащих имена собственные. В отдельных случаях использовались диктофонные записи рассказов об истории семьи.
Объектом исследования явились имена собственные различных разрядов, зафиксированные методом сплошной выборки в текстах сочинений, отражающих внутрисемейный родословный дискурс.
Предметом изучения является признаковое своеобразие имен собственных в жанре родословных: типология мотивов имянаречения, особенности контекста, авторские предпочтения в использовании вариантов имени и т.п.
Цель исследования: рассмотреть один из аспектов взаимосвязи языка и жанра сквозь призму специфики употребления и функционирования имен собственных в жанре семейных родословных. Сформулированная цель предполагает постановку и решение следующих задач:
1. Провести теоретический анализ достижений современной
отечественной и зарубежной лингвистики в области изучения имени
собственного в аспекте поиска наиболее адекватных материалу
классификаций, наработок и приемов анализа.
2. В максимально полном объеме исследовать состав личных
собственных имен, зарегистрированных авторами родословных: мотивы
имянаречения, специфика лексического окружения собственного имени,
квантитативные характеристики формул именования, варианты
употребления имени (диминутивы, вокативы), оценка имени.
3. Выявить специфику использования других типов имен
собственных в жанре семейных родословных: топонимов, агионимов и т.п.
4. Описать феномен текстопорождающих свойств имени
собственного в жанре родословных: имя и сюжет, имя и нарратив, имя и
текст.
5. Проанализировать факты интертекстуальности и интердискурсивности в использовании имен собственных в жанре семейных родословных в аспекте отражения кумулятивной функции личного имени.
Методы исследования. Ведущим методом исследования в работе явился метод поля, оптимально структурирующий разнообразие онимов в составе семейных родословных через выделение ядерных и периферийных зон. Метод поля использовался также при описании отдельных блоков материала. В общем строе работы были задействованы также такие методы и приемы исследования, как контекстуальный анализ, квантитативный анализ, дистрибутивный анализ (имя и его окружение), классификационный и сопоставительный методы.
Методологической базой исследования послужили
труды теоретиков имени собственного: В.Д. Бондалетов, Н.В. Васильева, СИ. Гарагуля, М.В. Голомидова, М.В. Горбаневский, Г.Ф. Ковалев В.А. Никонов, СИ. Смольников, А.В. Суперанская, В.И. Супрун.
труды специалистов по топонимике: Е.Л. Березович, В.Д. Бондалетов, А.К. Матвеев, В.Н. Топоров.
публикации специалистов по разговорному дискурсу: М.В. Китайгородская, О.Б. Сиротинина, В.К. Харченко;
публикации лингвистов, изучающих язык семейных
родословных: А.А. Павлова, Н.Н. Рухленко, В.К. Харченко.
Положения, выносимые на защиту:
1. Имя собственное является важнейшим жанрообразующим средством семейных родословных, трактуемых как свободное повествование об истории своей семьи. Частота функционирования имен собственных в данном жанре определяется спецификой описания разветвленного генеалогического древа. Имя в родословных становится импульсом сюжетодвижения, центром сосредоточения информации о носителе имени,
тем самым реализуя текстообразующую и кумулятивную функцию. Обладая мощным нарративным потенциалом, имя становится импульсом включения в текст микроисторий о носителе имени, так называемых биографем. Парадокс функционирования имен собственных в семейных родословных заключается в их кажущейся избыточности. Автор родословных вполне может ограничиться термином родства, и, тем не менее, обилие собственных имен, стремление указать имя, если оно известно, становятся свидетельствами социальной значимости имени не только во внутрисемейном дискурсе.
В жанре семейных родословных имя обнаруживает свои позитивные свойства, в абсолютном большинстве случаев имя характеризуется мелиоративной коннотацией. Дополнительным свидетельством этому является свойственная русской культуре внутрисемейных отношений широкая амплитуда именования родственников: полное имя, дворовая фамилия, квалитатив, диминутив, перифраза, что можно пронаблюдать, также исследуя не только формулы именования, но и дистрибуцию имени при назывании родственников.
Весь спектр многообразных имен собственных в жанре семейных родословных целесообразно интерпретировать в терминах теории поля, когда антропонимы выступают как ядерная зона (имя родственника организует центральную часть рассказа о собственной семье), топонимы выступают как периферийная зона, а имена собственные - названия предметов образуют зону дальней периферии.
Несохраненность имени коррелирует с информационными провалами, лакунами текста, что почти всегда сопровождается сожалением автора родословной об утрате столь значимой информации. Лексемы сожаления регулярно фиксируются в описаниях событий Великой Отечественной войны, когда навсегда неизвестным становилось место гибели, место захоронения воина.
Семейные родословные дают уникальную возможность изучить иерархию мотивов имянаречения в синхронии и диахронии, мотивов достаточно разнообразных и не ограничивающихся крестильным именем и именованием в честь родственника. На выбор имени влияют ассоциации с героями литературных произведений, просьбы старших по возрасту детей, фоносимволика имени, природные и временные ассоциации, приснившийся сон и мн.др.
Тексты родословных раскрывают многообразие стратегий именования в зависимости от родственного, возрастного, тендерного и психологического факторов, а также типологию употребления антропонима: нарративное употребление, автонимное, вокативное и авторское.
Своеобразие жанра семейных отразилось в структуре интродуктивного контекста при первом упоминании имени, а также в особенностях дистрибуции имени собственного (употребление его с термином родства, этнонимом и др.). Некоторые квантитативные характеристики типовых дистрибуций имени (дядя Юра, моя бабушка Маша) свидетельствуют о модельных свойствах именования родственников.
Развернутых топонимических экскурсов в семейных родословных немного: носители языка ограничиваются скупым указанием места, где жила семья, города, куда переехали родственники, и т.п. Вместе с тем авторы сочинений устойчивое внимание уделяют топонимическим легендам, и родословные выступают как своеобразный архив топонимических легенд, преданий и аллюзий с актуализацией соответствующих лексем.
Жанр семейных родословных отражает уровень креативности языковой личности их авторов. Наряду с типизированными текстами выделяются сочинения яркие, написанные художественно, с лирическими отступлениями, рассказами об этимологии имени, фамилии, легендами о топонимах. В типизированных сочинениях при анализе имен собственных
прототипом выступает документный текст, в креативных сочинениях — художественный. Интердискурсивность семейных родословных проявляется также в языковых сигналах публицистического дискурса {Не становиться Иванами, родства не помнящими).
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что анализ имен собственных в составе семейных родословных необходим, во-первых, для дальнейшей разработки теории языкового позитива. Во-вторых, описание имен собственных в новом исследовательском пространстве - в текстах развернутых сочинений «История моей семьи» - значимо для общей теории имени собственного, для проведения сопоставительных наблюдений по специфике имени в родословном и художественном дискурсах. В-третьих, исследование состава личных имен в ситуациях рассказа о судьбах родственников, об истории семьи может стать материалом для психолингвистических и социолингвистических аспектов исследования имени.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут найти применение не только при чтении лекционных курсов «Теория языка», «Современный русский язык», «Лингвистический анализ текста», но и в лексикографической практике, при составлении словарей имен собственных с опорой на материалы текстов семейных родословных. Практико-прикладное значение исследования связано также с необходимостью развития психологической устойчивости личности путем опоры на позитив имени и «многовершинную» (термин В.Н. Нурковой) трактовку прошлого, в том числе прошлого собственной семьи. Исследовательский интерес к судьбам отдельных семей должен стать стимулом расширения архива семейных родословных в частных коллекциях, музейных запасниках, архивах.
Апробация исследования. Основные положения диссертационного исследования были изложены в виде докладов на конференциях различного
уровня: Международной научной конференции, посвященной 75-летию профессора А.Н. Тихонова (Елец, 2006), Всероссийской научной конференции «Социальное здоровье нации и будущее национальной медицины» (Белгород, 2006), Региональной научно-методической конференции «Технологические основы формирования речевой культуры школьников и студентов» (г. Алексеевка, 2007), Международной научно-практической конференции «Развитие речи и обучение родному языку детей дошкольного возраста: теория, методика, региональная практика» (Елец, 2007), двух областных научно-практических конференциях «Традиции рода, семьи в гражданском становлении личности» (Белгород, 2007, 2008), 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Слово в контексте народной культуры» (Белгород, 2008), 2-й Региональной научно-методической конференции «Современные проблемы лингвистики и методики преподавания речеведческих дисциплин в вузе и школе» (г. Алексеевка, 2008), Международной научно-практической конференции: Вторые Фроловские чтения «Семья и школа: от прошлого к будущему»: (Белгород, 2008).
По теме исследования опубликовано 11 работ, включая публикацию в журнале по списку изданий, входящих в перечень ВАК РФ.
Структура диссертации подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 3-х приложений.
Во Введении, помимо обоснования актуальности выбранной темы,
уточнения объекта и предмета исследования, характеристики научной и
практической значимости работы, рассматриваются особенности семейных
родословных как нового жанрового объекта современной лингвистики,
дается комментарий к некоторым терминологическим понятиям,
используемым в дальнейшем исследовании: "родословные",
"внутрисемейный дискурс", "антропоним", "гипокористическое", "диминутивное", "квалитативное имя" и др.
В первой главе анализируется своеобразие имен собственных (их функциональная неоднородность, ономастический состав, прецедентные имена) по свидетельствам лингвистической литературы и применительно к материалу исследуемых семейных родословных.
Во второй главе в центре внимания стоит антропонимикой как ядерная зона имен собственных в семейных родословных. Рассмотрению подвергается стратегия именования субъектов в исследуемом жанре, особенности введения имени собственного в текст, дистрибуция имен собственных и типология их употребления.
В третьей главе анализу подвергаются «периферийные» имена собственные: клички животных, топонимикой, названия учреждений, предприятий, реалий быта, а также исследуется языковая личность автора сквозь призму употребления имен собственных и проблема интердискурсивности семейных родословных в аспекте функционирования онимов.
В Заключении обобщаются основные итоги проведенного исследования и определяются его перспективы.
В Приложении 1 представлены таблицы «Формула имени и её дистрибуция» (5) и две обобщающие диаграммы.
В Приложении 2 отражен историко-культурный антропонимикой по материалам исследуемых текстов.
В Приложении 3 приведены пять полнотекстовых образцов семейных родословных.
3. Комментарий к некоторым терминологическим понятиям
При использовании в своем исследовании таких понятий, как «концепт», «персоносфера», «синергетика» и т.п., мы придерживались современной научной лингвистической парадигмы. Вместе с тем, проведение любого развернутого исследования накладывает ряд спецификаций на употребление понятий, ключевых для данного исследования, тем более что на сегодняшний день наблюдается расхождение в трактовке таких терминологических понятий, как имя собственное, оним, топоним и др. Прокомментируем понимание ключевых терминологических понятий, релевантных для данного исследования.
Мемуары. Семейные родословные мы разграничиваем с речевым жанром мемуаров, хотя эти жанры имеют много общего. Исследователи мемуарных текстов носителей вторичного типа речевой культуры [непрофессиональных писателей. - Б.Ч.] отмечают такие признаки жанра, как связь памяти и восприятия, образные параллели, связанные со словами память, воспоминание, жизнь, время, прошлое, подвижная временная точка отсчета, синхронизацтия изображенного и повествующего субъекта; ассоциативно-хронологический принцип компоновки событий [Орлова 2004: 7]. Содержательно мемуары не предполагают, как родословные, внутренней структуры генеалогического древа семьи и равного внимания к различным персонажам повествования. В мемуарах больше внимания уделяется внешним событиям, более ярко представлено «ego» их автора. Таким образом, особенности семейных родословных лишь частично совпадают с жанровыми характеристиками мемуарной литературы.
Родословные. Термин «родословные» можно рассматривать в широком и узком смысле. С одной стороны, родословные - это генеалогическое древо, отражающее родственные связи членов семьи, а с другой, это свободные по композиции устные рассказы и тексты сочинений о
семье. В качестве рабочего определения мы принимаем следующее определение. Родословные - это «устные и письменные тексты, посвященные истории собственной семьи, существующие внутри семьи и бережно передающиеся из поколения в поколение в виде рассказов, фрагментов бесед, текстов магнитофонных записей. При всей спонтанности ситуаций, стимулирующих рассказы о прошлом семьи, многие фрагменты, а подчас и целые тексты производят впечатление отшлифованных, устоявшихся, законченных (при их явной открытости) произведений, что позволяет говорить о сформировавшемся и требующем исследования объекте» [Павлова 2004а: 5-6]. В своей монографии исследователь отмечает «малочисленные точки соприкосновения преданий и анализируемых текстов, в то время как описанные расхождения между ними носили системный и ярко выраженный характер» [Павлова 2004а: 7]. Отличия родословных преданий и внутрисемейных родословных сводятся к следующему. Жанр родословных преданий «предполагает рассказ лишь о происхождении рода и не может включать оценку рассказчика, равно как и описание виденных им событий», а в жанре внутрисемейных родословных «встречаются сюжеты из жизни не только бабушек и дедушек, но и родителей, а также факты автобиографии рассказчика». «Данный жанр включает в себя <...> его (автора) оценки и объяснения данных событий, рассуждения о жизни, лирические отступления и т.п.». [Павлова 2004а: 8-10]. А.А.Павлова выделяет следующие специфические особенности внутрисемейных родословных: наличие концептосферы с особой структурной и системной организацией, повествование о происхождении рода, полиэпизодичность рассказов, отсутствие глобального характера сюжетов, присутствие рассказов о непосредственно наблюдавшихся автором событиях, инкрустирование фактов автобиографии, а также собственных оценок, лирических отступлений и т.п., наличие реальных или предполагаемых, потенциальных слушателей — членов семьи, рекреативная функция наряду с функцией
внутрисемейной передачи информации от поколения к поколению [Павлова 2004а: 10].
Внутрисемейный дискурс. Совокупность текстов семейных родословных целесообразно рассматривать как дискурс, значение которого «в значительной степени метафорично. В таком качестве дискурс определяет не межперсональный диалог, происходящий посредством и через общественные институты между индивидами, группами и организациями, а также между самими социальными институтами, задействованными в этом диалоге» [Рябцовский 2008: 46]. «Под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму. Такое противопоставление реального говорения его результату помогает понять и то, в каком смысле текст может трактоваться как дискурс: только тогда, когда он реально воспринимается и попадает в текущее сознание воспринимающего человека...» [Кубрякова 1997: 19]. Применяя данное определение к семейным родословным, отметим, что отдельные фрагменты передаются от поколения к поколению, неоднократно воспроизводятся в речи с некоторыми изменениями. В то же время оформленные графическим способом тексты также представляют собой дискурс, так как это «связная последовательность языковых единиц, создаваемая/созданная говорящим/пишущим для слушающего/читающего в определенное время в определенном месте с определенной целью» [Номинация 1999: 13]. Что касается последней характеристики, то, действительно, тексты семейных родословных создаются для передачи сведений о семье, о происходивших, причем наиболее значимых событиях, запечатленных в памяти человека.
Импринтинг. Важным представляется вопрос о закономерностях включения в жанр семейных родословных тех или иных отображенных в
речи фрагментов действительности. В содержательном плане это события, которые имели для родственников важное значение, и, оставшись в памяти, воспроизводятся в определенной ситуации и адресуются слушателю или читателю. В плане выражения это реализуется с помощью фрагментарности повествования. В текст включаются запомнившиеся картинки детства, юности, эпизоды. В таких случаях мы сталкиваемся с языковой экспликацией феномена импринтинга. О феномене импринтинга пишет в своей книге В.Р. Дольник. «Ребенок, родившись, импринтингует (запечатлевает) мать - её образ, голос, запах, даже ритм пульса. Все её качества окрашиваются положительными эмоциями (она, как и запечатленная родина, лучше всех) и обсуждению со стороны рассудка не подлежит, пока дитя находится в зависимом возрасте» [Дольник 1994: 63].
Интенция. Намерение говорящего, в данном случае намерение автора родословной. Если импринтинг осуществляется на бессознательном уровне, то другой процесс, представляющий важность в процедуре описания истории семьи, - это влияние позиции, мнения, предпочтений самого автора, реализующихся не только в ситуации передачи сведений, но и в ситуации непосредственного воспроизведения своего собственного видения и понимания значимости семейного социума и включения языковых единиц как содержательного плана, так и плана выражения, то есть что включается автором в сюжет повествования и как в ткани текста отображаются речевые стратегии и интенции автора. Интенции автора обусловливают процессы самоидентификации, коннотативных характеристик, использования диминутивов, метафор и пр.
Персоносфера - сфера «персоналий», «образов», «живое одушевленное население планеты концептов». «Язык, который не поддерживается персоносферой, не может быть задан как норма, как образец. Пушкин стал основоположником русского литературного языка не потому, что так захотел царь Николай или, предположим, декабристы, а потому, что
языку Пушкина нельзя подражать. Для современного публичного пространства характерно бытование лозунгов, за которыми нет никакого образа» [Хазагеров 2002: 143]. Персоносфера особа значима в жанре семейных родословных, так как наполнение текста осуществляется самим автором в соответствии с собственным восприятием действительности и замыслом всей речи. Для содержательного богатства текстов семейных родословных необходимым является включение членов семьи с обязательным называнием именем.
Идентификация Н.Д. Арутюновой рассматривается, во-первых, как установление тождества онима всем другим кореферентным ему дескриптивным номинациям индивида; во-вторых, как установление тождества объекта самому себе при употреблении имени в разных контекстах [Арутюнова 1999: 273-293]. Для нас актуально второе значение. Особого рассмотрения требует вопрос о самопредставлении повествователя в жанре семейных родословных, т.е. о самоидентификации.
Имя собственное. Вслед за другими лингвистами, составляя тезаурусную статью термина «имя собственное», Н.В. Васильева, определяет его как «слово или словосочетание, которое называет индивидуальные предметы, выделяемые из состава однородных» [Васильева 2005: 11]. Поскольку имена собственные могут называть различные объекты, закономерно выделение в ономастике следующих разрядов.
Антропоним - любое собственное имя, которое может носить человек (или группа людей) в том числе личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка [Подольская 1978: 30-31]. В современной антропонимике существует точка зрения о необходимости разграничивать в связи с особенностями семантики и функционирования собственно антропоним и личное имя. М.Э. Рут отмечает, что «личное имя в отличие от антропонима, являющегося принадлежностью языка, существуют в социолекте, и чем уже социум, тем ярче особенности функционирования
онима» [Рут 2001], В других исследованиях антропоним и личное имя обозначаются терминами: потенциальные и актуальные имена [Смольников 2005], общие имена и индивидуальные [Уляшева 2001; Рут 2001], виртуальные и актуальные имена [Щетинин 1999].
Н.В. Подольская личное имя рассматривает как «1. основное официальное имя, данное человеку при рождении, или (редко) выбранное для себя взрослым человеком; 2. неофициальная форма этого имени» [Подольская 1978: 69]. Среди неофициальных личных имен отметим те, которые имеют место в жанре семейных родословных. Гипокористическое имя - имя, имеющее сокращенную форму основы или одну полную основу вместо двуосновной формы. Может быть суффиксальным (с нейтральным суффиксом) и бессуффиксальным. Квалитативное имя - имя со значением любой субъективной оценки, образованное (безразлично) от полной или сокращенной основы; в том числе аугментативное, диминутивное и пейоративное имя. Аугментативное имя - имя с увеличительно-устрашающим оттенком значения в данном контексте. Диминутивное имя -имя с ласкательно-уменьшительным оттенком значения в данном контексте. Пейоративное имя - имя с пренебрежительно-уничижительным оттенком значения в данном контексте [Подольская 1978].
Для родословных пейоративы неактуальны, даже если встречается антропонимы с суффиксом -к-, то они отражают скорее привычное, нежели пейоративное употребление. В своем исследовании мы используем преимущественно такие термины, как антропонимы, диминутивы и гипокористические имена (Валентина Ивановна, Валюша, баба Валя), учитывая, что последние две группы имен являются разновидностью квалитативов. Что касается такого родового понятия, как топонимы и ойконимы, то при анализе материала семейных родословных нет оснований отделять сельские поселения от городских (комонимы). Место проживания человека в данной работе обозначается термином «топоним», водные
объекты- «гидроним». Топонимы и гидронимы сравнительно регулярно встречаются в семейных родословных, в то время как обозначения улиц, площадей и т.п. носят характер единичных включений, и они анализируются в группе топонимической лексики.
Среди хрононимов сюжетика семейных родословных высвечивает группу праздников, упоминание которых связано со временем и причиной встречи всех членов семьи. Имя собственное — название праздника -частотно в семейных родословных и нуждается в отдельном термине. Мы предложили бы термин сакроиимы для обозначения религиозных праздников.
Имена собственные - названия артефактов, так называемые хрематонимы, представляют собой интересную группу лексем в общем корпусе имен собственных, однако терминологически обозначать каждую группу нецелесообразно в силу единичности их употребления. В рамках данного исследования актуально сохранить разграничения хрематонимов и идеонимов (именований в честь святых, повлиявших на выбор имени или упоминаемых в связи с праздником). В плане оптимального масштаба описания имен собственных у нас не возникало необходимости в более детальном дроблении исследуемого материала: отграничении наименований озер (лимнонимов) от наименования рек (потамонимов), наименования улиц (годонимов) от наименования площадей (агоронимов) и т.п.
Семейное имя. В контекстах родословных весьма частотны семейные имена. Под семейным именем исследователями понимается имя, часто используемое в нескольких поколениях данной семьи. Нам представляется, однако, что термин «семейное имя» по своей внутренней форме лучше раскрывает ситуацию имянаречения в честь близкого или дальнего родственника. Мы предлагаем ещё более прицельный вариант терминообозначения: внутрисемейное имя.
По признаку употребления /неупотребления необходимо отметить существование раритетных имен - имя, даваемое людям (по различным мотивам) крайне редко; «новое» имя - условный термин, обозначающий официальное имя, как правило неканоническое, появившееся после отмены обязательного выбора имен из крестного календаря (у русских); искусственное, придуманное, заимствованное у других народов, иногда сокращенная форма имени вместо полной, иногда каноническое раритетное имя [Подольская 1978].
Остальные термины, включая "отчества", "фамилии", "прозвища", мы используем в традиционном исследовательском русле. Отчество - именование, произведенное от имени отца [Подольская 1978: 107]. Фамилия- наследуемое официальное именование, указывающее на принадлежность человека к определенной семье [Подольская 1978: 155]. Прозвище - дополнительное имя, даваемое человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии [Подольская 1978: 115]. Псевдоним - вымышленное имя, существующее в общественной жизни человека наряду с настоящим именем или вместо него [Подольская 1978: 118]. Таким образом, в русской антропонимической системе для именования человека существуют различные функциональные разряды антропонимов, призванные называть и идентифицировать объект и актуальные для исследования имени собственного в составе семейных родословных.
Система ключевых терминологических понятий представляет собой наложение терминов ономастики на термины, отражающие специфику самого жанра записанного семейного нарратива.
Проблема значения имени собственного
Имена собственные являются языковой категорией, устойчиво привлекавшей внимание ученых различных эпох. Признавая значимость имен собственных как в языке, так и в социуме, не только лингвисты, но и философы придерживались противоположных подчас точек зрения на проблему наличия / отсутствия значения у имен собственных. Обобщая многовековую историю исследования имен собственных, А.В. Суперанская называет попарно противоположные теории:
1. Теория, согласно которой собственные имена не имеют значения в отличие от нарицательных, означающих предмет и подразумевающих атрибут (Милл);
2. Теория, согласно которой собственные имена имеют большее значение, чем нарицательные (стоики, римский грамматик IV века Диомед, Суит, Есперсен, Бреаль);
3. Теория, согласно которой имя исключительно индивидуально (стоики, Дионисий Фракийский, Аполлоний Дискол, римские грамматики Диомед, Донат, Консентий (V в.), грамматики Пор-Рояля, Суит);
4. Теория, согласно которой все имена собственные - синонимы (Тогебю);
5. Теория произвольности собственных имен (Есперсен, Кристоферсен, Гардинер);
6. Теория строгой мотивированности собственных имен (восходит к греческой теории «по природе»; возрождается в XX веке как противоположная теория произвольности) [Суперанская 1973: 88]. Показательно, что все шесть приводимых А.В. Суперанской теорий имен собственных проецируются на материалы исследованных семейных родословных.
1. Теория, согласно которой имена собственные не имеют значения, иллюстрируется многочисленными ситуациями имянаречения новорожденного: Я родилась в городе Белгороде. Когда мне выбирали имя, не могли прийти к общему мнению: бабушки хотели назвать меня Наташей, другие родственники — Светой, но мама с папой назвали меня Ириной. (П.И. с. 6).
2. Теория О. Есперсена, М. Бреаля, согласно которой собственные имена имеют большее значение, чем нарицательные, в текстах семейных родословных находит текстовое подтверждение в аспекте дистрибуции и коннотации личного имени. Мама привезла её в родную деревню, и когда Иван Федорович Мезенцев взял её на руки и посмотрел в её глаза, он сказал: «Ну вот, родилась ещё одна баба Параня» (М.Е.В. с. 7}.
3. Теория, согласно которой имя исключительно индивидуально, аргументируется самим жанром семейных родословных, пафос которых посвящен индивидуализации изображения близкого человека, родственника, имя становится ключевым знаком такой индивидуализации. Вернулся только один - Макар, Макарушка... Как радовалась Наташка! Как она бросилась ему на шею, едва он сошел с поезда! Мать стояла рядом, терпеливо дожидаясь, когда стихнут Натаишны эмоции, и лишь потом сильно прижала Макарку к себе и так стояла, не отпуская его, зарылась лицом в его прокуренную шинель, и только плечи вздрагивали, и голова все сильнее зарывалась в его широкую грудь... (Г.М.Н., с.4).
4. Теорию Тогебю о том, что все имена собственные синонимы, семейные родословные иллюстрируют принципиальной множественностью именования описываемого человека. См. вышеприведенный контекст (Макар, Макарушка, Макарка). Другой пример: Мария — старшая дочь, и она практически самостоятельно воспитывала младших братьев (Владимир, Иван, Петр, Василий, Алексей). ... Маняша, так ее ласково звали родители с детства, была усердной ученицей. ... Рядом с их домом находилась старая церковь, и постепенно родные стали замечать, что Маша стала интересоваться православными обрядами и богослужениями. ... Он — псаломщик, а Мария Захарова — в церковном хоре, на клиросе. Симпатия, вспыхнувшая между ними, быстро перерастала в нечто большее. И как молено было не полюбить милую Машеньку Захарову? ... Раздумывали недолго, и, получив согласие родителей, 23 апреля 1923 года Калинин Игнат Петрович сочетается законным браком с девицей Марией Ивановной Захаровой. Свадьба была светлой и радостной (Г. А.В., с. 5-7).
5. Наибольшую аргументацию тексты семейных родословных дают в адрес теории произвольности собственных имен (Гардинер), о чем свидетельствует сама ситуация выбора имени и ситуация переименования. По нашим подсчетам, в 48% случаев авторы родословных никак не мотивирует выбор имени того или иного персонажа родословных.
6. С такой же частотностью тексты семейных родословных иллюстрируют теорию строгой мотивированности собственных имен, что будет подробно рассмотрено ниже.
По мнению А.В. Суперанской, «все эти теории одновременно, в одинаковых условиях для одних и тех же имен не могут быть верны. Очевидно также, что каждая из них содержит рациональное зерно - иначе они не были бы созданы - и что каждая может быть справедлива в каких-то условиях, для каких-то лексических групп, при принятии каких-то ограничений» [Суперанская 1973: 88].
Стратегия имянаречения: типология мотивов в зеркале семейных родословных
В народной культуре особенную значимость придавали наречению, как важной составляющей в жизни человека, что отражено в целом ряде паремий. С именем Иван, без имени — болван; Без имени ребенок - чертенок. Акт наречения воспринимается как первое важное действо для жизни человека после его рождения. Имя давалось в процессе обряда крещения, что отражено в народных верованиях: Не крещен младенец — Богдан, Рожден, а не крещен, так Богдашка. На Руси всех некрещеных младенцев называли Богданами, Богдашками [Кондратьева 1983: 31]. В текстах семейных родословных подобные ситуации отражения не получили. В ситуации имянаречения проявляется культурная специфика ИС, поскольку имя не возникает спонтанно, оно появляется как потенциальный вариант для новорожденного, и выбор его часто обусловлен определенными факторами. В выборе имени новорожденному проявляются (косвенно или непосредственно) акты сознания человека, его представления о жизни через приоритеты такого выбора. Исследование свидетельств семейных родословных показывает, что наиболее частотное явление - наречение именем в честь родственника или уважаемого в семье человека. Такое имянаречение достаточно широко распространено в русской культуре. И связано оно с проявлением уважения, благодарности живущему родственнику и как дань памяти умершему: Сестричку назвали Танюшечкой в честь ее прабабушки, тети и бабушки (У.Е.С., с. 9); Прошло пять лет, и родилась я. Когда мой папа узнал, что у них будет дочка, то он сразу решил назвать меня в честь моей прабабушки Ирины. Мама хотела назвать меня Еленой, но папа не поддавался ни на какие уговоры. И так появилась Иринка (Н.И.С., с. 5). Наречение именем, которое носит представитель семьи, не всегда осознанно. Родители не знали, как назвать меня. Ведь если бы родился мальчик, его назвали бы Антошкой, а для девочки имя никто не придумывал, и, теперь, когда я родилась, все были в замешательстве. Мамина палата в роддоме находилась на третьем этаже. И бабушка с папой снизу перечисляли различные женские ішена, а мама и женщины, которые были с ней в одной палате, смотрели, подходит ли мне это имя. Было названо множество имён, но ни одно из них не подходило мне. И бабушка, в суматохе забыв уже своё имя, крикнула маме: «Анна». Мама со своими соседками по палате посмотрели на меня и одобрили это имя. Когда же пришло время записывать полное имя ребёнка в свидетельство о рождении, то бабушка наконец поняла, что я теперь её полная тёзка, её зовут Анна Петровна и меня тоже зовут Анна Петровна, только вот фамилии разные. А я теперь очень дорожу своим именем, ведь бабушка Анна Петровна была очень добрым, трудолюбивым человеком (Д.А.П., с. 3). Называние в честь родственника как способ сохранения семейного именника, родственных связей посредством личного имени: Перед моей сестрой не стояла проблема выбора имени для дочери. Лидия — так звали маму ее мужа Коли, она умерла, когда ему было 7 лет. Лидия — так зовут мою племянницу. Когда Dice у Оксаны родился сын, то его назвали в честь деда — Валентин. Папа был очень рад (С.Л.В., с. 4). Любили молодые детей, и через два года появилась у них маленькая Катюшка. Дочку называл Иван, попросил он жену: «Очень я тебя люблю и имя твое тоже, давай и дочку так назовем, чтоб такая лее была» (М.И., с. 3); Думали родители, что не будет больше детей, нет. На Новый год родилась у них еще девочка. Дуняша попросила родителей, чтоб Катей назвали, чтоб сестричка была такая же хорошая, как и старшая. Говорили, объясняли, что Катя у Dice есть, а она и слушать не хотела. Свое твердила, а потом заплакала, да так горестно. Решил отец: «Пусть будет еще одна Катя» (М.И., с. 4); Мама Ирина была добрейшей души оісеищина. Кстати, в честь ее меня папа и назвал Ирой. У прабабушки-Ирины был всегда одет фартук с большим карманом, в нем были угощения для детей (М.И., с. 7). Данный мотив является одним из основных в русской культуре имянаречения, что отмечается также в других исследованиях. Анализируя мотивы именования детей в г. Моршанске Тамбовской области, С.Д. Олейникова называет три основных мотивационных признака, которыми руководствуются родители при выборе имени для своего ребенка: 1) имя нравится обоим родителям, 2) имя дано в честь родственников (чаще всего в честь бабушки и дедушки), 3) имя дано в честь какого-нибудь святого [Олейникова 2007: 81].
Клички животных в контекстах внутрисемейного нарратива
Наименования всевозможных географических объектов (городов, сел, улиц, рек и т.п.) в языковом ландшафте семейных родословных, безусловно, связаны, тесно сопряжены с сюжетикой повествования, личными именами собственными. Однако в данном параграфе мы планируем отдельное рассмотрение состава топонимов в целях выявления их жанрообразующей специфики.
Наиболее многочисленны контексты, когда топонимы выступают в своем основном значении - назывании географического объекта. Сам состав топонимов во многом определялся «белгородским происхождением» авторов семейных родословных, поэтому в текстах немало точек пересечения с топонимами, зафиксированными в специальном исследовании «Названия населенных пунктов Белгородской области (системный лингвоанализ)». [Жиленкова 2006]: Бессоновка, Большое Городище, Авдеевка и др.
Авторы родословных стремятся не только к детализации портретных описаний, что продемонстрировано в главе И, но и к достоверности повествования о событиях, что достигается посредством точной датировки и широкого употребления топонимической лексики. Наблюдения над топонимами в жанре семейных родословных показали, что их употребление связано с особо значимыми событиями в истории семьи. Среди всего многообразия контекстов, включающих топонимы, можно выделить следующие текстовые блоки и структуры.
1. описательные конструкции, часто открывающие повествование о семье: История моей семьи уходит корнями в небольшое село, находящееся в семидесяти километрах от города Белгорода. Село с красивым названием Большое Городище, имеющее славную историю и отличающееся живописной местностью: леса, поля, горы, речка. Это незабываемый по красоте уголок природы, в котором радостно и весело в любое время года (Ф.М., с. 2). Тексты родословных иллюстрируют феномен импринтинга (запечатления), о котором писал В.Р. Дольник, когда в сознании носителя языка запечатлевается одна из картин детства, обычно летняя, связанная с положительными переживаниями начала жизни [Дольник 1994: 63].
2. В качестве зачина может быть использован художественный прием — риторическое обращение или вопрос. Неужели я все-таки смогла добраться сюда?! Так вот ты какая, Авдеевка! — вдохнув свежего воздуха полной грудью и немного осмотревшись: — М-да, это сейчас здесь поле; ровное, распаханное, с разделяющими тебя на квадраты посадками; часть никем не тронутой целины. А раньше ты была крупным богатым селом с красивым русским названием Авдеевка! (Р.А.Ю., с. 2).
3. Наиболее типично для семейных родословных введение топонима в текстовые структуры, отражающие наиболее значимые события в жизни человека: рождение, учебу, службу, работу, отдых; крещение, знакомство, постройку дома (приобретение квартиры), переезд, смерть. Топонимы можно считать маркерами значимости определенных событий для человека, поскольку употребление имен собственных свидетельствует о хранении в памяти человека не только факта произошедшего события, но и его подробностей. Зачастую подробность (а именно топоним) содержит свернутую значимую информацию для семьи и воспринимается как единственно возможное и весьма необходимое знание о событии. В 1943 году прабабушка Таня получила похоронку, что прадедушка Вася погиб в бою в Сумской области под поселком Бездрик. Там есть братская могила, куда прабабушка ездила, чтобы поклониться праху своего мулса (Ф.А.П., с. 4).
Для семейных родословных в целом упоминание о месте смерти человека нехарактерно, за исключением контекстов о Великой Отечественной войне и других исторических событиях, повлекших гибель человека.
Географические узлы - это не только названия мест, где родился, (реже - где умер) близкий родственник, но и названия мест заключения, концлагерей, характеризующих определенные периоды истории. Географические названия концлагерей образуют типичную группу топонимов в общем топонимиконе семейного нарратива. А не пошел он в университет вот по какой причине: его отца (прадеда Николая) отправили в Кар Лаг (это в Карагандинской области Казахстана, где я родилась и выросла) за то, что во время Второй Мировой войны (то есть Великой Отечественной) он сказал, что у немцев техника лучше, чем у нас. Его не так поняли и сослали.