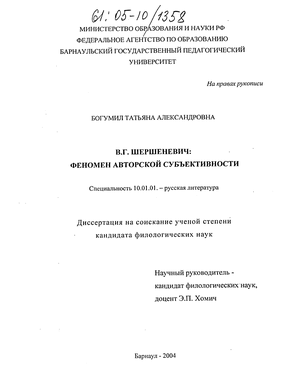Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Литературно-биографический субъект в оценке современников ...24
1.1. «Чужое слово» в творчестве писателя. Обзор критических и авторских рефлексий 29
1.2. Автор-трикстер (исследовательско-литературоведческая концепция) 47
Глава 2. Архетип трикстера в творчестве поэта: опыт реконструкции 59
2.1. Мотивный комплекс автора-трикстера 59
2.2. Художественные метавысказывания о «своем» и «чужом» 78
Глава 3. Типология интертекстуального дискурса 89
3.1. Автоинтертекст и творческая эволюция писателя 89
3.2. Становление интертекстуального дискурса: символистская, футуристическая, имажинистская «школы» 99
Заключение 130
Библиографический список использованной литературы 134
Приложения 155
Указатель 187
- «Чужое слово» в творчестве писателя. Обзор критических и авторских рефлексий
- Автор-трикстер (исследовательско-литературоведческая концепция)
- Мотивный комплекс автора-трикстера
- Автоинтертекст и творческая эволюция писателя
Введение к работе
Поэт В.Г. Шершеневич занимает особое место в истории русской литературы начала XX века. В силу некоторых политических, отчасти эстетических, обстоятельств писателя причислили к художникам «второго ряда». Следует учитывать и тот факт, что имажинизм, ярким представителем которого был исследуемый автор, долгое время «замалчивался» отечественными литературоведами. Обращаясь к истории течения (например, воссоздавая биографию С.А. Есенина), ученые оценивали его негативно. Официально имажинизм преподносился как богемное, эстетское явление. Более того, исключалась какая-либо оригинальность, самостоятельность, значительность группы - «эпигонов» футуризма, в том числе В.Г. Шершеневича.
Целенаправленное изучение имажинизма как неотъемлемого и важного компонента литературного процесса рубежа XIX-XX веков охватывает не более двух десятилетий. В 90-е годы прошлого столетия вышли в свет журнальные подборки произведений [Шершеневич, 1987, 1994, 1998], позднее, стихотворные сборники [Ивнев, 1988; Мариенгоф, 2002; Поэты-имажинисты; Шершеневич, 1994, 1996] и мемуары имажинистов [Ивнев, 1995; Мариенгоф, 1998; Шершеневич, 1987, ВО1]. Стали публиковаться документы, статьи о жизни и творчестве поэтов [Бобрецов, Галушкин, Дроздков, Евтушенко, Захаров, Казаков, Куклин, Нещеретов, Савченко, Сухов]. Открылся доступ к работам зарубежных ученых по истории и поэтике течения, написанным в 70-80-е гг. [Lawton, Markov, Мс. Vay]. Появились диссертационные сочинения [Савченко, Сухов, Тернова, Яжембиньска]. Среди отечественных специалистов, внесших ценный вклад в изучение В. Шершеневича, следует назвать В.А. Дроздкова, составителя сборника сочинений поэта «Ангел катастроф» [Шершеневич, 1994]. Регулярно печатаются статьи ученого об истории течения, фактах биографии В. Шершеневича, текстологические изыскания,
1 Здесь и далее аббревиатурами обозначаются работы В.Г. Шершеневича. Расшифровку сокращений см. в списке источников.
комментарии к вновь публикуемым малодоступным текстам [Дроздков, 1994-1999]. В соавторстве с известными есениноведами А.Н. Захаровым, Т.К. Савченко исследователь опубликовал журнальный вариант библиографии по русскому имажинизму (1913-1999) [Дроздков и др.]. Показателем увеличивающегося интереса к имажинизму явилась Международная научная конференция «Русский имажинизм: история, теория и практика (к НО—летию со дня рождения В.Г. Шершеневича)», проходившая в апреле 2003 года.
Стараниями современных ученых сделано многое, главным образом в заполнении пробелов истории литературы и текстологии, в преодолении политически предвзятых суждений предшественников. Перспективность исследования имажинизма в целом и необходимость более глубокого и всестороннего анализа этого явления подтверждается тем, что в настоящее время продолжается активное и последовательное изучение творчества представителей течения, вводятся в научный обиход новые источники.
Актуальность диссертации определяется целесообразностью обращения к творчеству «возвращенного» и малоизученного поэта, необходимостью «вписать» В.Г. Шершеневича в современный ему литературно-культурный контекст, потребностью в монографическом исследовании особенностей поэтики и форм проявления авторской субъективности писателя.
Имя В.Г. Шершеневича, знаменитого в свое время теоретика и практика футуризма, позднее, имажинизма, неизменно связывалось с проблемой «чужого слова». Многие современные поэту критики считали его бесталанным подражателем, эпигоном и плагиатором. Такая репутация закрепилась за художником и в советском литературоведении. «Вторичность» исследуемого автора, однако, можно считать не столько погрешностью, сколько генератором художественной информации, поскольку теория межтекстовых контактов в начале XX века только зарождалась. Тем самым, без сомнения оправданы предпринимаемые современными учеными попытки реинтерпретации творческой индивидуальности Вадима Шершеневича. Едва ли не впервые, в 1991 году, высказался по этому поводу Л.В. Куклин: «Шершеневич не был
ни подражателем, ни последователем "раннего" Маяковского» [Куклин, с.81]. Е.А. Иванова (Федорчук), отстаивая традиционную точку зрения о «подражательности» поэта, тем не менее, вносит коррективы: автор «не является слепым подражателем», «заимствованные образы <...> начинают функционировать по-другому» [Федорчук, 2001, с.119]. Развивая формулу А.И. Белецкого [Белецкий, с.38], исследовательница констатирует: «В. Шер-шеневич - читатель, взявшийся за перо, но читатель с очень хорошим вкусом» [Иванова, 2002, с.27]. Иначе смотрит на проблему «несамостоятельности» поэта В.Ю. Бобрецов. Ученый видит здесь сознательную установку автора на игровое, комическое, пародийное текстопорождение [Бобрецов, с. 15]. А.А. Кобринский дает еще более «оправдательную» характеристику «переимчивости» Шершеневича, одновременно выводя интертекстуальные отношения за рамки пародии: «...он, словно задавшись целью продемонстрировать условность и прозрачность границ русского авангарда, писал стихи, следуя эстетическим принципам самых различных литературных направлений <...> Шершеневич воспринимал основы поэтики каждого течения как свои; они причудливо накладывались на поэтическое «я» мастера, взаимодействовали друг с другом, сцепляясь в единое целое» [Кобринский, с.8]. Следовательно, свойственную эпохе цитатность, воплощением которой стал изучаемый автор, на современном витке науки уместно рассматривать не как бессознательное «подражание», но как вполне осознанный прием. Анализируя тексты, мы учитывали опыт критического и научного освоения «переимчивости» поэта. В то же время в работе предлагается новое решение проблемы авторской субъективности В.Г. Шершеневича. Как нам кажется, данная проблема заслуживает серьезного системного освещения.
Объект исследования - творчество В.Г. Шершеневича в критико-литературном контексте.
Предмет изучения - мифологизированная творческая личность, возникающая на пересечении биографического автора, субъекта и объекта кри-
тико-литературоведческих, автометаописательных суждений и автора внутритекстового, имманентного произведению.
Материал работы составили художественные произведения, теоретико-критические статьи и монографии, воспоминания В.Г. Шершеневича и его современников.
Цель исследования — деконструировать поэтическую личность В.Г. Шершеневича в контексте творчества писателя и его литературного окружения.
Гипотеза диссертации состоит в том, что «ключом» к феномену авторской субъективности В.Г. Шершеневича является архетип трикстера.
Указанная цель предполагает решение следующих задач:
определить специфику архетипа трикстера; установить аналогию между мифологическим персонажем и способом выражения авторской субъективности;
реконструировать модель авторской личности, то есть «принципа» организации художественного высказывания, а также поведения писателя;
проследить динамику отношения поэта к «чужому слову»;
выявить и проанализировать литературные связи текстов исследуемого автора; «вписать» обнаруженные закономерности в предлагаемую концепцию;
представить типологию интертекстуального дискурса В.Г. Шершеневича в соответствии с эволюцией творческого метода писателя.
Теоретико-методологической основой исследования стал интертекстуальный подход. Известный филолог И.П. Смирнов, характеризуя современное состояние науки о литературе, констатирует кризис активно развивавшейся в 60-80-е годы теории интертекста [Смирнов, 1999]. Полагаем, это утверждение не безосновательно. Основные положения и методологический аппарат были сформированы в период «интертекстуального бума», во многом спровоцированного открытием работ М.М. Бахтина (на Западе первые
переводы появились в конце шестидесятых годов [Хиршкоп, 2002, с.94]). Современные исследования Е.А. Козицкой, Н.А. Фатеевой, по сути, выполняют систематизирующую и уточняющую функцию, не привнося кардинально новых решений. Тем самым, нам остается зафиксировать основные этапы становления интертекстуальной теории и тот методологический инструментарий, которым мы будем пользоваться.
Общеизвестными эмпирическими источниками теории интертекста являются роман Ф.М. Достоевского, поэзия и проза художников Серебряного века, полифонический роман Д. Джойса, М. Пруста, Ф. Кафки.
Расширительное понимание интертекстуальности позволяет проследить научный генезис теории, начиная с диалогов Платона и далее через Монтеня, вплоть до М. Риффатерра, Ж. Деррида и X. Блума [Шаадат, с.339]. Ближайшими источниками интертекстуальной теории принято считать концепцию пародии Ю.Н. Тынянова, открытие анаграммы Ф. де Соссюром, учение М.М. Бахтина о диалоге, структурно-семиотический подход тартусско-московской школы, идеи «контекста» и «подтекста» К.Ф. Тарановского и его учеников, структуралистские и постструктуралистские изыскания Ю. Кри-стевой и Р. Барта.
Длительное время межтекстовые совпадения и соответствия рассматривались в свете теории влияния. Ученые говорили о заимствованиях, подражании, образных и сюжетно-тематических перекличках, намеках, полемической интерпретации мотива и т.д. О цитировании шла речь, например, при описании «ученического» периода писателя. Термины «цитата», «реминисценция», «аллюзия» употреблялись как маркеры художественных связей (см., напр.: [Бушмин, Эйхенбаум]). Достаточным было указать на присутствие межтекстовой связи, не на ее вид. Зачастую подобные изыскания, ввиду неопределенности понятия «влияние», приобретали обвинительный характер, что, в частности, отразили мнения критиков о В. Шершеневиче, рассмотренные нами в параграфе 1.1.
Цитирование привлекло пристальное внимание исследователей тартус-ско-московской школы и школы К.Ф. Тарановского примерно в 1960-х годах, когда стала доступна поэзия рубежа XIX-XX веков. Работы З.Г., Р.Д. Тимен-чика, В.Н. Топорова, Т.В. Цивьян, на Западе — К.Ф. Тарановского, О. Ронена и других продемонстрировали, что в творчестве поэтов Серебряного века цитаты не случайны и не вторичны, но, наоборот, играют существенную роль в рождении и понимании смысла произведения.
Едва ли не впервые виды литературных контактов (пародия, цитата-антитеза, пастиш, имитирование оригинального жанра и коллаж) подверглись обсуждению в трудах формалистов и параформалистов [Смирнов, 1995, с. 12]. Особенно важными для теоретиков интертекстуальности стали статьи Ю.Н. Тынянова о Гейне и Тютчеве, пародии и литературной эволюции, заметка о Мандельштаме в статье «Промежуток». К указанным работам восходят некоторые базовые установки интертекстуального подхода. Во-первых, постулат об обязательном семантическом сдвиге, сопровождающем межтекстовый контакт. В пародии (двуплановый текст, существующий благодаря тексту-предшественнику, традиции [Тынянов, с.273]), происходит смысловая трансформация «планов», что обусловлено конкурирующим характером взаимодействия писателей-соперников. Благодаря этому семантическому сдвигу происходит обновление поэтической системы.
Во-вторых, теория интертекста является одновременно и теорией эволюции искусства [Ямпольский, с.419]. Продолжая тыняновскую идею «борьбы и смены» [Тынянов, с. 260] литературных поколений, исследователь М. Ямпольский предлагает интертекстуальную модель художественной эволюции, представляющую собой цепочку многократного цитирования-вытеснения источника, где каждая «последующая цитата может служить маскировке предыдущей, сокрытию тех путей, которыми шло движение смыслов» [Ямпольский, с. 133]. Притом вытеснение источников происходит не только внутри отдельного текста, но и в рамках целого вида или жанра искусства, «в рамках архитекста» [Ямпольский, с. 145], а «фигуры вытеснения»
превращаются в «фигуры нового языка» [Ямпольский, с. 133]. Положение о «борьбе и смене» художников признается отнюдь не всеми исследователями, поскольку имеется более многогранный взгляд на характер отношений между писателями, начало которому положил М.М. Бахтин: «Узкое понимание диалогизма как спора, полемики, пародии. Это внешне наиболее очевидные, но грубые формы диалогизма. Доверие к чужому слову, благоговейное приятие (авторитетное слово), ученичество, поиски и вынуждение глубинного смысла, согласие <.. .>, наслаивания смысла на смысл, голоса на голос, усиление путем слияния (но не отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т. п.» [Бахтин, 1975b, с.300].
В-третьих, Тынянов вводит понятие «конструктивной функции» каждого элемента текста, предполагающее две оси его (элемента) соотнесенности. На парадигматической оси элемент сопоставляется с подобными элементами других, в том числе внелитературных, систем и рядов (автофункция). На синтагматической - с другими элементами своей системы (синфунк-ция) [Тынянов, с.272]. Данные идеи в дальнейшем обусловили изучение взаимоотношений неоднородных текстов (кино-литература, кино-живопись и пр.) [Ямпольский, с.ЗЗ]; предварили идею «памяти» элемента/языка о предыдущих использованиях («эхо интертекстуальности» [Эко, с. 14]).
Следующим важным источником теории интертекста является мета-лигвистика М.М. Бахтина. В отличие от формалистов текст рассматривается не просто как статическая структура, но включается в динамичную коммуникативную систему, в «литературное поле» (термин М.Я. Полякова). Текст — «не вещь» [Бахтин, 1975b, с.285], а потому предполагает субъект-субъектные, диалогические отношения. Разрабатывая унаследованное от М.М. Бахтина представление о двунаправленности коммуникативного акта, равноценности адресанта и получателя, представители тартусско-московской школы позднее заменили традиционный для науки термин «заимствование»
(предполагающий субъект-объектные, зависимые отношения авторов) термином «литературные связи» [Зинченко и др., с.82].
М.М. Бахтин приравнивает текст к слову, языку. По-сути, текст — «ничей», ибо слово «межиндивидуально» [Бахтин, 1975b, с.ЗОО], «вне автора» [Бахтин, 1975b, с.301]. Смысл не наличествует, но рождается «на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [Бахтин, 1975b, с.285], двух текстов: готового и реагирующего, автора и читателя. Едва ли не впервые читатель был признан полноправным со-участником смыслопорождения. Впоследствии у постструктуралистов читатель стал и единственным участником, поскольку, по известному высказыванию Р. Барта, автор «умер».
Помимо горизонтального диалога «автор-читатель», каждый из субъектов включается в вертикальный диалог как с предшествующей, так и современной ему литературой (шире - всей цивилизацией). Вследствие этого текст существует в бесконечном и незавершимом «большом времени», являя собой отклик на предыдущие высказывания и призыв к духовно-индивидуальному творческому отклику на него [Бахтин, 1975а, с.112].
Бахтинская концепция слова получила дальнейшее развитие в работах Ю. Кристевой. По мысли исследовательницы, слово есть не «устойчивый смысл», но «место пересечения текстовых плоскостей» по горизонтальной оси диалога (субъект - получатель) и вертикальной оси амбивалентности (текст - контекст) [Кристева, с.428-429]; текст - не собрание «точечных» цитат, но место пересечения цитации. Представление об объемном текстовом пространстве, организованном по вертикали и горизонтали как «бесконечное множество сцеплений и комбинаций элементов» [Кристева, с.432], восходит к открытому Ф. де Соссюром принципу анаграммы. Исследуя древнейшие индоевропейские тексты, швейцарский ученый обнаружил, что они строятся по принципу анаграммы. То есть в каждом стихе содержится звуковой комплекс, повторяющий табуированное, требующее разгадки, ключевое слово [Соссюр, с.637]. Соссюр не опубликовал материалы об анаграмме, поскольку не мог решить вопрос о сознательности и неслучайности открытого метода.
Аналогичные сомнения, только применительно к использованию скрытых цитат, стали предметом обсуждения в теории межтекстовых отношений. В основу новой, постструктуралистской теории текста Ю. Кристева положила принцип параграммы — неполного воссоздания ключевого слова в фонемном составе других слов текста [Баевский, с.58].
В философии, теории и практике постмодернизма для обозначения такого понимания текста - многомерной децентрированной сети, обладающей бесконечной множественностью смыслов, рождающихся в результате полилога цитации - закрепился термин «интертекстуальность», введенный в 1967 году Ю. Кристевой [Ильин, с. 100].
В работах французских постструктуралистов произошла радикализация идей М.М. Бахтина. Артикулированная ученым идентичность субъекта и текста: «Это встреча двух текстов <...> следовательно, встреча двух субъектов, двух авторов» [Бахтин, 1975b, с.285], - в интерпретации Ю. Кристевой сначала стала подменой субъекта текстом: «Пишущий и читающий - это одно и то же лицо. <...> он сам есть не что иное как текст, который, сам себя переписывая, себя же и перечитывает» [Кристева, с.451], а затем и разрушением: «Поскольку параграмма есть не что иное, как разрушение чужого письма, письмо как таковое становится актом разрушения и саморазрушения» [Кристева, с.502].
Тем самым, ведущая роль автора в порождении смысла была устранена. Автор подменился скриптором, пере-писывателем. Смыслопорождающая функция переадресовалась языку, слову, помнящему о прежних контекстах. Результатом стала «смерть» индивидуального текста, «смерть автора» [Барт, с.391], а в пределе и «смерть» читателя, «неизбежно цитатное» сознание которого также неопределенно и размыто [Ильин, с. 102].
Расширение границ текста до бесконечности привело к законным возражениям: «...если какое-нибудь слово значит решительно все, то по сути оно не означает ничего» [Хализев, 1999b, с.413]. Поэтому многие современные российские и зарубежные литературоведы, во-первых, сужают понятие ин-
тертекстуальности до его первоначального значения - взаимодействия текстов, «своего» и «чужого» слова [Арнольд, 1999, с.351], а для обозначения аморфной сети свободных, произвольных ассоциаций используют термин гипертекст [Энциклопедия Кругосвет]. Во-вторых, предпочитают иные термины, например, «цитация», «сцепленные» тексты [Минц, 1999, с.558]), «текст в тексте» [Лотман, 2000b), «подтексты» [Ронен, 2002].
Анализируя различные концепции интертекстуальности, И.П. Смирнов верно подметил их достоинства и недостатки. Стоит согласиться с предлагаемым ученым определением интертекстуальности: «это слагаемое широкого родового понятия, так сказать, интер<...>альности, имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью или частично формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литературе» [Смирнов, 1995, с.11]. В этой формулировке фиксируется, с одной стороны, тотальная интертекстуализация, имевшая место в постструктурализме, с другой, обозначается область текстового взаимодействия в узком значении термина. Здесь уместно заметить, что наше представление о сути интертекстуального метода, его принципах и приемах в значительной степени сформировано под влиянием работ И.П. Смирнова.
Непосредственными методологическими источниками интертекстуального подхода (метода, анализа, направления, стратегии) являются: исто-рико-типологический и историко-функциональный методы, литературная герменевтика.
Историко-типологический метод использовали представители сравнительно-исторической школы. На этом основании ряд исследователей отказывает интертекстуальному подходу в автономности, рассматривая его как разновидность сравнительного литературоведения («интертекстуальная компаративистика» [Зинченко и др., с.91]). Однако, если для пользователей сравнительно-исторического метода доказательство литературного контакта является самоцелью, то интертекстуальный подход требует не столько ответа
на вопрос где, когда, что заимствуется, сколько зачем. Разнится точка зрения исследователя: «Изучая влияния, мы изучаем процесс создания литературного произведения, изучая интертекстуальность, мы рассматриваем следы этих влияний» [Арнольд, 1992, с.54]. Иначе говоря, в первом случае внимание сконцентрировано на авторе и генезисе произведения, во втором - на читателе и рецепции.
Такая расстановка акцентов обнаруживает связь интертекстуального подхода с историко-функциональным методом, которому наследует «рецептивная эстетика». Изменение читательского восприятия художественного произведения под интертекстуальным углом зрения становится историей реактивируемого автором-читателем текста, где каждое последующее обращение к первоисточнику не свободно от смыслов, привнесенных претекстами-посредниками (так называемая «ретроспективная» интертекстуальность).
Сравнение как общенаучная методологическая установка кладется в основу литературной герменевтики, приобретающей на сегодняшний день статус отдельной литературоведческой дисциплины [Зинченко и др., с. 146]. Интертекстуальный подход избирательно решает основную задачу герменевтики — устранение непонимания. В центре внимания межтекстового анализа стоит цитата, текстовая «аномалия», создающая «очаг непонимания» (Л. Жени, М. Риффатерр). Сравним с определением, предлагаемым М. Ямполь-ским: «цитата - это фрагмент текста, нарушающий линеарное развитие последнего и получающий мотивировку, интегрирующую его в текст, вне данного текста» [Ямпольский, с.61]. Алгоритм действий комментатора литературных контактов аналогичен движению по «герменевтическому кругу»: 1) выдвижение гипотезы (предчувствие, интуитивное предпонимание смысла текста как целого) 2) интерпретация, исходя из этого целого, смысла отдельных фрагментов 3) корректировка целостного смысла после анализа отдельных фрагментов текста и т.д. [Шлейермахер].
Подытоживая методологическую преемственность интертекстуальности, М. Риффатерр предлагает считать ее «промежуточной трансдисциплиной», склонной «к трансвестизму, поскольку она постоянно заимствует свои
приемы то у психоанализа, то у политической философии, то у экономики и т.п.» [Шаадат, с.340]. Закономерность подобной эклектичности находит Е. Горный, рассматривая «интертекстуализм» наравне с «имманентизмом» и «семиогонизмом» как семиотические подходы к тексту. Под семиотикой понимается подход к любой вещи как к тексту, знаковому, языковому феномену, подлежащему объяснению. Расширительное понимание текста естественным образом приводит семиотику (и интертекстуализм) к заимствованию методов и приемов различных дисциплин [Горный]. Не случайно на сегодняшний день в «чистом» виде интертекстуальный подход практически не существует. Современным литературоведением оказываются востребованы комплексные и междисциплинарные научные подходы («аналитический» [Руднев, с. 14], «просвещенный эклектизм» [Жолковский, 1994, с.9]).
Предмет и цели нашего исследования обязывают к выходу за границы интертекстуального подхода в его исконном, постструктуралистском варианте. Для основателей теории интертекста, как известно, проблемы авторской субъективности не существовало: «рождение читателя» оплачивалось «смертью Автора» [Барт, с.391]. Впрочем, как показало дальнейшее изучение литературы постмодернизма, реплику Р. Барта не следует понимать как устранение творящего субъекта. Произошло изменение стратегии самовыражения: игровое растворение в цитатном мире [Липовецкий, с. 12]. Связующим центром фрагментированного, разрозненного, гетерогенного повествования становится ироничная «авторская маска». Ее проявления идентичны роли «трикстера», высмеивающего стереотипы, подрывающего веру в рациональность бытия [Ильин, с.7]. Иначе обстоит дело с писателями ранних, предваряющих постмодернизм, эпох, когда интертекстуальность была чертой мировосприятия художника, а не данностью реальности, одним из, а не единственным приемом творчества. Жизненный текст автора несомненно проецируется на литературный текст (и наоборот). Анализ критико-литературоведческих мифов о реальном (эксплицитном, эмпирическом) авторе предполагает обращение к приемам биографического метода (изучение
критических, мемуарных источников, освещающих литературно-бытовое поведение и окружение поэта). Реконструкция мифо-психологического архетипа, определяющего авторскую субъективность В. Шершеневича, основывается на фундаментальных утверждениях психологических и мифологических подходов: 1) психологической школы (произведение есть ключ к особенностям художественного мышления писателя); 2) психоаналитического метода (свободные ассоциации открывают доступ к индивидуальному бессознательному, иррациональной интертекстуальности в нашем случае); 3) аналитической психологии (в глубине художественного произведения лежит архетипи-ческая форма); 4) архетипической критики (совокупность творений автора дает индивидуальную «картину психики», идентичную архетипической модели литературы в целом). Таким образом, мы используем интертекстуальный подход в комбинации с другими методами и способами описания.
Кризисное состояние теории интертекста, отмеченное И.П. Смирновым, отразилось и на состоянии интертекстуального метода. Недостатки последнего усматривают, во-первых, в его канонизации и абсолютизации, превратившей всю литературу XX века в поле бесконечного комментария [Воробьева]. Выход из данного тупика открывается в ограничении.сферы использования метода, в сужении понимания термина. Возврат к представлению о тексте как автономной самоценности, однако, затрудняется тем, что интертекстуальный анализ затрагивает не только сферу .меж-текстовых отношений, но и внутри-текстовых (ср. «контекст» и «подтекст» К.Ф. Таранов-ского, О. Ронена, «интра-» и «интертекстуальность» И.П. Смирнова, «мотив-ный анализ» Б.М. Гаспарова).
Во-вторых, кризис интертекстуальной стратегии вызван отсутствием четких критериев верификации, что провоцирует исследовательский произвол при указании подтекстов [Эдельштейн]. Собственно, проблема адекватности сопоставления не стояла перед основателями теории интертекста: «интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение, всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о
филиации произведений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат — из цитат без кавычек» [Барт, с.418]. Постструктуралисты постулировали смыслопорождающую функцию тек-ста=языка и читателя, авторские интенции не учитывались. Конфликт, по-видимому, вызван двуединой, идеально-материальной, сущностью традиции, получившей отражение в разграничении постструктуралистами «текста» и «произведения». Текст (=интертекст) «существует только в дискурсе», «уклончив», символичен, «работает в сфере означающего», ему присуща неустранимая «множественность смысла», «в нем нет записи об Отцовстве», он — продукт игры, удовольствия, «деятельного сотрудничества» читателя. Произведение — «вещественный фрагмент», «замкнуто, сводится к определенному означаемому», вписано в историю, обусловлено, имеет автора, является продуктом потребления [Барт, с.415-417]. Идеальная традиция проникает в произведение независимо от воли автора и сродни «коллективному бессознательному». Наличие объективированной традиции позволяет говорить о круге предшественников, об авторском замысле и требовать доказательств генетической общности текстовых совпадений.
Способы верификации сознательности литературного контакта интертекстуальный анализ частично заимствует у компаративистики:
Воссоздание контекста рецепции (личные контакты писателей, круг чтения, знание иностранного языка, переводы и пр.).
Поиск прямых подтверждений знакомства с влияющим текстом (воспоминания, корреспонденция и пр.) и проверка их достоверности.
Поиск текстуальных совпадений и различий [Зинченко и др., с.85-88].
Интертекстуальный подход выработал собственные критерии опознания и доказательства литературного контакта. Сравнительно простым случаем является использование писателем маркеров: графических (кавычки, курсив), лексических (посвящения, эпиграфы, указания на чью тему произведение, имена собственные), метрико-строфических («память метра» [Гаспа-ров, 1974]), композиционных (зачины, концовки), риторических («текст в
тексте» [Лотман, 2000b]). Наибольшую сложность в опознании претекста, естественно, вызывает скрытая интертекстуальность. Ямпольский выдвигает термин «ложное цитирование», обозначающий такие случаи, когда текстовая аномалия не может быть разрешена через эксплицитное соотнесение одного текста с другим [Ямпольский, с.93], и, следовательно, сигнализирует о наличии скрываемой истинной цитаты [Ямпольский, с. 102]. Предположительно, степень выраженности и опознаваемости цитаты обратно пропорциональна ее значимости для текста-последователя. Тем важней обращение к косвенно выявляемому претексту. Сигналы скрытой интертекстуальности реализуются как гипокогерентность (неопределенность, недостаточность информации, невыводимость смысла текста из него самого, требующая обращения к претексту), гиперкогерентность (тавтологический, тематически необоснованный повтор внутри текста лексических или лексико-грамматических единиц; указания на повторяющиеся действия или состояния; двойничество любого рода), совмещение гипо- и гиперкогерентности (звуковые повторы - анаграммы) [Смирнов, 1995, с.68-70].
Несомненным доказательством факта обращения писателя к определенному тексту выступает «повтор прекращенного повтора» [Смирнов, 1995, с. 17]. Впервые мысль о связи «контекста» (мотивация элементов текста другими текстами того же корпуса) и «подтекста» (мотивация чужими текстами) высказал американский филолог К.Ф. Тарановский [Тарановский, с.31]. В работах его ученика О. Ронена положение о подтексте как источнике повторяемого элемента контекста подверглось уточнению и конкретизации. Развивая эту идею, И.П. Смирнов вывел следующую формулу: «интрятекстуаль-ность» (внутренний параллелизм, повторяемые мотивы) всегда есть показатель шшертекстуальности [Смирнов, 1995, с.96].
Принцип рекуррентности, повтора является фундаментальным стержнем различных моделей интертекстуальности. Модель М. Риффатерра (см. рис. на с. 18), созданная на основании переработанного семиотического треугольника Г. Фреге, иллюстрирует «принцип третьего текста», согласно ко-
торому функционирование интертекстуальности обусловлено наличием между текстом и интертекстом посредника (интерпретанты). Отсутствием прямой связи автоматически снимается вопрос о «заимствованиях» и «влияниях». Интерпретанта способствует скрещению и взаимной трансформации смыслов взаимодействующих между собой текстов [Ямпольский, с.82-83].
Т — текст
Т' - интертекст
И - интерпретанта,
или третий текст
К данной модели восходит постулат о том, что каждый текст полигенетичен, опирается более чем на один претекст [Минц, 1973, с.402; Смирнов, 1995, с. 19]).
И.П. Смирнов конкретизирует отношения, в которые вступают текст и интерпретанта (претексты), объединяясь в интертексте (посттексте). Исследователь выделяет следующие типы интертекстуальности:
реконструктивная (выявленный параллелизм выражения и содержания цепочки претекстов): ((рге-Т1 —> рге-Т2) —> post-Tl)) -» post-T2);
конструктивная (установление смысловой связности независимых в формальном плане претекстов): ((рге-Т1 & рге-Т2) —> post-Tl)) -» post-T2);
реконструктивно-конструктивная (объединение в посттексте независимых, но восходящих к одному пра-источнику смыслов и форм претекстов): (((рге-ТО -> ((рге-Т1 & pre-T2)) -> post-Tl))) -> post-T2). Представление о тексте-диаде сменяется концепцией четырех-(пяти)-составного текста [Смирнов, 1995, с.20-21], где предельным истоком произведения является архетип, некая смысловая универсалия. Интертекстуальный анализ, однако, не сливается с изучением архетипов, поскольку присущая множеству текстов глубинная семантическая схема выражается различными средствами и развивается по независимым преемственным линиям [Смирнов, 1995, с.45].
Согласно концепции Н.А. Фатеевой, межтекстовое взаимодействие осуществляется не столько на уровне отдельных языковых единиц, сколько на уровне текстов, миров, системы в целом (ср. с положением М. Риффатерра о структурной изоморфности текста и его интертекста [Ямпольский, с.70]). В основе интертекстуализации лежит «не тропное, а метатропное отношение» [Фатеева, с.53]. Под метатропами (метатекстовыми тропами) понимаются «стоящие за конкретными языковыми образованиями (на всех уровнях текста) глубинные функциональные зависимости, структурирующие модель мира определенного автора» [Фатеева, с.54]. На содержательном уровне выделяются ситуативные, концептуальные и композиционные метатропы. На формальном — операциональные [Фатеева, с.58] (ср. с классификацией терминального и реляционного типов интертекстуальных изменений И.П Смирнова [Смирнов, 1995, с.55-56]). Ситуативные метатропы - это реально бывшие или воображаемые претекстовые ситуации. Концептуальные — устойчивые мыслительно-функциональные зависимости. Композиционные — зависимости между частями текста, организующие ритм текста как целого. Операциональные метатропы реализуют смысловые метатропы в языке'при помощи референциальной, комбинаторной, звуковой и ритмико-синтаксической (включая рифму) памяти слова. Тем самым межтекстовые отношения строятся не как единичное заимствование, а как усвоение «пучка» метатропов, системы инвариантов, картины мира предшественника [Фатеева, с.58-90].
Обозначив основные методологические установки, обратимся к терминологическому аппарату диссертации.
Понимая интертекстуальность в узком значении (см. определение И.П. Смирнова на с. 12), ограничимся безусловно доказуемыми ее проявлениями в произведениях В. Шершеневича. Конкретизировать обнаруженные литературные переклички позволит обращение к типологии межтекстовых связей Ж. Женнетта. Учитывая характер цитаты, французский ученый предлагает следующую классификацию:
WHwe/тгекстуальность - «соприсутствие» в одном тексте двух и более текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т.д.);
иоратекстуальность - отношение текста к своему заглавию, предисловию, послесловию, эпиграфу, маргиналиям, иллюстрациям и т.д.;
лгетиятекстуальность - комментирующая и часто критическая ссылка на свой предтекст;
гшертекстуальность - осмеяние, пародирование, травестирование и т.п. одним текстом другого;
5) а/ш/текстуальность - жанровая связь текстов [Ильин, с. 104; Смирнов,
1995, с.131; Фатеева, с.121].
Под цитатой понимается любой элемент текста, выступающий в цитатной функции. Эта функция заключается в референциальности («отсылка к иному, не-авторскому тексту, несущая художественную информацию») и смыслообразовании. Ряд иных попыток дефиниции цитаты обнаруживает свою несостоятельность ввиду необязательности критериев, положенных в основание определения (узнаваемость / неузнаваемость; эксплицированность / имплицированность в тексте; точность / неточность; сознательность (интен-циональность) / бессознательность) [Козицкая].
Термины «цитата» и «чужое» слово в нашей работе зачастую выступают как синонимы. Отличие состоит в том, что «чужая речь» отсылает к стилистическому контексту и потому представлена, как правило, «кусками» определенного типа речи, идеостиля (то есть во многом совпадет с лексической цитатой). Цитата же как любой знак-заместитель текста-предшественника отсылает к различным уровням культурного контекста [Минц, 1973, с.394].
Отсюда следует, что цитирование возможно на всех уровнях произведения: лексическом, метрическом, строфическом, фонетическом, синтаксическом, сюжетно-образном, субъектном, на уровне орфографии и пунктуации.
Терминологический аппарат дополняется и уточняется в диссертации по мере необходимости.
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые предпринята попытка концептуализировать интертекстуальную доминанту творчества В.Г. Шершеневича как проявление его художнической субъективности. Декодирование поэтической фигуры исследуемого автора происходит при помощи психо-мифологического образа Тени, негативного двойника культурного героя. На значительном текстовом материале прослежена специфика и динамика интертекстуального дискурса В.Г. Шершеневича. Предлагается использовать термин «трикстер», заимствованный из сферы мифологии и переосмысленный нами применительно к категории авторства в свете интертекстуального подхода.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изучение творчества и авторской субъективности В.Г. Шершеневича в интертекстуальном аспекте позволяет найти объяснение феномену авторской субъективности поэта, представить по возможности объективный взгляд на межтекстовые связи поэтов начала XX века, обосновать термин, концептуализирующий фигуру «неуспешного» автора, обозначить теоретическую основу будущих исследований как творчества В.Г. Шершеневича, так и проблемы автора.
Практическая ценность диссертации определяется возможностью использования ее результатов в дальнейшей работе по изучению истории литературы рубежа XIX-XX веков, творчества В.Г. Шершеневича. Фактические текстуальные наблюдения, а также концептуальные положения, выдвинутые в диссертации, могут найти применение в сфере историко-литературного комментирования, в практике анализа текстов В.Г. Шершеневича, поэтов его круга, в вузовском преподавании общих и специальных курсов по истории русской литературы начала XX века, по интертекстуальности.
Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации и результаты исследования были представлены на Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Но-
восибирск, апрель 2001 г.); Всероссийской конференции «Филология XXI век» (Барнаул, 2003 г.); Всероссийской междисциплинарной школе молодых ученых «Картина мира: язык, философия, наука» (Томск, ноябрь 2001 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Естественная письменная русская речь: исследовательский и образовательный аспекты» (Барнаул, январь 2003 г.); Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения и журналистики» (Томск, апрель 2003 г.); Региональной научно-практической конференции аспирантов, студентов и учащихся «Наука и образование: Проблемы и перспективы» (Бийск, апрель 2001 г.); Межвузовской научно-практической конференции «Молодежь - Барнаулу» (Барнаул, октябрь 2001 г.); Межвузовской конференции молодых ученых «Диалог культур» (Барнаул, май 2002 г.). Материалы диссертации докладывались и обсуждались на методологических семинарах и заседаниях кафедры теории и русской литературы XX века БГПУ. Отдельные положения исследования вошли в лекционный материал спецкурса «Интертекст: теория и практика» для студентов-филологов БГПУ. По теме диссертации имеется 8 публикаций.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы, списка источников, приложений и указателя произведений В.Г. Шершеневи-ча. В первой главе рассматриваются мнения критиков и литературоведов о «подражательности» биографического, «первичного» автора - В.Г. Шерше-невича, анализируются взгляды писателя на проблему «своего» и «чужого», предлагается и обосновывается исследовательская концепция поэта-трикстера. Во второй главе в центре внимания «внутритекстовый» автор, интерпретируется совокупность мотивов, создающих его образ-модель в художественных произведениях. В третьей главе представлена типология интер-тертекстуального дискурса, учитывающая периоды становления авторской индивидуальности, дается интерпретация выявленной эволюции в свете биографического мифа трикстера. Список литературы включает 260 наименова-
ний, в том числе 86 наименований источников. Приложения включают иллюстративный материал и историко-литературный комментарий. На защиту выносятся следующие положения:
Феномен авторской субъективности В.Г. Шершеневича проявляется в реализации психо-мифологического архетипа трикстера.
Комплекс свойств мифологического плута аналогичен «образу автора», созданному поэтом и его литературным окружением.
Техника работы писателя с цитатным словом выявляет «скрытую» авторскую субъективность.
Типология интертекстуального дискурса соответствует динамике отношения поэта к «чужому слову», а также становлению творческого метода писателя.
Творческая эволюция автора реализует биографический миф трикстера (от подражателя к культурному герою).
«Чужое слово» в творчестве писателя. Обзор критических и авторских рефлексий
Китайского языка поэт не знал, но, имея филологическое образование и владея несколькими европейскими языками, видимо, почерпнул приведенную выше цитату не из оригинала. Об этом, по наблюдению А.К. Жолковского, свидетельствуют странности, выявляемые в транскрипции. Исправленный русский вариант выглядел бы примерно так: «жу цзинь це на фу му (эквивалент слова "больной" у Шершеневича отсутствует) тун ай ни-мэнь дэ синь чжун ("сказать" тоже отсутствует) се и се» [Жолковский, 2003]. Как видим, обращение к экзотическим источникам опосредовано культурным, вполне классическим, багажом поэта. В целом, несмотря на новаторские интенции, творчество Шершеневича отличает ориентация на устоявшуюся традицию.
Декларативное отрицание наследия прошлого авангардистами, согласно исследованиям М. Ямпольского, на самом деле оборачивается-созданием новой традиции: «Борьба с культурой выливается в усиленное «выращивание» новой культуры, лишь маскирующейся под антикультуру, под чистую игру внешних форм» [Ямпольский, с.ЗОЗ], «попытка разрушить классический интертекст» производится «через лихорадочное построение конкурирующей интертекстуальности» [Ямпольский, с.323]. Собственно, речь идет о межтекстовом взаимодействии в контексте определенного течения или школы. Такого рода стилистические соответствия, изоморфные литературные признаки, общность приемов уместнее называть интратекстуальностью [Смирнов, 1995, с.96]) или гштекстуальностью [Ханзен-Леве, 1999, с. 17]). Функция подобных, иногда дословных, как в раннем символизме, перекличек заключается не столько в «семантических сдвигах», сколько в формировании, самоканонизации и самоутверждении литературной группы [Ханзен-Леве, 1999, с.60]. Так, текстуальная общность поэм и стихотворений В. Маяковского и В. Шершеневича (особенно в 1913-1915 гг.), неоднократно ставившаяся в вину последнему, объясняется желанием указанных поэтов и К. Большакова создать в русском футуризме урбанистическое крыло [Марков, 1994, с.49]. Мотивы творчества Вадима Шершеневича, реализующие типичную мотиви-ку исторического авангарда (мир-ткань, творчество как растрата богатств, раздробление «Я» и др.) рассмотрены в диссертации избирательно. Критерием отбора стало наличие литературно-критической полемики относительно авторства того или иного повторяемого элемента. Подробно проблематикой интрасистемных мотивов исторического авангарда занимался И.П. Смирнов [Смирнов, 2000].
Наконец, футуристы интенсивно включают в свой арсенал «канонизированные» тексты (см., напр., исследования М. Вайскопфа, Л.Ф. Кациса, К.Ф. Тарановского и других об интертекстуальном пласте в творчестве В. Маяковского), но авангардистская техника обращения с «чужим» материалом принципиально отличается от соответствующей манеры представителей предыдущей художественной системы - символизма. Различия обусловлены принадлежностью символизма и постсимволизма (термин И.П. Смирнова) к «вторичным» и «первичным стилям» (термины Д.С. Лихачева). Вторичные стили рассматривают мир как текст, имеющий создателя, Другого. Тем самым любой объект (художественного) мира позволительно расценивать в качестве чужого знака. Свое творчество в данном ракурсе становится стилизацией, имитацией чужого текста, обнаружение которого позволяет декодировать замысел автора. «Интерпретирующие цитаты», как правило, имплицитны, выступают в форме аллюзий, требуют активного сотворчества читателя.
Первичные художественные системы, наоборот, понимают текст как продолжение мира, в связи с чем созидающей функцией наделяется сам автор. Любой чужой знак становится референтом, теряет исконный смысл и подлежит реинтерпретации (подвергается «остранению»). «Интерпретируемые цитаты» представлены эксплицитно, поскольку искомым оказывается не текст-источник, а новый смысл. Отрицание чужой семантики, попытки аннулировать традицию зачастую приобретают пародийный характер. Ведущим способом обращения с «чужим словом» в футуризме и наследующем его имажинизме является деавтоматизация, комически-обнажающая деформация канонизированного претекста, что достигается посредством монтажа цитат, помещения цитаты в чуждый ей контекст и т.п. Склонность постсимволистских авторов (пародийно) выдавать «чужое» за «свое» оборачивается ростом в культурной среде опасений плагиата, покушения на чужую собственность [Смирнов, 2000, с.21-49]. Эта особенность литературно-исторического момента позволяет нам говорить об исторической обусловленности обвинений Вадима Шершеневича современниками в несамостоятельности, вторичности, чужесловии. На самом деле его творчество как представителя первичной художественной системы (акмеизм, футуризм, имажинизм) весьма показательно в свете проблемы «чужого» слова. По сути, перед нами случай зарождения теории интертекста в художественной, научной, критической практике и литературной жизни писателя, в критическом освещении его поэтической личности. Вполне оправданы сомнения в истинности высказываний критиков и литературоведов о поэте В. Шершеневиче - плагиаторе и подражателе, тогда как пристальное изучение его стихотворений позволяет говорить, во-первых, об интекстуальных, школообразующих перекличках, во-вторых, о преднамеренном обращении к текстам предшественников и современников, о семантических трансформациях, происходящих в результате «диалога» текстов.
Автор-трикстер (исследовательско-литературоведческая концепция)
Обзор критико-литературных мнений о «подражательности» творческой манеры В.Г. Шершеневича, представленный в предыдущем параграфе, позволил восстановить мифологизированный образ поэта, созданный его литературным окружением (см. с.36). Демифологизация, производимая нами, во-первых, нейтрализует негативные оценки современниками «переимчивости» автора. Следующим шагом является определение места писателя в современном ему литературном процессе. Повторная, литературоведческая, мифологизация фигуры Шершеневича предполагает нахождение внесистемному субъекту положения в системе. Подобная операция становится возможной благодаря интертекстуальной методологии.
Предлагаемая попытка декодировать творческую индивидуальность поэта опирается, во-первых, на характер критических отзывов о его творчестве (эпигон, ассимилятор, подражатель, компилятор, имитатор, вор, обезьяна), во-вторых, на мемуарное свидетельство А. Мариенгофа, согласно которому, Шершеневич, читая У. Уитмена, сказал примерно следующее: Что вы там с Сережей (Есениным — Т.Б.) не толкуйте, а талантливо написанное чужое стихотворение вдохновляет куда больше, чем полнолуние, чем пахучие цветочки на липах или нежная страсть [Мариенгоф, 1998, с.245-246]. Как видим, поэт признает приоритет, едва ли не обязательность, «чужого» высказывания для возбуждения процесса стихопорождения-импровизации на заданную тему. Выбор в качестве ориентира творчества У. Уитмена, вероятно, не случаен в свете аналогичных литературных пристрастий В. Маяковского, полемически заостренных С. Есениным: «Рожа краской питана, Обокрал Уитмена!» [Есенин, т.4, с.578]. Глава имажинизма, если довести эту частушку до логического завершения, становится «вором» в квадрате. Напомним, что к сходному выводу мы пришли относительно литературной связи Шершеневич-Северянин. (см. с.ЗЗ) Помимо прочего, высказывание Шершеневича перекликается с программным рассуждением Н. Гумилева о «вынашивании» стихотворения:
Все действует на ход ее (новой жизни. - Т.Б.) развития - и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка («Жизнь стиха») [Гумилев, 1990, с.47]. Конечно, интертекстуальная связь Гумилев-Шершеневич опосредована Мариенгофом. Вполне допустимо, что проекция реплики имажиниста на модель мэтра акмеизма осуществлена мемуаристом. Но и при таком раскладе немаловажен сам факт приписывания авторства реминисцентного текста «цитатному» поэту.
Общая тематика процитированных размышлений подкрепляется отбором практически тождественных феноменов, вступающих в «парные» отношения: луч луны - полнолуние, прочитанная книга — чужое стихотворение, запах цветка — пахучие цветочки. Отмеченную логику несколько нарушает пара мелодия — нелепая страсть, между членами которой, тем не менее, можно установить необходимые соответствия (чувственная, эмоциональная сфера). В то же время произведенная подмена создает оппозицию «культурное-природное» с типичным для исторического авангарда утверждением релевантности созданного человеком артефакта. Кватернарное (четырехчастное) построение фразы Гумилева, где каждый элемент находится с другим в отношениях дополнительности и равноценности (и..., и...), у Шершеневича сменяется бинарной структурой, первый элемент которой положительно отмечен и противопоставлен трем остальным (больше, чем).
Итак, синтаксическая оппозиция пересекается с семантической (культура-природа), внутри которой кроется еще одно противопоставление: «свое-чужое». Лексически представлено только «чужое», тогда как «свое» наличествует имплицитно. Считаем правомерным утверждать, что приведенное ав-тометаописание дает схему интертекстуальной методы поэта, синхронной постсимволизму как первичной художественной системе: эксплицирование цитат, подвергающихся реинтерпретации (см. с.28).
Преобразование кватерна в бинер знаково. Во многих древних культурах число есть фундаментальный принцип мироздания. Число обладает кодовым значением и в сотворении художественного мира. Четырехэлементар-ная структура архетипична для поэтики акмеизма, Н. Гумилева в особенности [Шелковников]. Мышление бинарными оппозициями свойственно человечеству в целом. Тем не менее, намеренный регресс от более высокого числа к меньшему можно истолковать как возврат к начальным, архаичным стадиям сознания. Традиционно двойка, произошедшая в результате распада первоединства, символизирует грех, порчу, отклонение от изначального блага [Энциклопедия символов, с.372]. Осознание дуализма (эха, отражения, тени, близнечества) сущего привносит в мир состояние конфликтности, но и равновесия, стабильности. Мифологической персонификацией идеи двоич-ности, судя по всему, является архетип трикстера.
Обязательная ориентация на текст-образец, косвенно декларируемая писателем и негативно оцениваемая критиками, имеет ряд специфических особенностей, концептуализировать которые, на наш взгляд, позволяет термин «трикстер» (англ. trick - «хитрость, обман; шутка, шалость; глупый поступок; фокус, трюк; умение, сноровка»; trickster - «обманщик; хитрец, ловкач»). Для подтверждения выявленной аналогии приведем характеристику героини-трикстера в рассказе Л. Улицкой: «Просто вся ее маленькая жизнь намеревалась стать цитатой и, блуждая, не находила контекста» [Улицкая, с.117]. Вадиму Шершеневичу удавалось найти «контекст» и неоднократно.
Обозначим основные мотивы, связанные с мифологической фигурой трикстера. Одновременно установим аналогию между архетипом трикстера и способом выражения авторской субъективности Вадима Шершеневича.
Первобытный плут является братом (часто близнецом) или «вторым лицом» так называемого «культурного героя» [Мелетинский, 2001, с.670]. Культурный герой добывает или создает (тогда говорят о «демиурге») предметы культуры3, обучает людей принципам искусства, вводит нормы поведения [Мелетинский, 1990а, с.638]. В наиболее архаичных версиях мифов актуализируется негативный вариант персонажа: культурные элементы приобретаются путем похищения, воровства, обмана [Бокшицкий, 247]. Данные черты коррелируют с созданной критиками репутацией Шершеневича-«вора», подкрепленной жизненным «мифом» о «краже штанов», и идентификацией поэтом себя как «жулика» [ВО, с.633].
Мотивный комплекс автора-трикстера
Мифологизированная литературно-бытовая личность В.Г. Шершеневи-ча, отождествляемая современниками с шутом-плагиатором, а в нашей интерпретации - с трикстером, возникла на пересечении реального автора, ответственного за свое творчество, обладающего определенным комплексом индивидуальных черт, биографией, литературным окружением, и автора идеального, внутритекстового. Субъект словесно-художественной деятельности, имманентный произведению, может вести речь о себе самом, создавать в тексте так называемый образ автора. Преднамеренное моделирование собственной поэтической фигуры, обнажение «принципа, которому нужно следовать» [Бахтин, 1979, с. 179] читателю, исследуются в настоящей главе.
Выдвинутое А.С. Пушкиным требование судить писателя «по законам им самим над собой признанным» [Пушкин, т. 10, с. 121], обязывает нас предварить реконструкцию поэтической ипостаси В.Г. Шершеневича следующим замечанием. Создавая в мемуарах олитературенные и неизбежно субъективные «портреты» современников, Шершеневич писал:...жизнь поэта не может быть оторвана от его творчества (и наоборот) ... я смотрел только своими глазами и не моя вина, что они не всегда видят так, как видят глаза соседа [ВО, с.417] (выделено автором. - Т.Б.). Наша гипотеза поэта-трикстера не противоречит самоидентификации исследуемого автора. Адекватным «психологическим (!) портретом» писатель признавал сделанный Б. Эрдманом графический рисунок [ВО, с.567], помещенный на обложке книги «Лошадь как лошадь» (см. приложение 3). Примечательны интермедиальные связи, устанавливаемые между изображением и лирикой поэта: портрет представляет собой коллаж из цитатных элементов. Среди прочих отметим симптоматичные для архетипа трикстера фигуры двойников, балаганных персонажей (Арлекина, Пьеро).
Воссоздание литературной личности предполагает обращение к наименованиям «я», к связанным с ним группам мотивов, к характерным чертам поэтики. Естественно, термин «трикстер» поэтом не употребляется, однако самономинации генетически и функционально связаны с этим инвариантным мифологическим персонажем. Здесь мы отчасти имеем в виду исследованные М.М. Бахтиным по отношению к роману фигуры плута, шута, дурака. Если в романе данные фигуры могли функционировать как персонажи и как авторская маска [Бахтин, 2000, с.89], то по отношению к лирике XX века, имеющей отчетливую направленность к прозаизации, уместно говорить о схожих векторах. В тех случаях, когда поэт не ограничивается лирическим «я» и прибегает к другим самонаименованиям, лирика приобретает ролевой оттенок.
Прежде, чем перейти к рассмотрению художественных «масок» исследуемого автора, необходимо отметить склонность Шершеневича-критика скрываться за бесчисленными «случайными» псевдонимами, «чтобы не наполнять одной подписью целый журнал» [ВО, с.427] Поведенческую стратегию, реалистически мотивированную поэтом, однако, следует воспринимать в эстетическом ключе. Учтем здесь известную табуированность имени трикстера в мифологиях, что оборачивается его многоименностью. Количество главных псевдонимов писателя свыше восьми. Один из них - «гаер» - употребляется не только в статьях, но и в стихотворениях. Имя автора является тем, что определяет его самотождество и самоосознание как творящего субъекта. Понятие «гаерства» вводит в текст определенный «кривляющийся» речевой стиль, формирует «горизонт ожидания» читателя. Тенденция заменять русское слово «шут» иноязычными аналогами («гаер» (фр.), «клоун» (англ), «комик» (гр.) «фигляр» (польск.)) может быть интерпретирована не только посредством амплуа Шершеневича-переводчика, но и как причастность лирического «я» к потустороннему, за-граничному - антимиру. Псевдоним есть подпись под текстом, не соответствующая действительной фамилии автора [Масанов, с.285], как, впрочем, и реальному количеству пишущих персон. Мистифицирующая функция псевдонима перекликается с природой постмодернистского термина симулякр. Мнимость, которая подменяет реальное знаками реального, выдает отсутствие за присутствие [Ильин, с.257], по сути, определяет бытование мифологического плута, создающего «пустой», анти-продукт. Таковым «нулевым» деянием Шершеневи-ча помимо вместо-именности стало, например, одно трагикомическое событие. Начинающий писатель работал единственным литературным сотрудником «какой-то понедельничной газеты», писал статьи, рецензии, хронику, стихи под разными псевдонимами. Редакция рассчиталась за труд бесплатной ежедневной публикацией в течение полугода списка будущих книг Шерше-невича «длиною в двадцать лет работы» [ВО, с.429-430], которые, насколько нам известно, никогда не были изданы.
Обратимся к авторским самономинациям в художественных произведениях. Образ поэта-трикстера (варианты: шут, гаер, клоун, сумасшедший, нищий, юродивый, самозванец) впервые появляется в стихотворениях Вадима Шершеневича в 1913 году и стабильно присутствует на всем протяжении творчества.
Автоинтертекст и творческая эволюция писателя
В предыдущей главе мы рассмотрели некоторые способы экспликации авторской субъективности (самономинации и самохарактеристики, автоме-таописательные высказывания), что позволило сделать вывод о моделировании в произведениях В.Г. Шершеневича образа поэта-трикстера, наметить динамику отношения писателя к «чужому слову». Формы присутствия автора в произведении далеко не сводятся к рефлективному, преднамеренному воздействию на читателя. Существенная область проявления художнической субъективности либо тщательно замаскирована творцом, и потому воспринимается реципиентом как «непрозрачная», либо вовсе минует авторское сознание. В проекции на интертекстуальную проблематику здесь уместно говорить о неоткомментированной художником цитатности и о бессознательных реминисценциях. Верифицировать состоявшийся литературный контакт при таких условиях помогает обращение к контексту творчества писателя. Контекстуальные повторы и переклички свидетельствуют о наличии подтекста [Тарановский, с.31], иными словами, автоинтертекстуальность есть знак интертекстуальности [Смирнов, 1995, с.21]. Семантические трансформации, происходящие с претекстом, неоднократно актуализируемым автором, могут быть основанием для реконструкции диахронической модели творческой эволюции поэта.
Обратимся в связи с этим к стихотворению «Спокойный» (см. приложение 2). Здесь поэт использует верлибр, опознаваемый современниками как «блоковский» код. Опровергая мнение критиков, Шершеневич писал: «Что такое Блоковские размеры? В этой книге («Круговой чаше». — Т.Б.) я впер-вый (sic!) пробовал свободный стих, но разве на него заявлена привилегия?» [ЗУ, с.71]. Однако указанное стихотворение, действительно, отсылает к известному произведению А. Блока «Когда вы стоите на моем пути...» (1908)
В первой публикации блоковское стихотворение имело заглавие «Письмо» и эпиграф из фетовского «Бала»: «В чужой восторг переселяться / Заране учится душа» [Блок, т.2, с.436]. Таким образом, выстраивается цепочка: «Бал» А. Фета (1853) [Фет, с. 127] — «Письмо» А. Блока (1908) - «Спокойный» В. Шершеневича (1913). Все три стихотворения объединяются едино-начатием «когда» и разрабатывают проблематику «свое-чужое», вынесенную в эпиграф поэтом-символистом.
Лирический герой Фета находится на периферии «бального вихря», общепринятой метафоры жизни. Он неподвижен, покоен, созерцателен («Слагая на коленях руки, / Сажусь в забытый уголок»). В русле романтической традиции герой опознает «свое в чужом»: «бал» пленяет постольку, поскольку соотносится с прошлым («как зари румянец дальний», «дней былых немая речь», «уносит к юности былой»). Наличие собственного жизненного опыта позволяет «в чужой восторг переселяться», и таким образом пусть не физически, но духовно участвовать в жизни. Возможность использования прошлого для полноценной жизни в настоящем служит «уроком» для будущего («переселяться заране учится душа»). Тем самым для лирического субъекта настоящее - перевалочный пункт между прошлым и будущим, он находится на грани бытия и небытия.
Блок подхватывает мысль своего «учителя». Следует отметить, что если у Фета в конце предложения был вопросительный знак, то Блок, цитируя «тему» в эпиграфе, ставит точку. Вопросительный знак имеет оттенок неуравновешенности, сомнения. У Блока сомнения снимаются. Он уже за гранью, на одной стороне. Он — «живой мертвец». В стихотворении разворачивается противопоставление «живое - мертвое». Для лирического героя «мертвое», искусственное естественно: «Ведь я — сочинитель, /Человек ... , / Отнимающий аромат у живого цветка». Героиня, адресат «Письма», казалось бы, обнаруживает сходные качества: «Говорите все о печальном», / Думаете о смерти, / Никого не любите, / И презираете свою красоту». Однако это всего лишь маска, сокрытие «своего» естества («Такая живая, такая красивая») под «чужой», декадентской личиной: «Все же я смею думать, / Что вам только пятнадцать лет». Герой «хотел бы, / Чтобы вы влюбились в простого человека, / Который любит землю и небо / Больше, чем рифмованные и нерифмованные / Речи о земле и о небе». Любовь вернет героиню к жизни, скинет маску печали и измученности. Для лирического героя это не станет трагедией, поскольку, аналогично стихотворению Фета, поэт силой воображения и личного опыта умеет в «чужом» увидеть «свое», не становясь ни «насильником», ни «обманщиком», ни «гордецом».
Сопоставление блоковского «Письма» и «Спокойного» Шершеневича обнаруживает изменение субъект-объектной организации стихотворения: «я» заменяется «он», тем самым лирический герой Блока становится предметом высказывания Шершеневича, внутренняя точка зрения сменяется внешней. Следствием отмеченной трасформации становится презентация внутренней позиции предшественника: исключительность (не «простой человек»), одиночество, самодостаточность («я слишком занят собой»), принадлежность миру «мертвых» - посредством внешнего. Акцент делается на облике («денди», «в безукоризненном костюме», «с панамою, опущенной на бледный лоб» и пр.) на поведении («бредет рассеянно», «не обращая внимания»). Шерше-невич демонстрирует своеобразную модель блоковского мира, манекен-памятник признанного поэта («как каменное изваяние», «восковой рукой»). Существенно в связи с этим, что «наносное» героини Блока передается герою стихотворения Шершеневича. Например: «думаете о смерти» - «слегка улыбается над смертью», «презираете свою красоту» - «презрительно отзывается о любви и о литературе». Если блоковский поэт «отнимает» «аромат»! душу/суть «цветка», то герой Шершеневича сам «цветок»/форма: «...наполняется золотом, / как цветок вечерним благоуханием». Тем самым «свое» Блока подается отчужденно, через маску, позу, формальные признаки. Более того, в противовес героине-адресату «Письма» Блока представлена героиня-возлюбленная поэта — «Голубая Невеста». Дружеский совет предшественника полюбить «простого человека» игнорируется. «Поэт» Шершеневича вдохновляется, «оживает», лицезрея неземное создание, идеал («Вы, / Всегда легкая, прозрачная, немного томная»). Младший автор как бы достраивает недосказанное, реконструирует роман Блока, исходя из творчества последнего («Стихи о Прекрасной Даме»),