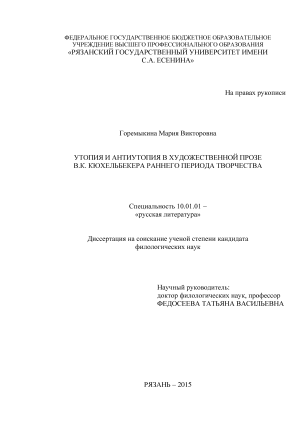Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Утопия и антиутопия как литературоведческая проблема 13
1.1. К истории осмысления утопии и утопического сознания 16
1.2. Вопрос о жанровой дифференциации утопии и антиутопии 26
1.3. Авторское сознание в утопическом метажанре 36
Глава II. Творческое становление В.К. Кюхельбекера 43
2.1. Мировоззренческое самоопределение 48
2.2. Начало литературной деятельности 58
2.3. Эволюция романтического сознания в 1817–1821 годах 69
2.4. Проза В.К. Кюхельбекера в контексте повествовательных жанров времени 86
Глава III. Утопия и антиутопия В.К. Кюхельбекера в русском литературном процессе 97
3.1. Русская утопия в историческом развитии 100
3.2. Развитие русской просветительской утопии в повести «Европейские письма» 117
3.3. Романтизация утопической традиции в повести «Земля Безглавцев» 132
3.4 Утопия и антиутопия в творчестве В.К. Кюхельбекера и В.Ф. Одоевского 150
Заключение 169
Список литературы 175
- Вопрос о жанровой дифференциации утопии и антиутопии
- Авторское сознание в утопическом метажанре
- Эволюция романтического сознания в 1817–1821 годах
- Романтизация утопической традиции в повести «Земля Безглавцев»
Вопрос о жанровой дифференциации утопии и антиутопии
Человек, находясь в неудовлетворяющей его действительности, всегда стремится в мечтах к иному миру и обществу, где господствует справедливость, все люди равны и свободны. В обществе всегда в том или ином виде распространены критические настроения, что приводит к противопоставлению существующего миропорядка вымышленному, идеальному. Такие идеи естественным образом нашли свое отражение в народном творчестве, в том числе и в легендах, мифах и сказках. По мнению А. Мортона: «Народная утопия своими корнями уходит в миф, она окрашивает собой литературное творчество, и едва ли найдется в Европе такой уголок, где бы она не давала о себе знать» 1 . И действительно, народная утопия существует, практически, у всех народов в мире: «…у англичан – это страна Кокейн, у французов – Кокань, у латиноамериканцев – Помуна и Горная Бразилия, у немцев – Люберланд и Шларафенланд» 2. В русском фольклоре известны легенды о граде Китеже, о Беловодье.
Утопическим сознанием отмечено развитие человечества на протяжении долгого периода времени. Утопия постепенно вбирала в себя философские, политические, экономические идеи и приобретала соответствующую этим позициям форму – трактатов, деклараций, манифестов. Утопия – сложное явление мировоззренческого характера, нашедшее выражение в разнообразных текстах.
Л.И. Новикова и И.Н. Сиземская утверждают, что изначально утопия была воображаемым представлением о лучшей жизни, позднее она вобрала в себя черты общественного представления о социальном идеале, созданном благодаря критическому осмыслению проблем существующей действительности, и лишь затем – способы реализации этого идеала, превращаясь в определенное миромоделирование. По их мнению, первая литературная утопия, сочинение
Ануфриев А.Е. Утопия и антиутопия в русской прозе первой трети XX века. М., 2002. С.10. Томаса Мора «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (1516), не выражала общественное сознание, а «была скорее интеллектуальным развлечением ученого-гуманиста, нежели философским обоснованием социального идеала, и уж тем более не была программой каких-то социальных преобразований»1. Тем не менее, в литературе появилось большое количество подражаний «Утопии» Томаса Мора. Как указывал В.В. Святловский, к 1925 году было написано порядка двух тысяч работ экономического, социально-философского и политического содержания2. Недовольство людей окружающей их социальной действительностью находило выход на страницах этих произведений.
Утопия – место, которого нет – становится именем нарицательным. Впоследствии осмысляется как особый тип общественного сознания, который отличается определенным философским пониманием проблем развития общества и прогнозированием поиска путей к социальной справедливости.
Текстуальное выражение утопического сознания появилось намного раньше упомянутой выше книги Т. Мора. Многие исследователи рассматривают трактат «Государство» Платона как первую в мировой культуре утопию, обнаруживая ее корни в античной литературе. Так, Е. Шацкий утверждал: «Всю утопическую литературу можно рассматривать как гигантский комментарий к этому знаменитому сочинению» 3 . Утопии возникали всегда, «…когда в человеческом сознании разверзается пропасть между миром, каков он есть, и миром, который можно вообразить»4.
Совершенно естественно, что критическое осмысление картины мира определило появлению особого мировоззренческого типа. Автор утопии, по мнению А. Фойгта, как правило, – это человек, «охваченный сознанием ужасных несовершенств современного ему государственного устройства и социального
Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Три модели развития России. М., 2000. С. 96. Святловский В.В. Каталог утопий. М., 1926. С. 3. Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 19. Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 34. порядка, преисполненный недовольством и даже ненавистью к ним, жалостью к тем, кто страдает от них»
Замечено, что наибольшей популярностью утопии пользовались в кризисные моменты жизни общества, когда социальное зло становилось очевидным. Такие моменты в истории сопровождаются радикальными социальными и политическими преобразованиями. Утопическое сознание не просто не соглашается с окружающей действительностью, оно не принимает общество в существующих формах, требует кардинальных изменений. Отрицание существующей действительности, критика жизненного уклада определяет общественную ценность утопии.
Общественная значимость утопии состоит в том, что она представляет собой «необходимый и всеобщий элемент социального творчества в соответствии с выработанными человечеством нормативными ценностями, выражает общую для всех времен направленность человеческих исканий и ожиданий» 2 . А. Свентоховский писал, что утопии «подобны стае пролетающих над землей птиц, которые – какова бы ни была их окраска и формы – все стремятся из холодных мест в теплую страну будущего» 3 . Это стремление к идеальному общественному устройству и лежит в основе утопического сознания. Утопия основывается на критике существующего положения вещей, что позволяет в каждую отдельно взятую эпоху говорить о степени критического осмысления действительности и способности противопоставить ей идеал утопического мироустройства.
Авторское сознание в утопическом метажанре
В развитии русской прозы первой трети XIX века отразилось своеобразие русского исторического процесса и продолжение литературной традиции русского просветительства, ярко выраженного в творчестве Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, А.Н. Радищева. Исследователи прозы начала XIX века, В.Г. Базанов, Н.Н. Петрунина, А.В. Архипова, Г.В. Субботина, Е.А. Сурков, Т.В. Федосеева, Т.А. Алапатова и некоторые другие современные ученые, отмечают динамику развития повествовательных прозаических жанров, появление самостоятельных и самобытных художественных произведений, отображение в текстах русских писателей значимых общественных событий.
Поиски форм для выражения нового понимания человека, его сущности, отношения к внешнему миру, человеческой судьбы увенчались успехом в творчестве Н.М. Карамзина, в прозе которого сочетался интерес к жизни обыкновенного человека и, одновременно, – к высшему, сакральному содержанию 1 . Важнейшим достижением писателя стал, по наблюдению Т.А. Алпатовой, «новый взгляд на мир автономной, свободной, открытой всем впечатлениям бытия и в то же время нравственно самодостаточной личности»2. Таким образом, ключевыми моментами, определившими базу для творческих поисков в русской прозе романтического периода были жанровый и антропологический.
В творческом сознании писателей происходили изменения в вопросах о сущности природы человека, общественной жизни и исторического процесса. Изменилось представление о способе художественного мышления, искусстве, соотношении формы и содержания в литературном творчестве. Если для литературы классицизма ведущей являлась категория жанра как определенный образец для подражания, эталон, то в предромантической и романтической словесности на первое место выходит человек как личность, духовная и нравственная составляющая его жизни.
Авторы отвергали принцип подражательности в искусстве, находились в поиске новых источников вдохновения, которое все чаще обретали в прошлом своего народа и фольклоре. Индивидуальное творческое начало гармонично сочетало традиционные жанровые формы с древнерусскими и народными текстами. Фантазия, без которой невозможно творчество, понималась как наивысшее проявление творческого начала.
Художественное слово в русской прозе начала XIX века рассматривалось как «оружие осмеяния», использовалось «в целях воспитания общества, формирования общественного мнения, критики политического строя и монархического правления»1 . Этим обусловлено появление новых сюжетов и образов, продиктованных историческим развитием общества, повлекшее за собой изменение в сознании читателей, способствующем увеличению интереса и расширению читающей аудитории. Г.В. Субботина отмечает, что в первой четверти XIX века произведения «избавляются от дидактики и излишнего пафоса, свойственного литературе XVIII века. Дальнейшее развитие литературного процесса характеризуется обогащением новыми художественными средствами, разнообразием идейно-тематических исканий»2. «Начало 1820-х гг., – по утверждению Н.Н. Петруниной, – ознаменовало себя переменами во всех прозаических жанрах русской словесности»3. Начало 1820-х годов – период появления новых имен в русской литературе. Наряду с сочинениями признанных прозаиков, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, В.Т. Нарежного, приходят писатели нового поколения, такие как В.К. Кюхельбекер, А.О. Корнилович, В.Ф. Одоевский и другие. Значение творческой индивидуальности, замечает Н.Н. Петрунина, возрастает настолько, что даже молодые прозаики (независимо от степени их литературной одаренности) успешно экспериментируют, традиционные жанровые формы приобретают несходное, индивидуальное значение. Особенно это ощутимо, когда речь идет о литераторах декабристской ориентации, близких в идейном отношении и исходящих из общего понимания задач литературы1. Наряду с древнегреческой, римской, египетской мифологией, авторами использовались библейские сюжеты, образы, мотивы, преобразуемые ими согласно их мировоззренческим представлениям. Писатели соединяли исторические и политические трактаты, памфлеты, социальную сатиру, утопии и антиутопии. Все более настойчиво высказывается мысль о необходимости национальной самобытности литературы, русский народ и государство понимаются как оплот национальной идеи.
Духовные и философско-эстетические искания авторов начала XIX века отобразились в их художественном сознании и перерабатывали его, в результате чего произошли изменения в художественной системе русской литературы в сфере жанрообразования. Преобразования прозаических жанров обусловлены изменениями, происходившими в сознании писателей: осознание сложного внутреннего мира человека, его взаимодействия с окружающей действительностью. Как указывает Т.В. Федосеева, « … в литературе шел процесс психологизации образа и конкретизации условий внешнего существования человека»2. Результатом послужило появление межжанровых и межродовых форм.
Эволюция романтического сознания в 1817–1821 годах
В характеристике Доброва выделяются черты, в наибольшей степени ценимые в людях самим В.К. Кюхельбекером. Он откровенен в разговоре, приветив со всеми, включая слуг, трудолюбив, добродетелен, его основное правило – «во всем и вполне быть человеком»2. Идеальный герой сочетает в себе истинную просвещенность и образованность с высокой нравственностью, что делает его, по мнению автора, «истинным человеком»3.
Важно отметить, что произведение М.М. Щербатова, практически лишено заимствований, это самобытный и абсолютно авторский текст. Что, несомненно, важно и для В.К. Кюхельбекера, который был ярым приверженцем национальной литературы, а подражания и заимствования не принимал, считая их тормозящими развитие русской литературы.
В «Путешествии в землю Офирскую» М.М. Щербатова и «Европейских письмах» В.К. Кюхельбекера, отразились духовные и эстетические искания конца XVIII – начала XIX века. В двух произведениях обнаруживаются сформулированные Т.В. Артемьевой 4 основные типологические черты просветительской утопии:
Идея «просвещенного монарха», который силой данной ему власти способен провести необходимые реформы. В Офирии правит монарх, но его власть основывается не на «своевластных хотениях», а на принципе государственной пользы, на разуме: «Не народ для царей, но цари для народа, ибо прежде, нежели цари, был народ... Царь должен сам первый законам страны повиноваться, ибо по законам он и царь, а разрушая их власть, разрушает и повиновение подданных себе»1. Сам монарх хорошо знает жизнь своего народа, представители которого имеют свободный доступ ко двору. Ему не оказываются особые знаки внимания, поскольку это могло бы «некоим Государям вложить мысли гордости и предубеждения, якобы они весьма любимы народом, что может вредные следствия произвести»2. В повести В.К. Кюхельбекера староста русской общины Добров – идеальный правитель. Он утверждает в общине равные права граждан и гармоничное развитие личности, высоко ценит идеи гражданственности.
Власть в государстве принадлежит мудрецам или философам. При монархе, правящем на Офирской земле, состоит совет представителей высшей аристократии. Верховное правительство состоит из опытных и образованных чиновников. Над всеми тщательно описанными институтами, учреждениями и обычаями Офирии безраздельно царит «дух добродетели» и терпения. Староста русской общины у В.К. Кюхельбекера – человек образованный, добродетельный, мудрый. Его жена Элиза – «идеал женского совершенства»3 . Эта скромная, добрая, искренняя и умная женщина, является самой главной советчицей Доброва, поскольку предложенная Кюхельбекером модель правления воспроизводит основы семейного, а не государственного устройства.
Идея совершенных законов. В Офирии «законы сделаны общим народным согласием и еще беспрестанным наблюдением и исправлением в лучшее состояние приходят» 4 . Добров в своем правлении руководствуется благоразумием, человеколюбием и добродетельностью. Он справедлив и снисходителен к людям, ценит свой народ, ведь каждый человек, по его убеждению, имеет право на уважение.
Бог поместил разум в голову каждого человека, а не только представителей власти, в их обществе всю люди имеют равные права. В русской общине в Калабрии также царит равенство. Народ искренне любит своего правителя, в поведении которого подчеркиваются правила естественного объединения людей в семью, где младшие охотно подчиняются старшим.
5. Убежденность в том, что духовное просвещение способно изменить нравственное состояние общества. В романе М.М. Щербатова в обществе главенствует принцип добродетельности, они высоко чтят нравственные принципы, а уже после законы, правителя и вельмож. В повести В.К. Кюхельбекера Добров, как «истинный человек» 1 , стремится к усовершенствованию общественной жизни через образованность нравственную, эстетическую и духовную, видя целью своей деятельности гармоничного человека.
Проведенное сопоставление показывает, что произведения М.М. Щербатова и В.К. Кюхельбекера имеют много общего. Их авторы открывают читателю новые идеальные миры с надеждой на их реализацию в России. Герои двух рассмотренных произведений стремятся обрести справедливость и гармонию, внешнюю, в отношениях между людьми, и внутреннюю – в укрощении дурных наклонностей, у Щербатова – верой в Бога, у Кюхельбекера – доверием к человеку.
Различия определяются самим утопическим сознанием авторов: М.М. Щербатов опирается на идею о справедливом законе, в его идеальном мире главенствует здравый смысл и соблюдается строгий порядок и регламентированность, а для В.К. Кюхельбекера важной и неотъемлемой является духовная и нравственная составляющие в естественных семейственных отношениях членов общины, возглавляемой Добровым.
Мир М.М. Щербатова совершенный, не требующий никаких изменений, и, на первый взгляд, этот роман определенно утопия. Однако Е.Е. Приказчикова замечает, что «Путешествие в землю Офирскую Г-на С… Шведского дворянина» представляет собой синтез утопии и дистопии, который осуществлен в рамках одного текста. При этом «антиутопия представляет собой рассказ о прошлом Офирской земли, которое разительно напоминает Россию второй половины XVIII столетия. Утопия же – это рассказ о настоящем положении дел в Офирском государстве»1. У В.К. Кюхельбекера обнаруживается та же тенденция. Прошлое Европы изобличается в своих общественных пороках, а в настоящем XXVI-го века – прекрасный мир, в котором торжествует справедливость, просвещение и добродетель.
Становление и развитие утопии и антиутопии обусловлено определенными общественными процессами. Замечено, что интерес к антиутопии возрастает в кризисные и переломные моменты общественного развития. А.Я. Баталов пишет, что «антиутопия рождается из духа кризиса, когда понимаешь, что чего-то не понимаешь, но когда видишь, что дорога с указанием «Рай» привела тебя, с твоим непониманием чего-то, с твоей ограниченностью, в ад, в то, что ты со своей ограниченностью считаешь адом»2 . Антиутопия, как и утопия, одна из форм оценки образа будущего. «Антиутопия – не просто спор с утопией, это ее принципиальное отрицание. Причем это зачастую отрицание утопии утопическими же средствами, то есть произвольное конструирование образов нежелательного мира, призванных отбить у читателя всякую охоту изобретать, а главное – пытаться осуществить утопические проекты», – пишет А.Я. Баталов3. В антиутопии изображен фантастический мир, но в отличие от утопии, положительных эмоций этот мир не вызывает. Наоборот, он ужасен и беспощаден к человеку, заставляет испытывать чувство страха.
Таким образом, метаутопия сочетает в себе два абсолютно противоположных отношения к социально совершенному миру. Социальные отношения являются для автора основным предметом изображения и именно вокруг них построен сюжет. При этом автор утопии утверждает внешнюю урегулированность жизни как достижимую цель; автор антиутопии показывает разрушительность этого мира для «внутреннего человека».
Романтизация утопической традиции в повести «Земля Безглавцев»
В личности В.К. Кюхельбекера современники, а позднее и исследователи его творчества, отмечают небывалый энтузиазм, восторженность, мечтательность, общую романтическую настроенность. Он был «большим ребенком», человеком бесхитростным, доверчивым, искренне верящим в справедливость и любовь, целеустремленным, упорным. Литературная позиция Кюхельбекера обусловлена его личностными свойствами, в основных чертах совпадавшими с устремлениями эпохи. Ранний период его творчества пронизан просветительскими идеями об усовершенствовании мира. Развиваясь в русле идей, определяющих русскую жизнь первой четверти XIX века, он отражает важнейшие духовные, философские и эстетические искания времени. В.К. Кюхельбекер настаивал на национальной самобытности литературы и русского языка, видел в них отображение духовной жизни народа. Внимание к личности человека, его духовному миру, человеческой добродетели и морали определяют раннее творчество поэта. Творчество понималось им как акт Божественной воли. В лирике поэта и его литературно-критических суждениях выражены идеи иррациональной природы вдохновения. Поэт, в его понимании, пророк, он благословлен свыше, и его долг делиться с людьми откровениями, даже если это приведет его к личным страданиям. В своих мировоззренческих принципах Кюхельбекер основывался на романтическом идеализме: верил в возможность создания идеального общества путем внутреннего усовершенствования человека, и возлагал свои мечты и надежды на будущее, в котором люди будут руководствоваться в своем отношении к миру принципами духовности и высокой нравственности.
В.К. Кюхельбекер был человеком преданным своим идеалам, что отразилось в художественной прозе писателя. Стиль его повествования – экспрессивный, лирический, эмоциональный. Его прозаические произведения гармонично вливаются в русский литературный процесс первой четверти XIX века. Как и большинство современников, Кюхельбекер среди прозаических жанров выделял повесть. Произведения, созданные в популярных для своего времени жанрах утопии, путешествия, исторической повести наделены ярко выраженной авторской индивидуальностью. Написанное в эпистолярном жанре «Путешествие» имеет искусствоведческую направленность, повесть «Адо» отмечена особой поэтичностью и чувствительностью, а обращение автора к историческому сюжету служит для художественного воплощения его нравственных принципов, повести «Европейские письма» и «Земля Безглавцев» являются фантастическими, и им присуща утопическая направленность.
Развитие утопии и антиутопии в русской литературе имело свои особенности. Их начала обнаруживаются в народном творчестве, преданиях, легендах, сказках. Русские литературные утопии отражали особенности именно русской жизни, ее специфику и свойства. Глубокий анализ современниками социальных противоречий в обществе, выявление негативных сторон общественной жизни – позволяли авторам выразить собственные мировоззренческие установки при обращении к утопическому жанру. Наибольшей популярностью в русской литературе утопия пользовалась в XVIII–начале XIX века, во времена господства идеологии Просвещения и влияния масонских идей. Утопия и антиутопия гармонично влились в литературу русского предромантизма и романтизма, получив новый толчок в своем развитии. В развитии устоявшейся жанровой традиции отличается индивидуально-личностная направленность.
В мечтах об идеальном мироустройстве, В.К. Кюхельбекер обращается к утопической традиции, сформировавшейся в творчестве русских писателей Просвещения. Сопоставительный анализ повести В.К. Кюхельбекера «Европейские письма» и романа-утопии М.М. Щербатова «Путешествие в землю Офирскую г-на С. … Шведского дворянина» позволяет сделать вывод о мировоззренческой и поэтической общности двух произведений. В произведениях двух авторов явно выражено отрицательное отношение к современному устройству общества. И Кюхельбекер, и Щербатов, демонстрируют читателю новые идеальные миры, высказывают надежду на их достижимость. Из общих черт нами выделены: образы идеальных правителей (Самолин, Добров), надежда на идеальное мироустройство именно в России, господство в обществе просветительских идей в сочетании с духовными традициями, преобразовавших некогда обычные государства (у Кюхельбекера – колония) в идеальные. Различия обнаруживаются в самом мировоззрении авторов: Щербатов опирался на справедливый закон, как основу идеального общественного устройства, а Кюхельбекер ведущее место в жизни общества отдавал духовности и нравственности.
В повести «Земля Безглавцев», написанной спустя четыре года после «Европейских писем», В.К. Кюхельбекер уже не так воодушевлен мечтой об идеальном общественном устройстве. Он приходит к мысли о том, что личность в рационалистически идеально устроенном обществе нивелируется, а сознание из индивидуального переходит в общественное. Автор специально акцентирует внимание на пороках Безглавцев, показывая читателю всю пагубность царящего в обществе принципа практической пользы. При этом внешние пространственно-временные характеристики повести соответствуют утопическим: государство находится в недосягаемом месте – на Луне, где время не движется; общественные порядки строго регламентированы рациональным подходом к жизнеустройству, сильна роль ритуала – вытравливание сердца и утрачивание головы. Автор обнаруживает бесчеловечность условий, в которых живут люди в этом с социальной точки зрения идеальном обществе. Только отсутствие возможности думать и переживать делает людей, лишенных в детстве голов и сердец, счастливыми. Для героя-рассказчика, как и для автора, этот мнимо счастливый мир страшен своим бездушием и безнравственностью. Таким образом, повесть приобретает метаутопическую жанровую природу – утопия объединяется с антиутопией.