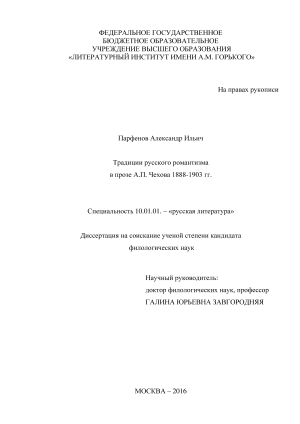Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Пейзаж в прозаических произведениях А.П. Чехова 1888-1900 гг. и романтическая традиция .23
1.1. Романтическая категория воображения как стилеобразующее начало в чеховском пейзаже: рассказ «Гусев» .23
1.2. Мотивы иррационального при изображении природы: гоголевская традиция .41
1.3. Пейзаж как историко-национальное начало: повесть «Степь» 63
Глава 2. Фантастическое в романтизме и фантастическое у А.П. Чехова: особенности диалога 77
2.1. Категория фантастического. Фантастическое в романтизме .79
2.2. Безумие как мотивировка фантастики: романтическая традиция в повести «Черный монах» 86
2.3. Фантастическое в «старинно-сказочном вкусе»: повесть «Три года» и рассказ «Убийство» 111
Глава 3. Конфликт в романтической литературе и в творчестве А.П. Чехова: развитие и переосмысление 129
3.1. Мотив бегства в южных поэмах А.С. Пушкина и в прозе А.П. Чехова..131
3.2. Мечты и действительность в «Рассказе неизвестного человека»: новая трактовка романтического конфликта 160
3.3. Антиномия образа и реальности: ирония в романтизме и в произведениях А.П. Чехова 175
Заключение .192
Список литературы. 197
- Мотивы иррационального при изображении природы: гоголевская традиция
- Пейзаж как историко-национальное начало: повесть «Степь»
- Безумие как мотивировка фантастики: романтическая традиция в повести «Черный монах»
- Мечты и действительность в «Рассказе неизвестного человека»: новая трактовка романтического конфликта
Мотивы иррационального при изображении природы: гоголевская традиция
В силу особенностей, диктуемых форматом настоящего исследования, необходимо ограничить нашу тему, говорить не вообще о романтической традиции у Чехова, но рассмотреть вопрос на материале прозаических произведений 1888-1903 гг. Очевидно, что и драматургическое творчество Чехова может быть исследовано в плане его связей с наследием романтизма, однако (уже в силу типологических особенностей работ для театра), этот вопрос оказывается специальным и выходит за рамки диссертации. Что касается ранних произведений Чехова, то проблема их отношения к романтической традиции также правомерна, но осложняется наличием в ряде случаев общего юмористического задания, нехарактерного для рассказов и повестей с 1888 года, и жанровой спецификой: присутствием таких форм, как «мелочишка» и «рассказ-сценка»15. В этом смысле, раннее творчество Чехова (традиционно выделяемое по отношению к позднему) также оказывается особенным явлением, требующим специального разговора, и не может быть освещено в рамках нашей работы.
Относительно анализируемых нами аспектов романтической поэтики следует отметить, что мы – не претендуя на всеохватность – стремились выбрать именно те из них (пейзаж, фантастика, конфликт, как будет видно ниже), которые являются, с нашей точки зрения, наиболее репрезентативными. Названные черты романтизма связаны также с различными уровнями художественной организации (пейзаж – как наиболее локальный уровень, конфликт – как наиболее общий) и позволяют рассмотреть интересующий нас вопрос с разных сторон, наиболее полно. Структура исследования, соответственно, определяется движением от наиболее локальных (пейзаж) к наиболее общим и влиятельным (конфликт) аспектам поэтики. Разумеется, можно выделить и другие черты романтизма (образ героя, проблема отчуждения16), однако они представляются нам менее показательными в плане их рецепции Чеховым и рассматриваются в контексте других, более общих черт. Так, говоря об оппозиции (конфликте) дома и мира, мы отчасти затрагиваем вопрос о соотношении чеховских персонажей с персонажами романтическими, об отчуждении у Чехова и у романтиков.
Как мы уже отмечали выше, вопрос о традиции романтизма у Чехова имеет определенную историю в критической и научной литературе. Прежде, однако, необходимо уточнить некоторые используемые нами понятия и охарактеризовать те концепции, на которые мы ориентируемся при понима-нии основных особенностей русского (и в той степени, в какой это важно для нас) западноевропейского романтизма, а также самого творчества Чехова.
Говоря о методологической основе диссертации, выделим, прежде всего, понятие стиля, которое трактуется в нашей работе в соответствии с концепцией В.В. Виноградова как «индивидуально-очерченная и замкнутая целенаправленная система средств словесно-эстетического выражения и воплощения художественной действительности»17. При определении стиля также важен для нас подход П.Н. Сакулина, описывающего стиль в контексте культурной эпохи, художественного направления и школы, индивидуального творчества и конкретного произведения; само понятие стиля мыслится исследователем в качестве «совокупности тех особенностей, какими одна форма отличается от другой формы, ей аналогичной»18. Категория традиции, принципиально значимая для нашей работы, понимается нами с опорой на В.Е. Хализева: по мнению признанного теоретика литературы, традиция, «связывая ценности исторического прошлого с настоящим, передавая культурное достояние от поколения к поколению … осуществляет избирательное и инициативное овладение наследием во имя его обогащения и решения вновь возникающих задач (в т.ч. художественных)»19. Подобная трактовка позволяет понять традицию как фундаментальный элемент стиля (элемент, не противоречащий положениям В.В. Виноградова о «индивидуально-очерченной и замкнутой целенаправленной системе»), как начало, предполагающее не механическое наследование и воспроизведение, но творческий диалог. Таким образом, говоря о традициях романтизма у Чехова, мы не пытаемся трактовать последнего в качестве «романтика» – что, разумеется, было бы чрезвычайно сомнительно – но стремимся описать художественный мир русского классика через его сложное взаимодействие с предшествующей литературой. При определении важной для нашего исследования категории фантастического мы ориентировались на некоторые тезисы Ц. Тодорова, в частности, на его описание фантастического как «колебания, испытываемого человеком, когда он наблюдает явление, кажущееся сверхъестественным»20. Вместе с тем, в отличие от французского исследователя, мы не рассматриваем фантастическое лишь в контексте романтической литературы, а исходим из более широкой трактовки Т.А. Чернышевой, предполагающей, что «фантастика не противопоказана никакому литературному методу»21. «Психологический» характер образов ирреального, обозначенный Ц. Тодоровым, акцентируется нами на основе работ Е.Г. Чернышевой: исследователь указывает на интерес романтической фантастики к «”ночной” (в том числе подсознательной) стороне души человека», к «особым формам человеческого сознания и самодвижения»
Пейзаж как историко-национальное начало: повесть «Степь»
Отметим вначале некоторые особенности романтического пейзажа у Гоголя, важные при последующем сопоставлении с чеховскими планами природы. В «Вечерах…» присутствуют два рассказчика – «простонародный» Фома Григорьевич и «просвещенный» Макар Назарович; каждый из них рассказывает свои истории, отличающиеся разной стилистикой – стилистикой в изображении природы в том числе. Так, в начале «Сорочинской ярмарки» или в описании украинской ночи в «Майской ночи…» (истории Макара Назаровича) в пейзаже явное антропоморфное начало, связанное с образами романтической любви и соответствующая возвышенная, книжная стилистика: пейзаж здесь, безусловно, субъективен, окрашен мыслями и эмоциями рассказчика. С другой стороны, можно привести пейзажные планы из «Вечера накануне Ивана Купала…» и «Пропавшей грамоты», произведений, где рассказчиком является Фома Григорьевич: «В степях закраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю» (1, 105), «Солнце убралось на отдых; где горели вместо него красноватые полосы: по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц» (1, 139). Стилистика здесь совершенно иная, определяемая прежде всего стилизацией под разговорную речь: пейзаж дан через образы, близкие повествователю из «простонародной», малороссийской среды, то есть вновь оказывается пейзажем субъективированным, «человеческим». Отметим сразу, что наследуется Чеховым преимущественно «книжная» линия гоголевского пейзажа, но, по всей вероятности, можно говорить (как будет показано ниже) и об отдельных случаях обращения к «простонародной» образности.
Впрочем, в обоих случаях «почва» для мотивов иррационального сохраняется: как мы увидим ниже, эти мотивы могут быть даны и на уровне «книжного» пейзажа, и пейзажа, соотнесенного с «простонародным» сознанием.
Рассмотрим подробнее вопрос о субъективности чеховского пейзажа и, далее, по каким именно семантико-стилистическим аспектам могут быть сопоставлены «субъективные» пейзажи Гоголя и Чехова.
По З.С. Паперному, пейзаж в конце рассказа «Студент» отражает произошедшую с героем перемену: «раньше мрачные сумерки со всех сторон обступали огонь – теперь он как будто разгорается, дрожит на человеческих фигурах»99. Из этого можно сделать вывод, что пейзаж в начале, напротив, является не связанным с внутренним миром персонажа. Между тем, такое умозаключение вряд ли было бы верным. Уже первое предложение вводит – наряду с нейтральным – и субъективный эпитет: «Погода вначале была хорошая, тихая». Показателен сравнительный оборот и в следующем предложении: «Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку» (7, 375). Сложность и самостоятельность сравнения («пустая бутылка» прямо не дана в тексте), позволяют интерпретировать его как связанное прежде всего с эмоциональным миром человека, а не только с изображением физической реальности. Отметим употребление в этом же предложении неопределенного местоимения («что-то»), с одной стороны «сигнализирующего» о субъективной точке зрения (пейзаж изображается как воспринятый конкретным наблюдателем, а не всеведущим автором), а с другой – вводящим, хотя и в очень легкой форме, принципиально важный мотив таинственного, неизвестного.
Во втором абзаце возникают прямые указания на то, что пейзаж связан с сознанием персонажа: «Ему (Ивану Великопльскому – А.П.) казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо» (7, 375). В только что процитированном фрагменте можно выделить олицетворение («природе жутко»), еще более усиливающее черты субъективности и одновременно придающее описанию оттенок книжного, поэтического стиля. Намеченный еще в первом абзаце мотив тайны, закрепляется словами о нарушенном «порядке и согласии»: именно этот образ, продолжая, с одной стороны, субъективацию природных реалий, с другой усиливает проблематику иррационального и хаотичного. Типологически близкие места можно отметить, в частности, в повести «Огни» (1888 г.): «весь этот ералаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса» (6, 135).
Тема хаоса (тем более данная в «Студенте» в соединении с элементами книжного и поэтического стиля, а в «Огнях» сопрягающаяся с исторической фантазией о «амалекитянах или филистимлянах» (6, 136)) вновь обращает нас к романтической традиции. По определению Н.Я. Берковского, хаос для романтиков «созидающая сила, опытное поле и питомник разума и гармонии»100. Казалось бы, такое понимание не свойственно Чехову – и в «Огнях», и в «Студенте» за мотивами хаоса закрепляется отчетливо-негативное значение. Однако с точки зрения художественного целого мотив может быть понят и совершенно иначе, именно в романтическом ключе: хаос выступает в «Студенте» как то отрицательное начало, без которого не будет и последующей гармонии, воодушевления и веры Ивана Великопольского в финале. Неслучайно в композиции рассказа мотивы хаоса и гармонии строго противопоставлены, подчеркнуто локализованы в начале и в конце произведения.
Безумие как мотивировка фантастики: романтическая традиция в повести «Черный монах»
«Черный монах» Ц. Тодоров, описывая общие особенности «фантастического жанра», выделяет два его типа: первый, связанный с толкованием наблюдаемых событий (являются ли они действительно фантастическими или вызваны ошибкой восприятия, мошенничеством и проч.), и второй, в котором «колебания происходят между реальным и воображаемым»164 (курсив автора – А.П.). Одним из наиболее характерных случаев второго типа будет ситуация, мотивированная безумием; колебания при этом могут заключаться в самой оценке психического расстройства, в сомнениях по поводу того, «не является ли безумие высшим разумом»165. Указанная мотивировка достаточно широкого представлена как в западноевропейском романтизме («Принцесса в романтизме русском («Блаженство безумия» Н.А. Полевого, «Сильфида» В.Ф. Одоевского, ряд повестей Н.В. Гоголя). На произведениях русских романтиков необходимо остановиться подробнее: нужно показать, что безумие здесь не является безусловно положительным началом, но, скорее, началом диалектическим, то есть, в терминологии Ц. Тодорова, «фантастическим».
Казалось бы, уже само название повести Н.А. Полевого «Блаженство безумия» (1833 г.) предполагает вполне определенную трактовку – безумие есть явление положительное, противостоящее в качестве некоторого лирико-философского максимума бытовому и повседневному. К такому пониманию близок и современный исследователь: безумие и безумная любовь у Полевого трактуются как «спасение от разрушающего душу меркантилизма … как единственно возможные в условиях социального неравенства чистые отношения»166. Однако, уже первое изображение Антиоха в повести отличается определенным сочетанием положительных и отрицательных черт: «В начале нашего знакомства показался он мне угрюм, холоден и молчалив. … Прибавлю, что он был собою довольно хорош, только не всякому мог понравиться. Лицо его, благородное и выразительное, совсем не было красиво; большие голубые глаза его не были оживлены никаким чувством» (92-94). Хотя после знакомства рассказчика с Антиохом первый высказывается о нем в восторженных тонах, сам герой оценивает себя и свои представления о жизни весьма скептично. Так, признавая большое влияние, оказанное на него Геттингенским университетом, Антиох говорит: «Германия – парник, где воспитывает человечество самые редкие растения, унесенные человеком из рая; но она – парник, Леонид! – а не раздольное поле, на котором свободно возрастали бы величественные пальмы и вековые творения человеческой природы» (99). Иными словами, сам персонаж склонен признать искусственность и условность своих идеалистических устремлений.
Центральное событие «Блаженства безумия» – влюбленность Антиоха в Адельгейду – так же внутренне противоречиво. С одной стороны, изображается характерная для романтиков идеальная и абсолютная страсть; с другой – рассказчик с самого начала подчеркивает болезненный характер любовного чувства, а Адельгейда, как выяснится позже, первоначально не столько была влюблена в Антиоха, сколько действовала по указанию «шарлатана» Шреккенфельда. Чрезвычайно показательно изображение безумного героя в конце повести: «я увидел Антиоха и ужаснулся. … Он был худ; кожа присохла к костям его; длинная борода выросла у него в это время, и голова его была почти седая. Только глаза, все еще блиставшие, хотя желтые, показывали тень прежнего Антиоха. Прежний прекрасный шлафрок его, висевший лоскутьями, был надет на него» (132). Перед нами именно сумасшедший, человек, разрушающийся физически, в описании героя нет ничего возвышенного; даже единственная «романтическая» деталь, блеск глаз, тут же снижается упоминанием желтизны.
Вопрос о том, насколько страсть Антиоха была действительно «блаженным» началом и, шире, где то необходимое равновесие между «идеальным» и «реальным», остается открытым в повести. Сам рассказчик чрезвычайно противоречиво оценивает Антиоха: «Его пример будь нам наукой: не слишком высоко залетать на наших восковых крыльях. Лучше дремать на берегу лужи, нежели тонуть, хотя бы и в океане…» (курсив автора – А.П.) (101). Несмотря на явный иронический тон («дремать на берегу лужи») из приведенного места совершенно не следует и справедливость второго варианта («тонуть, хотя бы и в океане»). Акцент ставится на самом трагическом несоответствии, на невозможности гармонично согласовать «мечты и жизнь».
Мечты и действительность в «Рассказе неизвестного человека»: новая трактовка романтического конфликта
В последних главах «Дуэли» мотив бегства претерпевает принципиальную трансформацию – и уводящую чеховскую повесть от романтических поэм Пушкина, и актуализирующую некоторые их черты. В ночь перед поединком с фон Кореном Лаевский пересматривает свою жизнь и, в том числе, отказывается от самого представления о бегстве как способе достичь чего-либо: «и кто ищет спасения в перемене места, как перелетная птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова. … Спасения надо искать только в себе самом» (6, 469-470). Такая оценка совершенно не свойственная южным поэмам – отчасти с ней может быть соотнесен лишь эпилог «Цыганов», утверждающий повсеместное господство «страстей роковых». В то же время, позиция Лаевского характерным образом подготавливается в повести, персонаж – еще до решающей ночи – начинает критически воспринимать свои планы: «после того как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины» (6, 433). В результате разговора с Самойленко, требующем отправить Надежду Федоровну вперед или уехать вместе с ней, Лаевскому «страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя» (6, 443). По сути, в этих эпизодах мы находим этическую критику бегства, сопоставимую с аналогичным подходом в «Кавказском пленнике», «Братьях разбойниках» и «Цыганах». Более того, последняя глава «Дуэли» с последовательно проведенными образами ветра, дождя и бурного моря, отчасти перекликается с финалом «Кавказского пленника». При всей вполне очевидной разнице между картиной утренней зари у Пушкина и мрачного штормового моря у Чехова, для обеих сцен характерно изображение динамичного, открытого мира, наличие разомкнутой смысловой перспективы, усиленной в случае «Дуэли» символически окрашенным образом лодки, делающей «два шага вперед и шаг назад» (6, 487).
Чеховская повесть на одном из уровней может быть понята как сниженная, «бытовая» инверсия южных поэм, сохраняющая, тем не менее, ряд их характерных признаков, таких как критическая интерпретация бегства, этическое ограничение идеи свободы и семантически открытый финал, утверждающий принципиальную неразрешимость изображенных в произведении коллизий.
Рассказ «Невеста» представляет для нас особый интерес. В отличие от ряда других вещей Чехова («Соседи», «Три года», только что рассмотренная «Дуэль» и проч.), «Невеста» может быть понята как произведение, в котором мотив бегства имеет положительное решение – Наде Шуминой удается уехать и ее поступок не приобретает в повествовании явной критической оценки. Во всяком случае, именно такая интерпретация характерна для отечественного и отчасти зарубежного литературоведения. Так, Г.А. Бялый, признавая некоторый скептицизм в изображении главной героини, все же подчеркивает ее положительные стороны и, соответственно, позитивную семантику ухода: «может быть, ее (Надю Шумину – А.П.) ждут впереди трудности… Но многое уже достигнуто… и атмосфера радостной надежды и порыва к будущему остается ничем не омраченной в рассказе, завершающем творчество Чехова»275. К сопоставимым выводам приходит и Д. Максвелл, отмечая способность Нади преодолеть любое разочарование и двигаться вперед276. Иначе оценивает рассказ В.Б. Катаев, выделяя в его финале, как и в финалах некоторых других поздних чеховских произведений, «тонкое равновесие между действительно оптимистическими надеждами и сдержанной трезвостью в отношении порывов тех самых людей, о которых Чехов знал и рассказал столько горьких истин»277. В.И. Тюпа в большей степени отмечает неоднозначность главной героини: «оказывается, страстное желание жить драматически противоречиво: при всей своей глубокой внутренней оправданности оно чревато безответственностью перед “другими”, безоглядностью сосредоточенного на себе субъекта жизни»278. «Критический подход» наиболее полно выражает Л.А. Звонникова: главные герои «Невесты» поглощены своими идеями, они черствы и эгоистичны; по мнению исследователя, «фанатизм таких людей, как Надя, несомненно пугал писателя»279. На наш взгляд, ни одна из подобных интерпретаций не является до конца убедительной, вопрос об уходе/бегстве героини, об особой семантической роли этого мотива, остается до сих пор открытым. Некоторые аналогии с южными поэмами Пушкина могут быть важными для понимания художественной специфики «Невесты»: сам композиционно акцентированный мотив бегства и отсутствие его непосредственной критики позволяют предположить сложный творческий диалог с романтической традицией в последнем рассказе Чехова.
В самом начале «Невесты» примечательно наличие двух планов – описания весенней природы и подвальной кухни. На первый взгляд, мы находим здесь контрастное противопоставление: природа и быт мыслятся как взаимоисключающие полюса, абсолютная ценность приписывается первому, подчеркнуто-негативный потенциал – второму. В действительности, все несколько сложнее. Отметим выраженную субъективированность пассажа про май: «дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом … развернулась теперь весенняя жизнь…» (8, 482). Мы имеем не просто личностное восприятие природы – что вообще в высшей степени характерно для Чехова, – но, скорее, специфическую стилизацию. Пассаж открывается восклицательной конструкцией («чувствовался май, милый май!» (8, 482)) и определяется далее повышенной эмоциональностью и несколько утрированным использованием книжных эпитетов («весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека» (8, 482)). Романтическая тема бегства косвенно возникает в этом же абзаце («…не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом») и выступает как составной элемент стилизации. Не будет большим преувеличением сказать, что цитированный фрагмент, несмотря на определенный лиризм, является набором общих мест (точных деталей здесь почти нет) и, по своей композиционной роли, относится к сознанию главной героини. Показательно, что его завершение («и хотелось почему-то плакать» (8, 482)) ритмически и лексически перекликается с финалом следующего пассажа про кухню: «и почему-то казалось, что так будет всю жизнь, без перемены, без конца!» (8, 483). На наш взгляд, подобная перекличка не случайна: она призвана продемонстрировать условность и ограниченность обоих планов, их определенную нарочитость. Кроме того, упоминания слез и плача далее в главке соотносятся отнюдь не с возвышенно-лирическими переживаниями, но – в случае бабушки и матери Нади – с экзальтированностью весьма сомнительного свойства. Возвращаясь к мотиву бегства можно сказать, что он с самого начала оформляется как относительный и, более того, как в известном смысле банальный, связанный не столько с индивидуальным опытом, сколько с некритично воспринятой культурной парадигмой. Уже это делает возможным некоторые параллели с южными поэмами Пушкина – прежде всего опять-таки с «Кавказским пленником», где «гордый идол» свободы оказывается самодовлеющим, несколько искусственным началом.