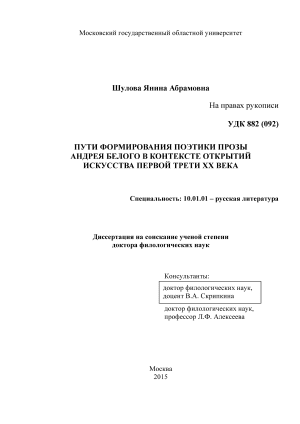Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. 61 Поэтика романа А.Белого «Петербург» и автобиографической трилогии писа теля в контексте эпохальных открытий искусства
1.1. Поэтика романа А. Белого «Петербург» и искусство кино 61
1.2. Сценическая версия и киносценарный вариант романа «Петербург» 89
1.3. Поэтика детского сознания: «Котик Летаев», «Крещеный китаец» и «Записки Чудака» как этапы на пути к московскому циклу 143
Глава вторая. Кинематографичность романов московского цикла 199
2.1. Замысел романов о Первопрестольной 199
2.2. Цвет в «Москве» как особенность поэтики кинематографа 213
2.3. Световой и теневой образы как приемы поэтики кинематографа в «Москве» 220
2.4. Жест, мимика, взгляд; гиперболическая портретная деталь 227
2.5. Зрелищное изображение снов, галлюцинаций, видений; техника наплывов, ассоциативно-образный монтаж 242
2.6. Другие кинематографические приемы в «Москве» А. Белого 253
2.7. Драматургические варианты «Москвы» 266
Глава третья. Поэтика экспрессионизма в «Москве» А. Белого 282
3.1. Проблема экспрессионизма в литературоведении и искусствоведении 282
3.2. Черты поэтики экспрессионизма в «Москве» А. Белого 310
3.3. Экспрессионистские цветовые эксперименты в «Москве» А. Белого 347
3.4. Музыка в «Москве» А. Белого как средство выражения экспрессии 365
3.5. Человек и природная среда в «Москве» А. Белого 381
3.6. Экспрессионизм Андрея Белого и некоторые направления русского авангарда (живопись) 396
Заключение 401
Библиография
- Сценическая версия и киносценарный вариант романа «Петербург»
- Поэтика детского сознания: «Котик Летаев», «Крещеный китаец» и «Записки Чудака» как этапы на пути к московскому циклу
- Световой и теневой образы как приемы поэтики кинематографа в «Москве»
- Экспрессионистские цветовые эксперименты в «Москве» А. Белого
Сценическая версия и киносценарный вариант романа «Петербург»
В двадцатые годы, разрабатывая теорию кино («Кино - слово - музыка», 1924; «Об основах кино», 1927; «О сюжете и фабуле в кино», 1926), Ю.Н. Тынянов стремился определить перспективы развития молодого тогда киноискусства и отрицал звук и цвет, ошибочно полагая, что они уничтожат кинематограф.
Вместе с тем Ю.Н. Тынянов высказал очень плодотворную мысль о появлении нового компромиссного жанра - киноромана. Ученый писал не о романе, написанном для кино, а о романе, созданном в эпоху возникновения кинематографа и рассчитанном на эстетическое восприятие человека, хорошо знакомого с поэтикой Великого Немого: стремительным темпом, монтажным сцеплением ассоциаций, «скачковым характером» кадров [816, с.339]. Читатель киноромана должен был быть одновременно и зрителем. Называя в статье «Об основах кино» «Петербург» и «Московский чудак» А. Белого «замечательнейшими романами» [816, с. 343], Ю.Н. Тынянов имел в виду сближение в них поэтики эпического произведения с поэтикой кино. Его появление активно развивало зрительную культуру человека начала XX столетия, побуждало мыслить пластичными зрительными образами, сравнивать прочитанное с возможной экранизацией.
Кинематограф вошел прочно в быт и культуру России и Европы. А. Бергсон в работе «Творческая эволюция» [364] использовал термин «кинематографический метод», имея в виду стремительный ритм в котором движутся образы-кадры. «Кинематографический метод» [364, с. 298], объяснял философ, - инструмент современной науки. «... наука действует кинематографическим приемом, что её задача состоит в подразделении ритма, потока вещей, а не в проникновении в этот поток, философия направлялась в сторону в сторону первого из них. Причина такого предположения, несомненно, заключалась в стремлении нашего ума действовать кинематографическим методом, столь естественным для нашего интеллекта и так хорошо приспособленным к требованиям нашей науки...» [364, с. 298].
А. Белый был одним из тех, кто приветствовал кинематограф на заре его развития и сумел разглядеть в нем высокое общенародное искусство. «Синематограф царствует в городе, царствует и на земле», - писал А. Белый в статье «Город» [91, с. 356]. Взгляды А.Белого на кинематограф нашли свое отражение в статьях «Синематограф» (1907), «Город» (1907), «Театр и современная драма» (1907), «Песнь жизни» (1908), «Пророк безличия» (1907), «Символический театр» (1907). А. Белый обладал кинематографическим мышлением. Оно было связано с особенностями эстетического восприятия писателя - эстетического восприятия человека XX и даже XXI вв. В его структуре значительное место занимал зрелищный элемент, порожденный техническими новшествами, принесенными НТР, то есть кинематографич-ность. А. Белый мыслил эстетическими категориями искусства кино и создавал его образный язык, а не пользовался готовыми приемамы поэтики кинематографа. Кинематографичность художественной манеры А. Белого коренилась в особенностях его творческой натуры (синэстетизм). Он сам мог, жестикулируя, представлять нечто вроде кинематографа. Истоки кинематогра-фичности произведений А. Белого - античный миф, который был синкретическим искусством, воплощенным в жесте (танец, пантомима), звуке, (музыкальные мелодии, извлекаемые из ударных, щипковых и духовых инструментов), краске (цвете) - окраске ритуального одеяния. Рассматривая литературные произведения или театральные постановки, он находил в них черты поэтики кинематографа: стремительность темпа, монтажное сцепление ассоциа 63 ций, дробление действия на кратчайшие отрезки, каждый из которых воспроизводится с наибольшей зрительной конкретностью; «кинематографические скачки» [91, с.5], язык жестов, заменяющих живую речь. Выявление возможностей кинематографа было одним из замечательных прозрений А. Белого. К ним принадлежал и вывод, что изображение вечных категорий возможно в кинематографе, тогда как в драме сильно затруднено. Резко, язвительно обрушиваясь на мистерию в театре, Белый противопоставил ей искусство, способное в зрелищном образе реализовать соотнесение человеческого и общечеловеческого, временного и вечного: « ... из драмочки к святыне не выйдешь, а Синематограф возрождает в душе уверенность в том, что мистерия останется не оскверненной: сквернятся кощуны. ... В Синематографе извращенное косоглазие остается у нас за плечами. Верим в мистерию только потому, что нет здесь покушений на нее с негодными средствами. Там -наплевать! Здесь целомудренное дыхание жизни» [174, с. 51-52].
Кинематограф становился для Белого критерием жизненности, правдивости в искусстве и литературе. Копирование мелочных бытовых подробностей в рассказах Нины Петровской («Ad sanctos amor», 1908), разрозненные призрачные видения «Балаганчика» А.А.Блока («Обломки миров», 1908), поток стремительно несущихся натуралистических деталей, представляющих не реальную жизнь, а ее видимость в «Homo sapiens» С. Пшибышевского («Пророк безличия», 1907), фрагменты феерии вместо динамично развивающегося действия при постановке символистских драм в театре В.Ф. Комис-саржевской («Символический театр», 1907) выявляются Белым-критиком путем параллелей с зрелищными искусствами.
Поэтика детского сознания: «Котик Летаев», «Крещеный китаец» и «Записки Чудака» как этапы на пути к московскому циклу
Рисованные в геометрическом стиле декорации, заменяющие натурный фон, клубы тумана, в которых плыла фигура сыщика, - всё это должно было усилить на экране ощущение призрачности, ирреальности происходящего. Персонажи киносценария - узники города; в клетку в кошмарном сне заключён Аполлон Аполлонович. Символ несвободы, мнимости защиты персонажей от зловещих сил города - куб комнаты в 21-ой (15) картине третьей части. Он означает прямолинейность и регламентацию, насаждаемую Аполлоном Аполлоновичем вслед за Петром. Символ «куб» перешёл из романа в киносценарий и получил удачное зрелищное воплощение: комната в форме куба на экране с квадратным столом (символика прямолинейности, пристрастия сенатора к прямизне, жесткости в любой сфере жизни): на столе лежало увеличенное изображение бомбы. Город в сценарии, погружённый в ночную тьму (туман, освещенный мутным мертвенным фосфорическим светом луны и электрическими фонарями, надвигающиеся на героев громады домов), был кинематографическим воплощением города лирики символистов И.Ф. Ан-ненского, А.А. Блока, В.Я. Брюсова.
Из романа и лирики (цикл «Город» в сборнике «Пепел») перешло в киносценарий символическое изображение призрачности и мертвенности города в образах маскарада. Бал у Цукатовых, где все приглашённые появлялись в маскарадных костюмах, занимающий большое место в романе, полностью был перенесён в киносценарий. Этому способствовала зрительная конкретность деталей и пластика рисунка движущихся фигур: слуг, проносящих поднос и лист с сувенирами для котильона, ряженых (паяцев, гранадского испанца - Липпанченко, маркизы Помпадур - Лихутиной), тапера, усевшегося за рояль, двух шеренг кадрильных пар, бегущего в красном балахоне с приподнятой маской Николая Аполлоновича. Зрелищность усиливал заимствованный из романа-первоисточника цвет: чёрные паяцы с белыми изображениями черепов со скрещенными костями; красное одеяло Николая Аполлоновича, Создавая киносценарий для цветного фильма, Белый не только пользовался цветовыми аналогами из романа, но и создавал цветовые образы, не имеющие их: фиолетовая маска Дудкина, намекающая на неумеренное употребление спиртного.
Символика мертвенности и призрачности (маскарад) в киносценарии воплощалась в зрелищные образы, рассчитанные для экранизации. Чёрные паяцы с изображениями черепа со скрещенными костями и Аполлон Апол-лонович, в субтильном, тщедушном облике которого проглядывают черты гимназиста и одновременно - тысячелетнего Кащея Бессмертного, маска сенатора в виде скелета - образы, которым в стихотворении «Маскарад» соответствовала «гостья-смерть», пляшущая с красным домино. Превращение Аполлона Аполлоновича из пожилого человека, «барина», в тысячелетнего старца (подразумевается Кащей) перешло в киносценарий, где прорисовка ужасных примет сказочного персонажа в реальном человеческом облике обозначилась отчётливее: «...он имеет вид гимназиста, нарядившегося в сюртучок и одновременно: тысячелетнего Кащея Бессмертного» [30, л. 48 об.].
Маскарад в киносценарии имеет инфернальную символику, он - ад (маска - обозначение греха, переряживания. Из ада Белое Домино уводит Лихутину, спасая от безумного арлекина -карикатурной маски мужа.
Отчётливее, чем в романе, выявляется символика извращения жизни современниками Белого - русскими людьми начала XX века с их душевной раздвоенностью и изломом. Персонажи «Петербурга» живут не подлинной жизнью, а её карикатурным подобием: в эпизодах бала у Цукатовых повторяет в гротескном карикатурном виде сюжет «Петербурга»; судьба каждого персонажа открывается в действиях карикатурной маски; деформируются отношения между героями. Дудкин в фиолетовой маске (это новый цветовой образ, которого не было в романе), застывший в жуткой ухмылке (предсказание безумия - «химерическая фигурка с узелком в руке» [30, л. 48]; он бродит с раскинутыми крестообразно руками во время бессонницы; «дурацкий арлекин» изображает обритого Сергея Сергеевича с петлёй (предсказание попытки самоубийства), за Лихутиной в костюме Помпадур ухаживает испанец (карикатурное изображение волокитства Липпанченко), карикатурная маска Аблеухова имеет череп вместо лица. Все эти маски - блестящая находка Белого - кинодраматурга, свободно оперирующего условными приёмами обобщения.
В масках разыгрывается судьба Аблеухова: в реальной жизни ему угрожает Дудкин, на площаде, где пляшут маски, карикатурное подобие Александра Ивановича гонится за маской сенатора. Медный Всадник в бреду является Дудкину, знаменуя распад личности, и прикажет убить Липпанченко. На маскараде на Александра Ивановича наскакивает карикатурный Медный Всадник, из романа и лирических стихотворений (цикл «Город» сборника «Пепел») переходит красное домино - символ возмездия и исторической обречённости. Оно, как и в романе, пробегая по залу, где построены шеренги кадрильных пар, вызывает страх, смятение. Описание костюма и маски Николая Аполлоновича, его мимики перешло из романа, потому что соответствовало поэтике кинематографа и явилось зрелищным образом, рассчитанным на экранное воплощение [30, л. 52 об.]
Из романа и лирики («Вакханалия») перешла в киносценарий сцена переодевания Николая Аполлоновича в красное домино (главка «Какой такой костюмер?»). Движения Николая Аполлоновича; детали одежды; зеркало, в которое смотрится он (зрелищный образ, эффектно выглядевший бы на экране), красный цвет, отягощенный символикой, также перешли из романа [30, л. 51]. Красный цвет символизирует кровь, террор, проявление которого - революция, а также является одним из цветов преисподней.
В киносценарии Белый продолжил изображение персонажей - русских людей начала XX столетия, утративших цельность личности и живущих кукольным, то есть ненастоящим, извращённым подобием жизни. В киносценарии «современный арлекин» - Николай Аполлонович. В сцене прихода Дуд-кина с узелком, судорожно воспроизведённой в сознании молодого Аблеухо-ва, он - паяц, совершающий утрированные движения [30, л. 56].
В картине 6-ой пятой части Николай Аполлонович уподобляется марионетке: «... с руками и лицом, перемазанными золою, в своей зелёной накидке он кажется пляшущим Пьеро» [30, л. 98 об.].
Уподобление персонажа кукле или замещение его ею позволило А. Белому ввести в киносценарий элементы театра марионеток. Обращение к нему Белого было проявлением общей тенденции развития русской литературы XX столетия. В.Я. Брюсов («Урсула и Томинетта»); элементы театра марионеток включил А.А. Блок в лирическую драму «Балаганчик». В Европе марионетку использовали М. Метерлинк и М.де Гельрод. В фильме Я.А. Протазанова «Марионетки» по сценарию В.З. Швейцера и Я.А. Протазанова сюжет строился на параллелях между марионетками в кукольном театре и марионетками политическими (обезличенные персонажи с условными именами), что становилось действенным художественным приёмом. Марионетка - утрата или подавление духовной сущности персонажей городом.
В киносценарии Белый искал решение проблемы «Восток или Запад?». Она волновала его, потрясённого трагическим исходом русско-японской войны точно так же, как тревожит сейчас нас, когда с Востока идёт в Россию террор. Через все «картины» киносценария проходит мысль, реализованная в снах, галюцинациях, цветовой символике (желтое) о скрытом тождестве персонажей, об опасности, идущей с Востока и нависшей над Россией. Восточное начало, приносящее жестокость, разгул иррациональных разрушительных сил, глубоко проникло, по мысли Белого, в русского человека. В романе конфликт «Восток или Запад?» реализуется в символике интерьеров (японский антураж квартиры Лихутиных). В киносценарии интерьеры не встреча 137 ются. Символика жёлтого цвета намекает на близость к Востоку провокатора Липпанченко. Его лицо с подчёркнуто выделенными объёмно-мимическими чертами, перенесёнными из романа в киносценарий, «желтоватое» [30, л. 2], а костюмная пара - «тёмно-жёлтая» [30, л. 2], как и в романе.
Световой и теневой образы как приемы поэтики кинематографа в «Москве»
Мимика персонажей «Москвы» отличается пластикой, изобразительностью, выражает, как в Великом Немом, сильные переживания, порывы. «Мандро поднял бровь...» [126, 62]; «Всем зажимом бровей показавши, что это - последнее слово, Мандро оборвал его...» [126, с. 63]; «Лизаша Мандро, сделав книксен, стояла растерянно: ротик открылся» [126, с. 66].
В пластике мимической игры реализована смена настроений Мандро: злоба, ненависть, притворная любезность. Аферист показывает бумажный «лоскуток», испещренный формулами, своему сообщнику Кавалеверу и сообщает ему, что документ, который расшифровывают ученые Германии, был обнаружен в старой книге из библиотеки Коробкина. Мандро разыгрывает из себя любителя старинных экслибрисов. «Эдуард Эдуардович сдвинул морщину: потом распустил белый лоб (как шаром покати); как бы умер на миг выраженьем лица; и - продолжил, приятно воскреснув улыбкой...» [126, с. 77]. Лица персонажей часто искажены гримасами. «Лизаша дивилась, выпучив глазки» [126, с. 127]; «...он ехал со злобой в прищуренном взоре, смор-щинивши лоб и сжимая тяжелую трость» [126, с. 25].
Взгляд персонажа, показанный крупным планом, тоже черта поэтики кино. Глаза - «окна души», утверждал Леонардо да Винчи. В глазах героев «Москвы» отражается их сложный внутренний мир, отношение друг к другу, разнообразные эмоции (злоба, ненависть, презрение, ярость, лукавство, притворство, самолюбование), «...поднялась с табуретика небольшого росточку Лизаша, в коричневом платьице, перевязанном фартучком; очень блажными глазами, стрелявшими сверком, вонзилась в отца; и старалась его улелеять глазами» [126, с. 66]; «...он фантазировал им за диктантами, все выговаривая дифирамбы природе вздыхающим голосом, бросив в пространство невидящий, меломанический взор ...» [126, с. 36]; «Мандро поднял бровь, уронивши на карлика взгляд, преисполненный явной гадливости ...» [126, с. 62].
Взгляд может иметь символическую семантику. У Мандро - «гробовые глаза». Многократно повторяясь в «Московском чудаке», этот образ намекает, что респектабельный, элегантно одетый господин - символ смерти, зла, равнодушия, душевного холода. «Но из-за звука глядел гробовыми глазами, умеющими умертвить любой разговор» [126, с. 99]; «Взглянул гробовыми глазами, вторыми, - сквозь первые, глупо совиные ..,» [126, с. 188].
Взгляд разоблачает негативного персонажа (Мандро), раскрывая низменные и преступные наклонности, фальшь, зверскую жестокость, эгоизм. «... и бросил свой блещущий, свой фосфорический, детоубийственный взгляд через голову Зайна: от этого взгляда Лизашино сердце забилось» [126, с. 105].
Персонажи изъясняются выразительными взглядами и подчеркнуто выпуклой мимикой, как в Великом Немом. Эмоциональная напряженность в немых фильмах, созданная чисто пластическими средствами, была очень велика. «Мысль подловатая высунулась из глаз князя; из глаз Куланского вопрос вылезал; но Пэпэш скорчил рожу» [126, с. 517]. В каждой характеристике звучит авторская ирония, вырастающая до гротеска.
Взгляд широко открытых глаз, показанных крупным планом, говорил о душевных бурях, страданиях, вспышках эмоций, выдавал тайные помыслы персонажей, внутренний мир которых представал в зрительном, психологически убедительном образе. «Крупный план необходим, когда есть потребность заглянуть в глубину глаз, в духовный мир человека», - писал Г.М. Козинцев в «Пространстве трагедии» [528, с. 33]. Эта черта поэтики немого кинематографа была разработана в «Масках» более выразительно, чем в «Московском чудаке» и «Москве под ударом». Новым было то, что в описание взгляда включался и цвет, который имел символическую нагруженность. «Леоночка, точно косая: агатовый глаз за окно, а другой, зеленый и злой, наблюдал Никанора,... видел, как злилась, как глазик, зеленый и злой перепархивал...» [126, с. 542].
Лучащиеся глаза (изумрудные или золотые) символизировали душевное возрождение персонажей. «Посмотрели друг другу в глаза: золотые, сияющие, - в изумрудные канули; ахнув, всплеснули руками: / «Лизаша, кото 236 рая, и о которой!» / Смеяся и плача, упали в объятия» [126, с. 681]; «И увидел: глаза ее, золотом слез овлажненные, - голубенели звездою» [126, с. 474]. «Мотив взгляда Коробкина, - отмечает В. Коно в статье «Мотив глаза в «Москве» А. Белого» [534, с. 484- 498], - имеет особое значение, связанное ... и с темой духовного возрождения» [534, с. 497]. Его переживают и другие персонажи, но на очень короткий миг. В душе Задопятова, вытеснившего больного Коробкина из квартиры, на мгновение пробуждается доброта, совесть, человечность. Он вновь ощущает себя «отроком» Китой, которого связывает крепкая гимназическая дружба с «отроком» Ваней - Коробкиным. Пробуждение добрых чувств в душе Задопятова изображено зрелищно, в цветовом, флористическом образе. Огромный водянистый глаз превращается в синий подснежник.
В «Москве» нередки диалоги взглядов. Персонажи изъясняются не словами, а взорами, в которых реализуется, по словам А. Белого, «главное содержание душевной жизни» [126, с. 763-764].
Мандро приглашает Митю к столу, просит отведать «тетерьку», наливает фужер за фужером вино, чтобы напоить юношу допьяна, чокается с ним, ведет непринужденный разговор. Цель Мандро - получить информацию о Коробкине, его рабочих бумагах. Митя сломлен ледяным взглядом и жестами хитрого и жестокого человека.
«Тянулся с фужером: обдал согревательным взглядом: но взгляд - ле-дянил; и вставало, что этот - возьмет: соком выжмет: / -Так чокнемся!... / Они чокнулись. / В жестах отметилось все же - насилие: стиск, слом и сдвиг» [126, с. 101]. Одновременно Мандро взглядами переговаривается с дочерью, которую использует в качестве приманки для Мити: «В то же время кровавые губы улыбочкою выражали Лизаше покорность: казалось, - глазами они говорили друг другу: / - Теперь - драма кончена» [126, с. 101].
Мимическая игра усилена цветовым образом. Он имеет символическую семантику: «кровавые губы» - признак вампира, инфернального существа. Кинематографичными были диалоги взглядов. Взгляд сияющих глаз символизировал духовную близость, взаимопонимание. В «Масках» многократно встречаются бессловные диалоги. Душевное напряжение, кипение страстей выражают рельефно прорисованные жест и взгляд. Немой диалог между Сослепецким, представителем Ставки, следователем, «свершителем» (палачом-душителем) и Друа-Домардэном (Мандро), интуитивно почувствовавшим врага, в незнакомом ему офицере, - диалог-поединок. Сослепецкому в мгновенно изменившихся жестах «парижского публициста» открылись растерянность, страх, неприязнь, ненависть «публициста».
«Только выюрк конца бороды, вверх и наискось, к двери, да талия, вза-верть поставленная, - тоже к двери, - на миг, на один, будто выдали тайну Друа-Домардэна: прыжком леопардовым - / - в дверь! / С Сослепецким скрестился он взглядами» [126, с. 450].
Мина и поза так же, как жест и мимика, становятся средством сатирического изображения. Позы гротескны, вычурны, изломаны, неудобны, даже непристойны. Негодяй Мандро разыгрывает из себя ценителя и покровителя искусств. Он посещает с дочерью кружок Свободной Эстетики, где собирается московская богема (поэты, художники, артисты, писатели, критики) и куда являются на правах меценатов богачи (купцы, купчихи, заводчики) первопрестольной. Бегавший в родных Киверцах «голоштанником», на вечерах Свободной Эстетики Мандро предстает снобом, позером, двоедушным человеком: «...планировал свои позы с таким поэтическим видом, как будто он ими привык торговать» [126, с. 101]; «Эдуард Эдуардович замодулировал голосом, миной и позой с зеленоволосой русалкой» [126, с. 201].
Экспрессионистские цветовые эксперименты в «Москве» А. Белого
Персонажи, соприкасающиеся с войной даже косвенно, уродуются, деформируются. Война разлагающе действует на них. Они теряют человеческое, гуманное начало, «самосознающую душу», что символически изображается в деформированном образе (обезглавленном теле). Домардэн, сидевший за столиком в ночном баре «... являл, сидя в нише, фигуру... безголовую» [126, с. 454].
Лизаша и Мандро в минуту встречи выглядят двумя туловищами, повернутыми спинами друг к другу, что символизирует их равнодушие, эгоизм, отчуждение людей, связанных узами кровного родства. «Он же старался ей выразить что-то: быть может, о вместе сидении этих двух туловищ...» [126, с. 732]. Экспрессионистический образ «туловище» восходит к обезглавленным персонажам рассказа А. Белого «Горная владычица» (1907). «... безголовые детские тела стояли на башне с протянутыми ручками». [178, с. 281].
Образ обезглавленного тела получает гиперболические черты. Россия, огромная страна, измученная войной, «безглава». Она не только «безглава». Россия безрука, как безруки солдаты и офицеры, идущие по московским улицам с «пустым шинельным рукавом» (самая заметная черта московской жизни осенью и зимой 1916 года). Белый рисует фантастическую картину в экспрессионистической манере: простор, опоясанный «злой щетиной штыков», «безрукий воздух» - покров на раку, погребальный покров, летящий над страной; мчащийся поезд. Это символ национальной трагедии, мук народа в «нечеловеческие дни», в «нечеловеческие бойни».
Белый подчеркивает экспрессию, нервозность движений персонажей, учащенный темп и прерывистый, скачкообразный ритм. Персонажи «Москвы» вовлечены в стремительное, вихревое движение, ураганный ветер, метель (бегущая «человечина» на Арбате в «Московском чудаке», несущиеся пассажиры и носильщики на вокзальной площади в «Москве под ударом», Сослепецкий и Пшевжепанский несутся сквозь снежные вихри, подобно бесам, по ночной Москве в «Масках»). Стремительность движений подчеркивает бесовскую природу персонажей. Носильщики названы «дьяволами в халатах», а Леоночка, выбегающая из дома на встречу метели, именуется «белой ведьмочкой». «... и хватил кулаком по воздуху, шаркнув и перевернувшись, как перед мазуркой ...» [126, с. 524]; «А профессор чесал в невыдир-ную давку...» [126, с. 723].
Персонажи мчатся, «сигают», скачут, прыгают, потрясают руками, взмахивают ножом, кулаком рубят воздух, танцуют или пляшут в эксцентрической манере. Поэтика экспрессионизма выражала ужас и смятение, вызванные пережитой социальной катастрофой - первой мировой войной, всемирно-историческим кризисом: «Профессор с пошаткой бежал, волоча за собою Мордана...» [126, с. 334]; «... в беге Мордан забегал и заглядывал в глаза; спотыкаясь о тумбы, через них пересигивал он не по-дедински...» [126, с. 344]. « Вылизнула из гостиной» [126, с. 449].
Для выражения экспрессии Белый использует неологизмы -отглагольные существительные со значением энергичного, стремительного действия: «вкрап», «сап», «сип», «вгнетка», «переюрк», «вверт», «сверт», «скок», «выюрк», «слом», «рыв», «бод», «стиск», «слом» и «сдвиг». «Голова закружилась: и чувствовал - вкрап в подсознании. Вина? Или взгляда Манд-ро?» [126, с. 102]. «Вкрап» - мгновенное, точечное проникновение в сферу душевной жизни за «порогом сознания», прозрение. Митя признается Лиза-ше, что подделал подпись отца, юноше стыдно «за свое окаянство». «Это вверт в ее жизнь; это вгнетка в нее; ей казалось, что дней доцветенье приходит» [126, с. 283]. «Вверт», «вгнетка» - вербальное обозначение неожиданно 331 го, мгновенного вторжения в безмятежную жизнь Лизаши трагических для нее обстоятельств (скандала в Свободной Эстетике, отставки отца, гнетущей обстановки дома).
В «Масках» постоянно встречается отглагольное существительное «рыв». Оно емко характеризует бешеный, прерывистый ритм жизни героев. Повторяясь в разных эпизодах, неологизм «рыв» получает символическое значение всеобщего, тотального рывка, который совершают персонажи, смятенное человечество и планетные тела, в том числе Земля. «Рыв» делает и вселенная: «... вот к ближайшему столику Элеонору Леоновну рывом ведет офицер; и навстречу им рывом встает сухощавая барышня ...» [126, с. 394]; «И рывами с барышней: в дверь» [126, с. 484]; «... за руку взяв старика одноглазого, в вывизги рыва планеты, под колесом Зодиака по жизни вести...» [126, с. 671]; «... шаг - / смерти - / в давно несметенные листья, / в давно безглагольное сердце: под вывизги рыва планеты швыряемой» [126, с. 389].
Гротескная мимика персонажей, выражающая вспышки злобы, ненависти, ярости, превращается в страшную застывшую маску, имеющую символическое значение угрозы, кары, возмездия: «... грозно откинутый лоб расходился, копаяся, точно червями, морщинами...» [126, с. 341]; «... и две морщины, скрестяся, с чела, как мечи, поднялись и чернели висящей угрозой, измеривая, какою мерою мерить» [126, с. 624].
Экспрессивная, гротескная мимика, повторяясь, указывает в «Масках» на символическое тождество разных персонажей, например, лорда Ровоама Абрагама и Терентия Тителева. Сближает их то, что каждый из них хочет завладеть открытием Коробкина и получить власть над миром: «... в лоб же морщина влепилась, вцепяся, как хвост скорпиона» [126, с. 676]. «И, как хвост скорпиона, расщербом морщина прожалила лорду базальтовый лоб: и прожалился лоб расколовшийся Тителева...» [126, с. 548].
В «Москве» многократно встречаются гротескные, экспрессионистические, мимические образы, например, «осклабленный рот» или «рассклаблен-ный рот», символизирующий фальшь, притворство, злобу, скрытую агрес 332 сивность, выражает негативное отношение автора к Мандро и быту семьи Коробкина. «Эдуард Эдуардович осклабился: остановился, косяся и щурясь на гениев вкуса...» [126, с. 202]; «... бюстик Лейбница явно доказывал: мир -наилучший; на спинках рукой столяра были вырезаны головки осклабленных фавнов, держащих зубами аканфы» [121, с. 21].
Деталь интерьера полна экспрессии: фавны зло издеваются над тезисом Лейбница, последователем которого был Коробкин. Пройдет немного времени, и это кресло станет орудием пыток, которым будет подвергнут профессор. Осклабленные рты резных фигурок - символическое предвосхищение трагических событий в судьбе Коробкина и в исторических судьбах России.
Этот экспрессионистический мимический образ, получающий символическую семантику, генетически связан с «Петербургом». Но в «Москве» образ «осклабленный рот» постепенно переосмысляется. «...Эдуард Эдуардович нежно осклабился, будто не цапал линейкой его...» [126, с. 120]; «... и делался образ его в ней какой-то - не тот: дикозверский, осклабленный, странно пленительный...» [126, с. 177]. У Мандро рот «рассклаблен» в притворной улыбке, как у огромных каменных изваяний на острове Пасхи, кровожадных двойников «маркиза де Сада и Калиостро XX века» [126, с. 761] и обозначающих первобытное варварства, разгул жестокости. «... - вода с очертанием острова Пасхи, быть может, с изваянным изображением урода гигантских размеров, рассклабленного в пустоту с двумя баками: верно, остаток культур допотопных, погибших некогда здесь...» [126, с. 305].