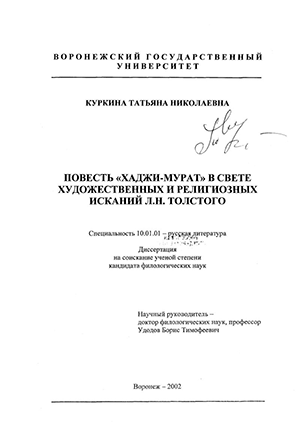Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Историософский контекст повести Л.Н. Толстого «Хаджи- Мурат»
Глава 2 Поэтика произведений Л.Н. Толстого кавказского цикла («Набег» - «Рубка леса» - «Хаджи-Мурат»)
1. Сюжетосторение 81
2. Природоописания 104
Глава 3 Образ Хаджи-Мурата и авторское отношение к герою 128
Заключение
Примечания и ссылки
Список литературы
Сюжетосторение
Историософский аспект повести «Хаджи-Мурат» имеет итоговый характер прежде всего с точки зрения осмысления Толстым войны как истори-ко-социального явления. Процесс художественного и философского исследования Толстым событий на Кавказе был трудным, напряженным и поэтапным.
В первом рассказе кавказского цикла, в «Набеге», молодой художник, сам участник военных действий, впервые вглядываясь в картины войны, обнаруживает много противоречивого. Он ясно осознает, что война по сути есть отрицание самих основ бытия, но, воспитанный на традициях государственного патриотизма и убежденный историей всех времен и народов, которая полна войн, он стремится в этом «общем бедствии» увидеть историческую целесообразность, продиктованную чувством самосохранения или необходимостью всемирного прогресса. Отсюда двойственность поэтики рассказа, которая просматривается на всех уровнях его художественной структуры и прежде всего на системно-образном.
В рассказе Толстого русская армия представлена как целостный организм, живущий единой жизнью. Солдатская среда выполняет здесь роль некого положительного фона. Волонтёр-рассказчик замечает: "Солдаты так хорошо знали и делали своё дело, что нечего было приказывать им" (II, 29). Основное внимание художник уделяет исследованию мотивов поведения и психологии офицерского корпуса армии, создавая при этом различные литературные типы воинов. Однако, характеры героев выстроены в «Набеге» несколько схематично и отношение к ним автора легко прочитывается. Одно-акцентно изображены здесь позерство Розенкранца, наивный романтизм Аланина, положительная степенность Хлопова. Одной из главных художнических задач Толстого в этом первом его рассказе на военную тематику является стремление осознать специфику храбрости русского офицерства. Рассказчик, сравнивая храбрость капитана Хлопова с храбростью французских героев, отмечает несоответствие между внешним и внутреннем в фигуре русского офицера. С виду в нем было «очень мало воинственного», он не умел и не считал нужным в решающие минуты, подобно французских рыцарям, говорить красивые и громкие слова, но он был «истинно храбр». Это открытие «необыкновенно поразило» волонтера, который не ожидал увидеть «столько истины и простоты» в таком неприметном на первый взгляд человеке. Капитан Хлопов свою службу осознает как долг не только перед Родиной, но и перед Богом. В наиболее опасный момент похода рассказчик замечает, что «капитан снял шапку и набожно перекрестился» (11,29).
Вместе с тем в рассказе «Набег» присутствует элемент противоречивости в авторской оценке армии вообще, и русской в частности. Интересны в этом плане наблюдения Г.Я. Галаган над образами-символами - "черная стена, черная мрачная масса, пятна", которые рассказчик использует в "Набеге" при обозначении движущегося в ночи "военного отряда, т.е. человеческого единения, потенциально содержащего в себе начало разрушения" [1].
Наряду с этим в «Набеге» уже в полной мере проявился антропоцентризм толстовского подхода к исследованию войны как социального явления. О своем главном творческом стимуле во время работы над рассказом художник писал: «Меня занимал только вопрос: под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности, а, что еще удивительнее, убивать себе подобных?» (3,288). Нравственно-психологическая глубина в постановке вопроса, скрупулезный анализ изображаемой действительности позволяют писателю выйти в решении обозначенных проблем далеко за пределы «сюжета» войны. Толстой дает почувствовать читателю «несводимость мира» между людьми лишь к устранению состояния войны» [2].
В то же время желаемой четкости ни в отношении к войне, ни к нормам поведения людей на войне Толстой в рассказе не достигает. Заложенное в произведении осуждение действий русской армии на Кавказе, начиная с названия «Набег»[3] и выбора основного сюжетного события — разорение мирного аула, к концу повествования во многом сглаживается. Вырисовывается следующая логика: войну вообще Толстой осуждает, а конкретную войну на Кавказе при всей критике все-таки считает исторически оправданной. Это находит подтверждение и в жизненном поведении самого Толстого, который был очень ответственным человеком и не стал бы принимать участие в кавказской войне, если бы был полностью убежден, что это война несправедливая.
Правда, в черновых редакциях к рассказу «Набег», когда писатель рассматривает войну на примере поведения частных лиц: горца, у которого разоряют жилище, и русского офицера, который мечтает о новом чине, то авторское сочувствие оказывается не «на нашей стороне».
Но комплекс этих рассуждений не был включен в окончательный текст рассказа. Художественный анализ психологии поведения на войне частных лиц оказался в результате авторских идеологических установок урезанным. Однако саму постановку в рассказе проблем войны и мира в свете вечных истин бытия правомерно рассматривать как начало вхождения «в сферу толстовского внимания добродетелей христианских» [5].
Следующий этап осмысления Толстым кавказской войны нашел отражение в рассказе «Рубка леса». Он был написан художником в период болезненных переживаний за судьбу России под впечатлением Крымской кампании 1853-55 гг., складывающейся крайне неблагоприятно для русской армии. Начат он был еще на Кавказе, но основная и заключительная работа над ним развернулась во время героической обороны Севастополя, когда художник находился среди защитников города на самом опасном - четвертом — бастионе. Толстой испытывает здесь острое чувство единения с русскими солдатами, восхищается их стойкостью и мужеством, видя, как они без фразерства и всякой экзальтации совершают настоящие чудеса героизма. В письме к брату из Севастополя он напишет: «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. ... Чудное время! ... я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время» (59,281-282).
Природоописания
И.А. Ильин утверждает, что "инстинктивная страсть должна креститься огнем духа". Правда, тут же философ замечает: "Конечно, надо признать, что патриотизм слепого инстинкта лучше, чем отсутствие какой бы то ни было любви к родине; и возражать против этого могли бы только фанатики интернационализма" [40].
Однако И.А. Ильин с горечью пишет: "В современном мире есть множество таких несчастных безродных людей, которые не могут любить свою родину потому, что инстинкт их живет лично-эгоистическим или эгоистически-классовым интересом, а духовного органа они лишены. И вот идея родины ничего не говорит их душе. Идея родины предполагает в человеке живое начало духовности. Родина есть нечто от духа и для духа, а в них духа нет: он или безмолствует, или мертв. То, во что они верят, - есть материя, тогда как начало духа отринуто или поругано; или: то, чего они хотят, - есть новое распределение материальных благ, а все духовное им безразлично или враждебно".
И далее философ поясняет: "Ничто, взятое само по себе, в отрыве от духа, - ни территория, ни климат, ни географическая обстановка, ни пространственное рядом жительство людей, ни расовое происхождение, ни привычный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык, ни формальное подданство -ничто не составляет Родину, не заменяет ее и не любится патриотической любовью. ... Есть люди, никогда не бывавшие в России и еле говорящие по-русски, но сердцем поющие, и трепещущие вместе с Россией; и обратно: есть люди, русские по крови, происхождению, местопребыванию, быту, языку и государственной принадлежности - и предающие Россию, ее судьбу, ее жилище, ее тело, ее колыбель и ее самое во славу материализма и интернационализма» [41]. Подводя итог своим рассуждениям, И.А. Ильин формулирует -"родина есть духовная реальность" [42], она "есть духовная жизнь моего народа; в то же время она есть совокупность творческих созданий этой жизни; и, наконец, она объемлет и все необходимые условия этой жизни и культурные, и политические, и материальные (и хозяйство, и территорию, и природу). То, что любит настоящий патриот, есть не просто самый "народ" его; но именно народ, ведущий духовную жизнь..." [43].
Философ считает, что "ныне пришло время, когда человечество особенно нуждается в духовно-осмысленном и христиански-облагороженном патриотизме, который совмещал бы страстную любовь и жертвенность с мудрым трезвлением и чувством меры, - ибо только такой патриотизм сумеет разрешить целый ряд ответственных проблем, стоящих перед современным человечеством..." [44].
В понятии "национализм" философы русского зарубежья иногда отмечали "одиозный смысл", связанный с одной из современных форм человеконенавистнической идеологии [45]. Часто понятие "национализма" употреблялось ими в качестве синонима понятию "национальность". Нация в системе христианского миропонимания - это своеобразное "общественное целое", "люди, входящие в него, служат целому как органы его" [46]. Например, Л.П. Карсавину такого рода существо представлялось некой "постоянной социальной личностью" или "симфонической личностью", которая обладает определенным набором черт [47]. Национализм, с точки зрения христианской философии, это "индивидуальность целого народа и творческая любовь к этой индивидуальности" [48]. Всякая индивидуальность как личная, так и народная есть дар Божий, который необходимо развивать и которому необходимо служить, так как через него раскрывается полнота сотворенного мира, его многообразие, неисчерпаемое богатство и красота. "Истинный национализм не противоречит вселенскости. Наоборот, путь к вселенскому лежит только через национальное" [49]. В данном случае многие пользуются еще термином "сверхнационализм".
Что касается денационализации, т.е. потери целым народом своего лика, то это явление русские религиозные мыслители оценивали резко отрицательно. Они полагали, что подобные процессы разрушают одну из ступеней земного бытия и тем самым обесцвечивают, обедняют и истощают внутреннюю энергию человечества. С другой стороны, "ветхозаветный", "охранительный", "отщепенский", "ложный", "звериный" национализм рассматривался ими как опасная болезнь "народного организма". С тридцатых годов, после прихода в Германии к власти Гитлера, крайние формы национализма стали именовать "нацизмом" и "фашизмом".
Н.А. Бердяев предостерегал от соблазна приписывать национализму универсальное значение, подменяя его мессианизмом. В его книге "Судьба России" можно прочесть: "Национализм утверждает духовно-биологическую основу индивидуально-исторического бытия народов, вне которой невозможно выполнение никаких миссий. Народ должен быть, должен хранить свой образ, должен развивать свою энергию, должен иметь возможность творить свои ценности. Но самый чистый, самый положительный национализм не есть еще мессианизм. Мессианская идея - вселенская идея. Она определяется силой жертвенного духа народа, его исключительной вдохновленностью царством не от мира сего, она не может притязать на внешнюю власть над миром и не может претендовать на то, чтобы даровать народу земное блаженство" [50].
Философы русской религиозной школы полагали, что христианство принципиальным образом решает этнические проблемы. С точки зрения евангельского учения нет и не может быть этнической вражды, пред самыми последними вопросами мироздания нет "ни эллина, ни иудея". Христианство вносит в историю мирового процесса новый критерий оценки бытия народа -святость. Общепризнанно, что силой проникновения и глубиной познания себя, родины, Бога Толстой особо выделяется в ряду русских гениев. Недаром С.Н. Булгаков, достаточно критично воспринимавший мировоззрение позднего Толстого, тем не менее считал его воплощением и «природной», и «народной», и «христианской» «стихии русской души» [51]. В повести «Хаджи-Мурат» поздний Толстой дает свое новое понимание сопряжения национального, общечеловеческого и божественного.
Любовь к родной природе, инстинктивное чувство, в разной степени присущее каждому внутренне не изуродованному человеку и в разной мере каждым осознаваемое, всегда изображалось Толстым как естественное состояние души его героев. Также оно оценивается автором и в «Хаджи-Мурате». Прощаясь с четой Петровых, Хаджи-Мурат, желая отблагодарить их за гостеприимство, Марье Дмитриевне дарит бурку, а Ивану Матвеевичу шашку. Растерявшийся и растроганный хозяин захотел отдать ему своего бурого мерина, но «Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу» (XIY,112). [52] Использованный здесь художником прием бессловесных отношений как нельзя лучше передает бескорыстие души Хаджи-Мурата и его нерасторжимую, интимно сакральную связь с природой родного края, которая является составной частью его глубинного чувства родины. Сама по себе любовь к родной земле всегда облагораживает и возвышает человека, она не может стимулировать вражду и ненависть между людьми и народами, но эти патриотические переживания часто используют «сильные мира сего», чтобы разжечь пожар войны. Толстой в повести эту грань любви Хаджи-Мурата к родине полностью выносит за скобки военного конфликта и представляет читателю ее в первозданном виде, очищенной от всяких идеологических наслоений.
Образ Хаджи-Мурата и авторское отношение к герою
Л.Н. Морозко в работе о творчестве Л.Н. Толстого 1900-х гг. пишет: «Хаджи-Мурат погибает, но остается несломленным. Татарник, измятый и изуродованный, все-таки живет на перепаханном поле. Величественная и гордая смерть не конец, а часть течения бесконечного потока жизни, вбирающего в себя и судьбы людей, и дыхание самой природы» [11]. А.П. Беде-нок, анализируя портретные характеристики главного героя, также приходит к однозначному выводу: «отношение самого художника к Хаджи-Мурату в общем - положительное» [12].
Таким образом, гибель Хаджи-Мурата все исследователи повести правомерно рассматривают как ключевой момент авторского замысла, связанного с образом главного героя, и в то же время как «идейное ядро всего произведения» [13]. Комментируя толстовское отношение к герою, и особенно смысловое звучание заключительного сюжетно-композиционного узла произведения, ученые с поразительным единодушием утверждают, что здесь якобы в наибольшей степени обнаружил себя вышедший из-под контроля Толстого-моралиста «мощный всплеск художественной энергии» Толстого-писателя [14]. Будто бы художник наперекор себе как христианскому проповеднику создает величественную картину героической борьбы Хаджи-Мурата за самосохранение, любуясь силой его сопротивления, беспримерным мужеством и возмущаясь деспотизмом двух государственных систем, вражда между которыми привела к гибели «естественного» и цельного человека. При этом ряд исследователей признают двойственность авторского отношения к главному герою, но последние сцены повести, однозначно прочитываемые как апофеоз героического в Хаджи-Мурате, заставляют ученых сглаживать сложность авторской оценки героя.
Религиозный же подтекст гибели Хаджи-Мурата исследователями до сих пор не вскрыт, заключительные главы повести остаются во многом не 133 прочитанными и неразгаданными, их значение в целостной художественно-философской концепции произведения, по сути, еще не определено.
Пытаясь разгадать «тайнопись» художника, повествующего о трагедии главного героя, прежде всего следует обратить внимание на сюжетно-композиционное своеобразие последних четырех глав произведения. Кульминационное событие в жизни Хаджи-Мурата - его побег из добровольного плена и последовавшая вслед за этим трагическая развязка - объединены автором в одну заключительную XXY главу и выделены приемом инверсии. Эта предельная близость двух компонентов сюжета дает повод некоторым исследователям смерть Хаджи-Мурата считать не развязкой, а кульминацией повести [15].
Думается, больше правы те исследователи, которые ситуацию смерти Хаджи-Мурата рассматривают как развязку сюжета; по крайней мере, это более соответствует классическим канонам подлинно трагического произведения.
Ф.И. Евнин в своем детальном анализе финала повести вполне логично к кульминации повести относит и ХХИ-ХХШ главы, в которых раскрывается мучительный процесс принятия Хаджи-Муратом решения действовать во имя спасения семьи [16]. Правда, с исследовательской точки зрения целесообразней не смешивать, а выделять два плана изображения героя - внутренний и внешний. Тем более, что Толстой стремится четко прописать два сюжета - сюжет переживаний и сюжет событий. XXII - XXIII главы можно считать внутренней кульминацией в судьбе Хаджи-Мурата.
В целом нельзя не согласиться с Ф.И. Евниным , что до этих глав художник изображал Хаджи-Мурата «почти исключительно «со стороны» .. . затрагивал душевный мир героя лишь редко, бегло и по частным поводам (мстительные, честолюбивые помыслы в ночь перед выходом к русским — гл-IY; опасения и надежды во время пребывания у Воронцова-сына и у Мел-лера-Закомельского - ni.YI)» [17]. Правда, последнее замечание исследова 134 теля относительно того, что писатель приоткрывает внутренний мир героя «по частным поводам», вряд ли справедливо [18]. В начале повести честолюбивые мечты и планы героя были для него главными ценностями жизни, на этом и акцентирует внимание читателя художник, вводя в текст внутренние монологи героя.
К выводам И.Ф. Евнина необходимо добавить, что, полностью не раскрывая до последних глав внутренней работы души Хаджи-Мурата, писатель постоянно указывает на нее языком подтекста, используя внешние формы проявления. Например: Воронцов-младший «протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату» и «Хаджи-Мурат, взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее...» (XIY,46-47); или поведение героя после просьбы Лорис-Меликова рассказать историю его жизни: «... Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так: потом взял палочку ... , достал ... булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать» (XIY,69). Выделенные словосочетания свидетельствуют о сложном психическом процессе, протекающем в душе героя.
К тому же с самого начала повести Толстой подчеркивает напряженность внутренней духовной работы Хаджи-Мурата: то, он «внимательно слушал и одобрительно кивал головой» (XIY,27); то «лицо его изменилось и выступило выражение озабоченности» (XIY,49); а иногда автор прямо замечает: «Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям» (XIY,46); «он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего» (XIY,67); Хаджи-Мурат «облокотил руки и, опустив голову, задумался» (XIY,41); «Хаджи-Мурат задумался» (XIY,65); наконец, автор неоднократно повествует о серьезном отношении Хаджи-Мурата к обряду молитвы, подчеркивая его особую религиозность.