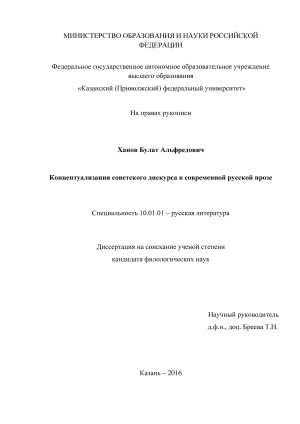Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Своеобразие функционирования советского дискурса в современной русской прозе 20
1.1. Структура и функциональные особенности советского дискурса в отечественной прозе 1990 – 2010-х годов 20
1.2. Художественная репрезентация стратегий отыгрывания/проработки советского травматического опыта в современной русской прозе 34
Глава 2. Советский дискурс в структуре национального воображаемого 59
2.1. Советский дискурс как часть национального мифа в романах В. Шарова 70
2.2. Конструирование национального воображаемого в романе М. Елизарова «Библиотекарь» 95
Глава 3. Имперское воображаемое как смысловая доминанта советского дискурса 110
3.1. Рецепция имперского воображаемого в романе В. Аксенова «Москва Ква Ква» 120
3.2. Моделирование имперского мифа в романе А. Терехова «Каменный мост» 135
Глава IV. Советский дискурс как культурное воображаемое в современной русской прозе 150
4.1. Взаимодействие жанровых стратегий в романе М. Елизарова «Мультики» 157
4.2. Рецепция советского культурного кода в романе З. Прилепина «Обитель» 172
Заключение 191
Библиографический список 197
- Художественная репрезентация стратегий отыгрывания/проработки советского травматического опыта в современной русской прозе
- Конструирование национального воображаемого в романе М. Елизарова «Библиотекарь»
- Моделирование имперского мифа в романе А. Терехова «Каменный мост»
- Рецепция советского культурного кода в романе З. Прилепина «Обитель»
Введение к работе
Актуальность работы. Всестороннее изучение советского опыта на протяжении последних двух с половиной десятилетий продолжает оставаться одним из приоритетных направлений отечественной гуманитарной мысли, становясь предметом исследования историков (О.А. Игнатова, В.И. Батюка, С.И. Никонова, Н.Б. Арнаутов), культурологов (М.Н. Гребенюк, Т.А. Круглова, Л.А. Булавка, О.В. Лихонина), литературоведов (Н.А. Полякова, А.Ю. Исаковская, Н.П. Беневоленская, Н.Г. Ипатова), языковедов (Г.Ч. Гусейнов, А.П. Романенко, Т.А. Кутенева, В.И. Протуренко), правоведов (А.В. Лысенков, И.А. Анучин, О.Н. Старикова, А.И. Игошин), журналистов (И.Н. Агейкина, Е.Н. Басовская, Н.С. Заковырина), специалистов по социальной философии (Н.С. Смолина, Д.Б. Резинко, Н.О. Архангельская). Это вызвано целым рядом социополитических и социокультурных причин, связанных между собой. В социополитической сфере мотивацией для обращения к советской эпохе служит регулярно меняющаяся оценка практической значимости и эффективности тех или иных советских социальных институтов по сравнению с их постсоветскими эквивалентами.
Актуальность социокультурных исследований по советской тематике обусловлена стремлением прояснить, какое место занимает советская эпоха в формировании национальной идентичности. В частности, на фоне восприятия Советского Союза как имперского образования усиливается поиск имперских черт в России третьего тысячелетия.
Несмотря на множественность исторических и историографических исследований в настоящее время активизируется именно социокультурный подход к осмыслению феномена советского. Можно предположить, что такая динамика продиктована по крайней мере двумя причинами. Во-первых, в научной парадигме наблюдается смещение ракурса от макроистории к микроистории и, следовательно, к осмыслению феномена повседневности в частной жизни людей. Во-вторых, с увеличением временной дистанции также уменьшается идеологическая ангажированность советского прошлого.
Феномен советского выступает предметом различных сфер социально-гуманитарного знания. С некоторой долей условности можно выделить пять направлений его изучения. Первое направление исследует феномен советского в рамках
собственно культурологического подхода (М.Н. Гребенюк, Т.А. Круглова, Л.А. Булавка, Н.Е. Киселева, Е.А. Смыкова, М.Ф. Николаева и т.д.). В рамках второго направления рассматриваются особенности повседневного функционирования феномена советского в различных сферах: семейно-бытовой, образовательной, промышленной, спортивной и др. (Д.М. Раева, С.И. Толстой, А.И. Назаров, М.А. Денисова, А.Е. Звонарева, С.Н. Шаповалов и т.д.). Третье направление отличает изучение механизмов советской пропаганды, а также средств порождения советских идеологем и особенностей их функционирования (Г.Ч. Гусейнов, Д.Б. Резинко, Т.В. Шкайдерова, Т.А. Кутенева, Н.Б. Арнаутов, И.Н. Агейкина, Е.Д., С.В. Еремин и т.д.). В отличие от идеологемного, лингвистическое направление ориентируется не на выявление идеологических объяснений нормативных особенностей советского языка, а на поиск и описание этих самых норм (Н.А. Купина, В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, А.П. Романенко, О.П. Семенец, Л.А. Кранышева и т.д.).
Степень изученности. В рамках литературоведческого подхода материалом исследования становятся как произведения советских писателей, так и современных авторов, в чьих текстах большое место занимает советская тематика. В первое постсоветское десятилетие литературоведение главным образом занимается ревизией соцреалистических текстов и переосмыслением соцреалистического канона. В качестве примеров можно привести многочисленные труды Е. Добренко, работы Х. Гюнтера, Б. Розенталя, Г. Карлтона, М.Р. Балиной, И.А. Есаулова, Г.А. Белой, Т. Лахусена, А. Крыловой, К. Кларк и т.д.
В нулевые годы основное внимание сосредоточено на постмодернистской рецепции феномена советскости. Как правило, объектом исследования оказывается советский миф в его функциональном значении и способы деконструкции соцреалистического канона в творчестве тех или иных авторов (К.С. Поздняков, М.В. Репина, Д.Н. Зарубина, И.Ю. Погорелова, Н.П. Беневоленская, Н.А. Полякова и т.д.).
В последние годы намечается осмысление феномена советского в современной литературе, не относящейся к постмодернизму. Как следствие этого, предметом исследования перестают быть исключительно способы деконструкции советского мифа, исчезает сосредоточенность на политическом посыле текстов о советской эпохе. Внимание литературоведов сосредоточивается на поиске внутренней логики советского
дискурса, его социокультурных предпосылок, из которых складываются формы бытования советского дискурса в советской литературе.
Рецепция советского прошлого в литературе последних десятилетий представлена в работах М.А. Литовской, М.А. Черняк, Н.В. Барковской, Я.А. Полищука, И.И. Плехановой и др. В трудах этих исследователей прослеживается тенденция к обозначению преемственности между советской и современной литературой, выражающейся в осмыслении зависимости современных писателей от советской ментальности, усвоенной через многочисленные каналы, и в изучении дискурсивных практик, посредством которых она репрезентируется в художественном творчестве.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
предпринимается попытка осмысления советского дискурса и способов его концептуализации в постсоветской отечественной прозе 1990-х – начала 2010-х годов в виде целостной системы, общие закономерности которой синхронно складываются в творчестве различных писателей на рубеже веков.
Различение таких понятий, как «советский дискурс» и «советский миф», обусловливает определение хронологических рамок исследуемого явления и выбор художественного материала.
Материал исследования составляют романы В. Шарова «Репетиции» (1992), «До и во время» (1993), «Мне ли не пожалеть» (1995), «Старая девочка» (1998) и «Будьте как дети» (2008), В. Аксенова «Москва Ква Ква» (2006), А. Тургенева «Спать и верить. Блокадный роман» (2007), М. Елизарова «Библиотекарь» (2007), «Мультики» (2010), А. Терехова «Каменный мост» (2009), З. Прилепина «Обитель» (2014) и повесть К. Букши «Аленка-партизанка» (2002).
Критерием отбора текстов послужило то обстоятельство, что в них феномен
советского представлен как дискурсивная практика. Выбранные тексты объединяет то,
что они не столько выступают проводниками эволюционирующих социальных
стратегий, сколько концептуализируют советский дискурс, определяя его
функциональные особенности и задавая его толкование как целостной и организованной системы.
Объектом исследования является феномен советскости в постсоветской литературе.
Предметом исследования выступает советское как одна из наиболее значимых дискурсивных практик, существующих в современной отечественной прозе.
Цель диссертационного исследования заключается в рассмотрении специфики концептуализации советского дискурса в отечественной прозе 1990 – 2010-х годов.
Цель исследования обусловливает постановку ряда задач:
1. Выявить отличительные особенности советского дискурса на фоне смежных
дискурсов;
-
Определить закономерности преодоления советского травматического опыта на персонажно-образном и авторском уровнях в постсоветской отечественной прозе;
-
Исследовать структуру и механизмы конструирования модели национального воображаемого в творчестве В. Шарова 1990 – 2000-х годов и в романе М. Елизарова «Библиотекарь»;
-
Исследовать структуру и механизмы конструирования модели имперского воображаемого в романах В. Аксенова «Москва Ква Ква» (2006) и А. Терехова «Каменный мост» (2009);
-
Исследовать структуру и механизмы конструирования модели культурного воображаемого в романах М. Елизарова «Мультики» (2010) и З. Прилепина «Обитель» (2014).
Методологическую основу работы составляет комплекс исследований, которые можно объединить в несколько основных групп. Первая из них связана с работами, посвященными изучению феномена советскости в постсоветской действительности (Н.С. Смолина, С.А. Ушакин, Е.Н. Шапинская, М.В. Хубутия). Вторую группу представляют труды, предметом анализа в которых становятся механизмы функционирования индивидуальной и коллективной памяти, а также травматического дискурса (М. Хальбвакс, П. Рикер, Д. ЛаКапра, А.Г. Васильев, О.Б. Леонтьева, Т.Н. Золотова). В связи с многочисленными пересечениями советского дискурса с национальным актуальными для нас являются исследования, рассматривающие генезис, структуру и специфику функционирования национального мифа (Т.Н. Бреева, Б.А. Успенский, О.В. Рябов, В.П. Шестаков, Н.Г. Митина).
Кроме того, важную роль при изучении советского дискурса в отечественной прозе 1990 – 2010-х гг. играют отечественные (Е. Добренко, М.А. Литовская, Б.Е. Гройс)
и зарубежные (Х. Гюнтер, К. Кларк, Б. Розенталь, Т. Лахусен) труды по соцреалистическому канону.
Методами диссертационного исследования являются культурно-исторический, структурно-семантический метод, а также нарративный анализ, дискурс-анализ и концепт-анализ.
Понятийный аппарат. Понятие дискурса является одним из самых распространённых в постнеклассической науке. В разные годы теорию дискурса разрабатывали Э. Бенвенист, М. Фуко, З. Харрис, Ю. Хабермас, Т. ван Дейк, М. Пеше, Э. Бьюиссан, С. Миллс, В.Г. Борботько, Н.Д. Арутюнова и т.д. Понятие дискурса чрезвычайно вариативно, и эта вариативность отражена в работах Е.С. Кубряковой и О.В. Александровой, Ю.В. Руднева, Е.В. Темновой и др.
Вслед за Е.Н. Шапинской, мы понимаем дискурс как «социально локализованный способ придания смысла определенной области социального опыта». По мнению исследователя, «дискурс всегда продуцируется и реализуется в двух основных формах: нарратива и аргументации, которые присутствуют в той или иной форме в различных дискурсивных практиках. Материальным воплощением дискурса является текст, артефакт, который доступен для изучения, анализа, интерпретации, репликации и тому подобных операций» 1.
Природа советского дискурса обусловливает необходимость актуализации таких понятий, как «идеологема» и «мифологема», которые становятся предметом анализа в трудах И.Т. Вепревой и Т.А. Шадриной, Е.Г. Малышевой, В.А. Рыжовой. Исследователи отмечают, что идеологема являет собой многоуровневый концепт. В структуре этого концепта реализуются идеологизированные стереотипные и мифологизированные представления, отражающие субъективные представления различных группы людей о власти, государстве, нации. Из набора этих представлений конструируется определённый образ реальности.
С идеологемой тесную связь образует мифологема. В ней зафиксировано устойчивое состояние обыденного сознания. Мифологема задаёт описание, истолкование и обоснование существующего порядка вещей в мифологизированном обществе. И в идеологеме, и в мифологеме ярко выражен аксиологический компонент.
1 Шапинская, Е.Н. Дискурсивный подход // Вопросы социальной теории. 2008. Т. 2. Вып. 1(2). С. 424.
Идеологемы, отражающие интересы определённого круга людей, опираются на национальные мифологемы. Если мифологемы заполняют собой пространство мифа, то в идеологеме на передний план выдвигается директивная установка.
Значимой для нашего исследования выступает категория воображаемого, разработанная в трудах Л. Вульфа, Т.Н. Бреевой и др. Воображаемое позволяет рассмотреть пути концептуализации в литературе социокультурных установок, распространенных в общественно-политическом поле, и способы преломления в авторском сознании коллективных представлений.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Существенными особенностями советского дискурса в современной
отечественной прозе выступают деисторизация и генерализация. Деисторизация
свидетельствует о нелинейном и вневременном характере советского дискурса, в то
время как генерализация закрепляет его внутреннюю однородность и обеспечивает
подчинение всех частных составляющих общему смысловому ядру. Этим
обусловливается взаимосоотнесенность мифологем и идеологем, отличающих советский
дискурс.
-
Советский дискурс в современной отечественной прозе характеризуется особой структурой, продиктованной логикой переживания травматического опыта. В условиях этой структуры задействуются механизмы отыгрывания и проработки. Отыгрывание, реализуемое на персонажно-образном уровне, отличается стремлением к повторению травматического опыта, при этом советский и тоталитарный дискурсы отождествляются. Проработка, конструируемая на индивидуально-авторском уровне, заключается в дистанцировании от травматического опыта через актуализацию исторического нарратива, подчеркнуто фикционального по своей природе. Результатом такого дистанцирования оказывается иронически-отстраненное отношение к феномену советского, порождающее игровую природу советского дискурса, которая редуцирует идеологическую составляющую и сводит на нет демифологизирующую функцию.
-
Советский дискурс в современной отечественной прозе концептуализируется в рамках национального, имперского и культурного воображаемого. В каждой из этих трех форм находят отражение утопические интенции, обеспечивающие однородность советского дискурса.
4. Советское как национальное воображаемое в отечественной прозе
характеризуется редуцированием дихотомии «национальное – советское».
Реструктуризация национального мифа происходит в пределах советского дискурса
путем переосмысления национальных мифологем через советские идеологемы.
Национальный миф трансформируется на уровне гендерных репрезентаций: феминность
образа России уступает место патриархальности. Дискредитация мессианского
нарратива с его эсхатологическими и утопическими интенциями определяет изменение
представлений о провиденциальной роли России. Присвоение исторической памяти на
нарративном уровне позволяет советскому дискурсу стать частью национальной
модели.
5. Включение советского дискурса в контекст имперского воображаемого
обусловлено постижением сущности первого. В отечественной прозе имперское
воображаемое либо демифологизирует, либо ремифологизирует советский дискурс.
Процесс демифологизации, аннигилируя имперские интенции, обнажает
фикциональную природу советского дискурса. Ремифологизация, реконструируя
имперское начало, на основе пассионарности советского дискурса, задает ему
трансцендентное, надысторическое значение. Концентрированным выражением сути
имперскости оказывается образ Сталина, чей образ в сюжетных построениях
иллюстрирует расцвет и угасание империи.
6. Восприятие советского как культурного воображаемого достигается через
жанровое взаимодействие соцреалистических и постсоцреалистических жанров.
Формализация и стереотипизация последних ведет, с одной стороны, к ликвидации
заложенных в них смыслов, а с другой стороны, к экспрессивному воспроизведению
советских жанровых стратегий вместе с их интенциональными установками. В
результате актуализации советских жанров, наделенных смыслоразличительной
функцией, создаются предпосылки для реабилитации советского дискурса.
Теоретическая значимость работы определяется расширением поля изучения
феномена советскости в современной русской прозе, а также исследований,
затрагивающих реализацию различных дискурсивных практик в творчестве
современных отечественных писателей. Помимо этого углубляются проблемные поля,
связанные с исследованиями, посвященными творчеству В. Шарова, В. Аксенова, А.
Терехова, М. Елизарова, З. Прилепина, А. Тургенева, К. Букши.
Практическая значимость. Основные материалы исследования, полученные при рассмотрении специфики функционирования и концептуализации советского дискурса в отечественной прозе 1990 – 2010-х гг., могут быть использованы при изучении литературного процесса конца XX – начала XXI веков и составлении общих историко-литературных курсов по современной русской литературе, при проведении спецкурсов по проблемам дискурсивных практик в современной русской литературе.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования были представлены в виде научных докладов, прочитанных на научных конференциях: международных («XXII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2015”», «V Международная научная конференция “Национальный миф в литературе и культуре: национальное и историческое”», «XXIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2016”», «VI Международная конференция “Синтез документального и художественного в литературе и искусстве”»), всероссийских («ХII Всероссийская научно-практическая конференция “Литературоведение и эстетика в ХХI веке” (“Татьянин день”), посвященная памяти Т.А. Геллер»); изложены в трех статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, и в двух статьях и одних тезисах, посвященных проблемам концептуализации советского дискурса в произведениях современных отечественных писателей.
Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка, включающего 186 наименований художественной и научно-критической литературы.
Художественная репрезентация стратегий отыгрывания/проработки советского травматического опыта в современной русской прозе
Еще до распада Советского Союза наметилась тенденция разделения общества на противников и апологетов Советского Союза, сводящая всю сложность отношений между образами в нарративе коллективной памяти сначала к незамысловатым, политизированным до предела формулам, а затем к феномену, который можно обозначить как «гробницу смысла», какую, по выражению Ж. Деррида, «нельзя даже заставить резонировать» [42 : 171]. Противостояние обеих групп 1 , критиков и защитников советского, малопродуктивное для понимания советского феномена, отражает не объективную реальность, а особые свойства исторической памяти. По словам О.Б. Леонтьевой, «историческая память носит избирательный и творческий характер; формы интерпретации прошлого и смысловые акценты, которые ставятся в историческом повествовании, определяются нормами и ценностями современной культуры» [50 : 6]. Крайними интерпретациями минувшей эпохи, по мнению исследователей, оказываются ее оценки как «потерянного рая» или как «проклятого прошлого». Как будет раскрыто в дальнейшем, противников и апологетов разделяет позиция, отбор аргументов, но объединяет язык дискуссии и общее дискурсивное поле. С годами тенденции мифологизации советскости остаются устойчивыми, однако формы ее культурной репрезентации меняются. Динамика отношения к советскому отразилась в художественной литературе. При рассмотрении советской тематики в прозе 1990-х годов трудно рассуждать о полутонах, потому что решающее место отводится категоричным подходам к советскому. Оно, как правило, вызывает либо отталкивание, либо безусловное приятие в пику постсоветской реальности.
Такие крайности – прямой результат мифологизации ушедшей эпохи, неизбежно влекущей за собой поспешные выводы и категоричные ответы на вопрос «кто виноват?», задаваемый в различных контекстах и теми, кто создает «обосновывающий» нарратив, и теми, кто сокрушается о потерянном рае. Недавнее прошлое, едва утратившее плоть, обволакивается легендами.
Вместе с тем возрастает внимание авторов к конкретным историческим обстоятельствам и повседневным подробностям советской действительности. Доказательством тому служит написание большого количества семейных саг, где частная жизнь пересекается с событиями общегосударственного и общемирового масштабов, а индивидуальная и родовая память вступает в диалог с коллективной. Повышенный интерес к многочисленным деталям присутствует как в условной постмодернистской (В. Аксенов «Московская сага»), так и в условной реалистической прозе (В. Астафьев «Прокляты и убиты»). Объяснение этого феномена может крыться в инерционной зависимости от литературных процессов перестроечных годов, когда возвращается запрещенная литература и снимается негласное табу на изображение повседневности во всех ее проявлениях.
Мифологический подход к советской эпохе оказался созвучен постмодернистским принципам рассмотрения реальности как знаковой системы и обнаружения симулятивной природы этих знаков. Несмотря на серьезные расхождения в поэтике и в социально-политических воззрениях таких авторов, как В. Сорокин, В. Пелевин, Е. Попов, Ю. Мамлеев, С. Гандлевский, А. Пятигорский и т.д., всех их сближает демифологизация советского. Обобщая отношение к советскому в постмодернистской прозе, Н.А. Полякова заключает: «Способы художественного воплощения образа советской культуры в российском постмодернизме разнообразны, но авторов этого направления объединяет неизменное стремление к разоблачению ее симулятивного характера» [135 : 22]. Такой, ограниченный (в самом нейтральном смысле этого слова) подход, связанный в основном со стремлением демистифицировать ушедшую эпоху, формирует особый арсенал приемов ее изображения. Например, анализируя произведения В. Сорокина и В. Пелевина, Н.А. Полякова указывает на то, что, «трансформация соцреалистического дискурса осуществляется посредством следующих приемов: обнажения мифологизма соцреалистического дискурса и реконструкции его главного сюжетного ядра – мифологемы; доведения всех стилевых элементов до гипертрофированных форм; стилистической и сюжетной дискредитации социалистического мирообраза, показывающей абсурдность соцреалистического дискурса» [135 : 20].
С годами советский миф в литературе во многом исчерпывает себя и перестает подпитываться свежим содержанием. В нулевые годы он продолжает развиваться только в постмодернистской прозе (С. Носов «Грачи улетели»), по-прежнему выполняя задачу демифологизации советского. Постмодернистская парадигма перестает восприниматься как единственная и исключительная, а место мифа в качестве предмета писательской рецепции занимает более объемное явление советского дискурса.
Примечательно, что параллельно происходит смещение акцентов при изучении советского опыта и в гуманитарной литературе, отмеченное Н.С. Смолиной, которая выделяет два ряда концепций отношения к советскому – классические и постклассические. В первых отождествляются понятия «советское» и «тоталитарное», что автоматически задает исследованию идеологический ракурс и определенные рамки. По мнению Н.С. Смолиной, «при расширении исследовательского поля до пространства повседневности и ментальности теория тоталитаризма не может дать полного объяснения» [61 : 11].
Конструирование национального воображаемого в романе М. Елизарова «Библиотекарь»
Пересмотр отношений между национальным и советским также намечается в диссидентской литературе, а точнее – в творчестве некоторых писателей третьей волны эмиграции. Несмотря на то, что всех авторов третьей волны объединяла критика советского государства, в творчестве большинства из них нет той идеализации национальных ценностей и воспевания русской народности, каковые присутствуют в прозе «деревенщиков» и А.И. Солженицына. Ослабление поляризации советского и национального происходит во многом в силу многих причин. Неоднократно отмечалось, что диссиденты, выросшие в условиях советских порядков и получившие советское образование, являлись собственно порождением советской системы 1 . В рамках диссидентского движения начинает меняться характер интеллигентского дискурса. Возникает ощущение его исчерпанности, повлекшее за собой и прекращение идеализации концепта народа. Несмотря на то что нравственный императив по-прежнему определяет образ мысли интеллектуалов-диссидентов, одические восхваления в адрес народа уступают место другим обобщенным, если так можно выразиться, ценностям: свободе, справедливости, чести.
Преодоление разрыва между советским и национальным в творчестве эмигрантов можно проследить на примерах из прозы С. Довлатова и В. Аксенова. Рассуждая о первом, В.В. Агеносов, вслед за Н. Выгон, выделяет значимую для С. Довлатова тему маленького человека. В довлатовских произведениях маленький человек, обладающий «библейской эпичностью», помещается в чуждый ему советский контекст [73 : 484]. Так, в рассказе «Номенклатурные полуботинки» герои трудятся на строительстве метро – «традиционной площадке для проявления трудовых подвигов в советской мифологии» [73 : 484]. Знаковый для русской литературы маленький человек, еще со времен Евгения из «Медного всадника» не умеющий ладить с окружающей действительностью, в творчестве С. Довлатова оказывается втиснутым в советскую реальность. Кроме того, немаловажен и эпиграф к «Чемодану»: «… Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Едва ли непреднамеренно писатель предварил сборник рассказов о советской жизни блоковской цитатой, включающей обращение «моя Россия».
Если для С. Довлатова свойственно обращение к маленькому человеку, то В. Аксенов, по свидетельству Е. Зубаревой, на советском материале развивает в своей прозе другой классической образ – образ лишнего человека [106]. Вместе с тем на персонажном уровне писатель обыгрывает и образы, разработанные в советской прозе. Как замечает В.В. Агеносов, в «Ожоге» «пять главных героев по-прежнему представляют культовые фигуры прошедшего десятилетия – писатель, хирург, скульптор, саксофонист и физик. На самом деле это не совсем пять разных героев – их объединяет общее отчество “Апполинариевич”, общие друзья и любовницы и, что важнее всего, общее детство» [73 : 485].
В романе «Остров Крым» уже самим обращением к жанровому формату альтернативной истории В. Аксенов смещает горизонт читательского восприятия. Советское и национальное противостоят друг другу сюжетно, но не концептуально. Как отмечает Т.Н. Бреева, Андрей Лучников «пытается создать альтернативную историческую метанаррацию, основой которой становится идея общей судьбы… Реализация этой идеи предполагает своеобразное декодирование СССР, обнаружение под государственным глянцем символического ядра, функцию которого вполне традиционно должен выполнить образ “нутряной России”. Конструирование этого образа демонстрирует особый характер авторской позиции: дискурс путешествия, активизирующийся в отношении Андрея Лучникова, трансформируется в дискурс присвоения, обретения “почвы”, …, формирующий образ “воображаемой России”. … Фикциональность процесса обретения “почвы” связывается с господством точки зрения самого Лучникова, который лишь транслирует сложившуюся модель отношений “интеллигенции” и “народа” и стереотипный образ “народа”… Ложность поведения Лучникова подчеркивается также утрированием народнического комплекса, который накладывается на модель эмиграции. В этом случае концепт “народ” утрачивает свою двойную идентификацию (народ-демос и народ-нация), актуализация модели эмиграции приводит к несостоятельности социальной составляющей данного концепта и абсолютизации национальной составляющей. Следствием этого становится отказ от просветительской позиции, характерной для народнического комплекса XIX века, и утрирование жертвенной роли “интеллигента” как доказательства национального единства…» [84].
Моделирование имперского мифа в романе А. Терехова «Каменный мост»
Творчество Михаила Елизарова (род. 1973) предоставляет богатый материал для исследователя, который занимается поиском и дифференцированием различных форм советскости в современной литературе. В дебютной елизаровской повести «Ногти» рассказывается история двух увечных с рождения друзей, безуспешно ищущих свое место в постсоветской действительности. В повести «Госпиталь» жестокие сцены армейской дедовщины разворачиваются в последние дни СССР. Роман «Мультики» предлагает читателю историю, в которой трудный советский подросток Герман перевоспитывается в детской комнате милиции и в которой обыгрываются традиционные приемы романа воспитания. Советская составляющая также играет значимую роль в песенном творчестве Елизарова, которым автор занимается активно с 2010 года (в частности, в композициях «Советская», «Сентиментальный марш», «Оркская»).
При этом функционирование советской составляющей в творчестве Елизарова неоднородно; если в ранних его произведениях она выполняет в основном мотивирующую функцию, показывая ситуацию слома между эпохами, в рамках которой происходит самоопределение личности, то позднее оформляется в советском дискурсе. Ярким примером функционирования последнего может служить второй роман М. Елизарова – «Библиотекарь», в 2008 году ставший лауреатом Букеровской премии. По внешним признакам сюжет «Библиотекаря» тяготеет к популярному сегодня формату криптологического романа. В романе враждебные по отношению друг к другу группы тайно охотятся за уцелевшими книгами писателя-соцреалиста Громова, неизвестного широкой читающей публике. Книги обладают магическими свойствами, проникнуть в которые дано лишь при соблюдении условий тщательного (пословного, без пропусков) и непрерывного прочтения. Тайна книг содержится в секрете, и читатели вынуждены вести двойную жизнь. Среди поклонников громовского дара его романы, носят особые названия – Книга Силы, Книга Власти, Книга Ярости, Книга Терпения, Книга Радости, Книга Памяти, – в зависимости от гипертрофированных чувств, пробуждаемых ими. По легенде, все шесть громовских романов имеют общий замысел, скрытый в седьмой книге – Книге Смысла. О ее местонахождении не знает никто. Значимость Книг для поклонников практически приравнивается к значению Библии или Корана для некоторых религиозных фанатиков. Основные события в книге приходятся на самый стык тысячелетий, на двухтысячный год.
Включение в роман М. Елизарова модели библиотеки позволяет спроецировать смыслы, сформированные относительно нее в постмодернизме, на советский дискурс. Как отмечает Л.Р. Меграбян, «согласно Борхесу, такое “книгохранилище” – это лабиринт, или система, архитектоника которой обусловливается собственными правилами – законами предопределения, высшего порядка, провидения. … Восприняв борхесовскую идею лабиринта как образно-знаковую модель Универсума, Эко (“Имя розы”) выстраивает своеобразную “двойную метафору – метафору метафоры”, акцентировано изображая библиотеку аббатства как лабиринт, непостижимый и недоступный для непосвященных» [126 : 169].
Криптологический сюжет, основу которого составляет ставший уже традиционным мотив поиска книги, оказывается способом художественного воплощения феномена присвоения прошлого, включающего в себя по крайней мере два основных аспекта: власть над прошлым и власть прошлого. Оба аспекта реализуются посредством лабиринтной символики модели библиотеки, выступающей, с одной стороны, эмблематизацией и одновременно путем постижения советского дискурса, а с другой, репрезентацией характера отношений Алексея Вязинцева с советским дискурсом.
Фактором, который объединяет причастных к громовскому миру, становится неумение вписаться в постсоветскую реальность, отчужденность от нее. Единственный для героев способ самоидентификации – обретение прошлого; единственный способ обрести его – поиск и чтение Книг. Дающие гарантированный неотложный эффект, Книги создают у громовцев ощущение упорядоченной действительности и власти над прошлым. Формальный контроль над ним достигается за счет добычи громовских романов и последующей их каталогизации и распределения, за счет систематизированного мира библиотек. Однако контроль над Книгами перерастает в зависимость от Них – срабатывает борхесовский закон предопределения. Читатели, оказавшись в замкнутой системе библиотеки, обречены жить по ее законам. Покинуть библиотеку на практике возможно исключительно через смерть. Власть над прошлым оборачивается властью прошлого.
Обстоятельство, согласно которому не люди определяют судьбы Книг, а Книги – судьбы людей, подтверждает парадокс левой идеологии в советском изводе: торжество идеалистических установок при номинальной декларации материализма. Подтверждается мысль, озвученная однажды А. Эткиндом: «История марксизма в разных его исторических приложениях доказывает лучше всего остального, какое значение имеют идеи и их культурные формы, как влияют они на любые процессы – социальные, экономические и другие, какие только происходят с людьми. В этом парадокс левой идеологии: доказывая вторичность культуры в отношении жизни, она добивается изменения фундаментальных форм жизни на основе возвышенно культурных целей» [70 : 33].
Рецепция советского культурного кода в романе З. Прилепина «Обитель»
Школьные будни не подвергаются подробному описанию. Из рассказа Рымбаева мы узнаем, что в школе его избегают, но проникаются безмолвным уважением к его силе. Из всех одноклассников поименно называются лишь трое – главный враг Германа Алферов, симпатичная Наташа Новикова и замкнутый Илья Лифшиц, дающий главному герою списывать контрольные. Школьная администрация в лице директора и завучей обделяется вниманием. Что до учительского состава, то внимание повествователя останавливается только на классном руководителе, Галине Аркадьевне, и преподавателе физкультуры. В некоторой мере в их облике соблюдаются жанровые требования: Галина Аркадьевна оказывается связана с повседневной школьной деятельностью, а физрук, отправляющий Рымбаева на районные соревнования, – с профессиональной2. Вообще, учителя и одноклассники главного героя наделены предельно типизированными чертами, позволяющими разглядеть в них традиционных представителей школьной мифологии: Галина Аркадьевна – лишенный такта и чувства справедливости педагог-конъюнктурщик, Алферов – баловень судьбы с раздутым самомнением и любимчик учителей, Новикова – недалекая и изнеженная красавица, Лившиц – самодостаточный отличник с легкими признаками аутизма. Никто из них не мотивирует Рымбаева свернуть с кривой дорожки, а школа предстает микромоделью постсоветского общества с непоправимо расшатанными устоями.
На примере «Мультиков» наблюдается привычное для школьной повести отдаление главного героя от классного коллектива и от семьи. Герой заявляет о духовной дистанции, которая возникла между ним и его родителями. Дистанция наиболее зримо проявляется в сцене, когда вся семья едет в гости на метро, а неловкие, по мнению подростка, родительские действия заставляют его краснеть от стыда за неуклюжих отца и мать [4 : 62]. Вместе с тем отдаление от семьи в романе М. Елизарова получает нестандартную для школьной повести мотивировку. Ослабленный надзор за сыном объясняется смещение внимания на грядущую политическую катастрофу, затмившую семейные неурядицы и личные тревоги. Рассказчик отмечает, что отец с матерью все более шепчутся «о Горбачеве, академике Абалкине, кооперативах» [4 : 61].
Рубежная эпоха с ситуацией идеологического провала, на фоне которой разворачиваются злоключения центрального персонажа, обрисовывается в тексте ярко. Хотя и наибольшая часть событий происходит до распада СССР, в 1988–1989 годах, М. Елизаров наполняет пространство крупного промышленного города деталями, которые вызывают ассоциации скорее с постсоветской реальностью, чем с поздним советским периодом. В школе царит произвол; бизнес делят между собой криминальные структуры; повсюду функционируют видеосалоны, где показывают боевики и эротику; рынок наводнен электроникой по самым разным ценам; в ходу стилистически маркированные этнонимы вроде «хач» и «чурка», ассоциирующиеся с эпохой 90-х годов [4 : 65, 80]. У Германа проходит ностальгия по маленькому уютному Краснославску, символизирующему целостность мировосприятия и потерянную гармонию, подросток прощается с детством, расставаясь с наивностью. Школа, утратившая воспитательное назначение, фиксирует слом между эпохами и служит своего рода гарантией невозврата к идеализированному прошлому.
Символический потенциал разрешения постсоветских противоречий заключает в себе жанр романа воспитания. Говоря о нем, необходимо отделять друг от друга две его версии: классическую и соцреалистическую. Зародившись в 20-х годах XIX века, наибольшего расцвета роман воспитания достигает в Германии и Англии. Е.А. Краснощекова выделяет приметы романа воспитания, свойственные и западноевропейским литературам и русской традиции: моноцентричность; густая населенность персонажами, каждый из которых по-своему обращен к главному герою; четко прописанная авторами стадиальность пути молодого человека к зрелости [112 : 14-17].
Эти черты обнаруживаются и в советском романе воспитания, однако в нем они подвергаются трансформации. Если не принимать во внимание идеологические надстройки, то главным различием между классическим романом воспитания и его советским вариантом видится итог исканий главного героя. В традиционной версии его дорога завершается «рождением баланса между желаниями сердца и требованиями ума» [112 : 16]. Такое гармоничное сочетание сенсибельного и интеллигибельного не наблюдается в соцреалистической художественной системе. В ней, как неоднократно отмечала К. Кларк, имеет место строго направленное движение от стихийного к сознательному, от одного полюса к другому. В рамках советского романа воспитания два полюса на начало повествования представляют главный герой и его наставник, символический отец. Основная задача последнего заключается в том, чтобы вести своего подопечного от метафорической тьмы к свету, от стихийного к сознательному. К. Кларк замечает: «Две основные функции характера – воплощенная сознательность и воплощенная стихийность (или отец и сын) – строго говоря, не являются функциями, но скорее отражают строгое различие между этими типами характера, расположенными в соцреализме далеко друг от друга» [108 : 582].