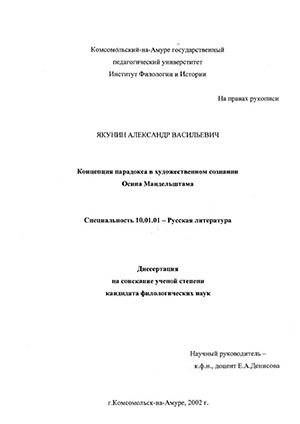Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Эсхатологический парадокс в лирике О.Мандельштама 10-20-х г.г.
1. Инцестуальная парадигма в эсхатологии 10-20-х годов 23
2 Синхроническая концепция культуры в системе мотивного космогенезиса 52
Глава II Кенотический парадокс в творчестве Мандельштама 30-х годов: символизм инициации и мистерия возрождения
1. Инициатическая эсхатология в поэтике 30-х годов 81
2. Инициатическая космогония в системе литературно- мифологических подтекстов 105
Заключение 134
Библиография 143
- Инцестуальная парадигма в эсхатологии 10-20-х годов
- Синхроническая концепция культуры в системе мотивного космогенезиса
- Инициатическая эсхатология в поэтике 30-х годов
- Инициатическая космогония в системе литературно- мифологических подтекстов
Инцестуальная парадигма в эсхатологии 10-20-х годов
Эсхатологический парадокс в образно — мотивной структуре сборников 10-20-х г.г. реализуется в связи с поэтическим представлением о кризисе христианского мировоззрения в самосознании европейской культуры рубежа XVIII-IXX веков. Обращаясь в статье 1918 г. «Скрябин и христианство» к характеристике современной эпохи, Мандельштам описывает явление своеобразного «инцеста» в европейской истории, результатом которого является возвращение к дохристианским системам ценностей: «... Время может идти обратно: весь ход новейшей истории, которая со страшной силой повернула от христианства к буддизму и теософии, свидетельствует об этом». Именно в аспекте аксиологического кризиса в самосознании европейской культуры осмыслена в поэтической системе Мандельштама глубинная историческая связь России и Европы.
В этой связи вполне закономерно использование Мандельштамом в поэтических циклах 10-20-х г.г. мотивно-тематического комплекса с инцестуально-эсхатологической семантикой. Реализуется данный комплекс в системе мифопоэтически переосмысленного лирического пространства (т.н. espace rayonnant) с помощью группы образно - топических модификаций, восходящих к архетипу космического сакрально - архитектурного центра (axis mundi): «Вечного Града, Акрополя - фрегата, Храма, Театра (храма искусства), Горы - Скинии». Структурообразующая функция данного символа в системе типовых архетипических соответствий подробно рассмотрена в работах В.Топорова (1995), М.Элиаде (1996), Ю.Лотмана (1973). Однако для понимания сути эсхатологического парадокса Мандельштама 10-20-х г.г. чрезвычайно важно сначала выявить связь мифопоэтического хронотопа Центра не только с образно-мотивной динамикой его текстов, но и с историософской концепцией поэта в целом. «Сакральная топография» Центра выступает в поэтике Мандельштама как средоточие культурного и христианского экуменистического космоса, связанного с идеей универсального нравственного закона (откровения-Логоса, «Завета», культурной традиции). Идея христианского универсализма в рамках данного архетипа у Мандельштама неотделима от темы культуротворчества, пластически трансформирующего в гармонию и «эолийский чудесный строй» музыки/слова хаос и небытие (сигнифицируемые в поэтике 10-20-х г.г. «дионисийскими» мотивами). Кроме того, универсализм христианства в рамках поэтики мирового центра в поэтической историософии Мандельштама рассматривается как результат своеобразного исторического синтеза средиземноморских культур и закономерный итог их цивилизационного развития (в первую очередь это касается традиций Эллады). Развитие данной концепции в образной структуре стихотворных текстов 10-20-х г.г. опирается на мощный историко-культурный мифопоэтический контекст, связанный с представлением о процессе «исторического восхождения» к христианской культуре. Поэтическим коррелятом данного процесса становится мотив «музыки/песни», в тематическую структуру стихотворения при этом сознательно вводятся знаковые образы-игнификаторы, а в лирической композиции применяется принцип мифологической контаминации.
Так, в стихотворении 1914 г. «Ода Бетховену» развитие мотива последовательного восхождения от античной архаики к христианской идее единства представлено в сюжетных трансформациях центрального образа стихотворения - образа огня, в финале взаимодействующего с одной из модификаций сакрального мирового центра - образом Синая, «священной горы Завета». В первом четверостишии стихотворения благодаря стиховому переносу и, как следствие, возникновению синтаксически сильной позиции (начала строки) в образно-тематическом поле стихотворения возникает новый денотат (лексемы «Бетховен» и «глухой» представляют уже различные денотаты): Бывает сердце так сурово, Что и любя его не тронь! И в темной комнате глухого Бетховена горит огонь.
В строфе возникает новый комплекс связей, и, следовательно, новые образы: «темной комнате глухого» противопоставлен «огонь Бетховена». Образ огня вновь возникает и в составе метафоры пятой строки шестой строфы, при этом также акцентирована его локализация внутри человека, принадлежность сфере эмоционального, страсти («Огонь пылает в человеке, его унять никто не мог...»). Уже с первой строфы намечена связь данного мотива с группой образов, воплощающих аффективное состояние («И я не мог твоей, мучитель, // Чрезмерной радости понять, // Уже бросает исполнитель // Испепеленную тетрадь...»). Данная связь тут же получает свое развитие: «чрезмерная радость» перекликается с оргиастическим обозначением эмоционального аффекта - «буйным хмелем» («...Кто по-крестьянски, сын фламандца // мир пригласил на ритурнель // идо тех пор не кончил танча, // Пока не вышел буйный хмель?»). Пересечение семантики огня с экстатическими и музыкально - танцевальными мотивами актуализирует значение «очищающей силы» в группе «огненных» ассоциаций, придавая огню характеристику сакральности («...С кем можно глубже и полнее // Всю чашу нежности испить? // Кто может, ярче пламенея, // Усилье воли освятить?...»). В результате развития мотива музыки образ огня, начиная со строфы четвертой, вступает во взаимодействие с комплексом мифологических ассоциаций (в данной строфе связанных с образом Диониса - античного оргиастического божества: «О Дионис, как муж наивный, // И благородный, как дитя! // Ты перенес свой жребий дивный // То негодуя, то шутя! // С каким глухим негодованьем // Ты собирал с князей оброк // Или с рассеянным вниманием // на фортепьянный шел урок!»). В строфе пятой мы сталкиваемся с явлением парадоксального коннотативного синтеза, объединяющего мотив эмоционального аффекта и семантику сакральности в единый ассоциативный комплекс «огня божественной благодати», экстатической «всемирной радости», связанного с образами зороастрийского «пророческого веселья» огнепоклонников, ранних христиан (образ «монашеских келий» в первой строке) и неизрекаемого греческого гностического божества («Тебе монашеские кельи - // Всемирной радости приют, // Тебе в пророческом весельи // Огнепоклонники поют; // Огонь пылает в человеке, //Его унять никто не мог, // Тебя назвать не смели греки, // Но чтили, неизвестный бог!»).
Синхроническая концепция культуры в системе мотивного космогенезиса
Наряду с развитием инцестуально-эсхатологической парадигмы в лирической системе Мандельштама 10-20-х г.г. функционирует и образно-мотивный комплекс, отмеченный семантической связью с мифопоэтикой Сотворения («illud tempus», изначального мифического времени). Целостная космогоническая парадигма, формируемая данным комплексом в лирике 10-20-х годов, реализует поэтическими средствами концепцию культурно-исторической синхронии (так называемой «глассолалии»), активно разрабатываемой Мандельштамом в теоретических статьях 20-х годов.
В статьях данного периода возникает понятие «высшего исторического синтеза», представленного поэтом как образ некоего «вселенского очага», «всемирной домашности», призванной вернуть культуре и «социальному телу» Европы утраченную после эпохи Реформации монолитность. «Возрождение европейского сознания», «восстановление европеизма» как одной «большой народности» лежит, по мнению Мандельштама, через выход из состояния «национального распада», из положения «зерна в мешке», к «культурному вселенскому единству» («Пшеница человеческая», 1922 г.). Идеологический фундамент нового культурного единства, по мысли Мандельштама, должен опираться на ценности классической европейской культуры. При этом Мандельштам особо акцентирует ценность идей личностного суверенитета («чувства личности»), развиваемой европейской гуманистической традицией, и культурного всемирного диалога («глассолалии»), преодолевающего культурную изоляцию разобщенных государств. Эти идеи осмыслены Мандельштамом как конструктивные пути изменению кризисного положения, как в России, так и в Европе в целом, пронизанной в начале двадцатого века социальными антагонизмами и пребывающей в состоянии межнациональной и культурной разобщенности. С данной концепцией связан сложный космогонический мифопоэтический комплекс, функционирующий в мотивной композиции текстов 10-20-х г.г.
Ключевое значение в составе данного комплекса приобретают мифологемы «Эроса» и «Камня» (восходящие, в свою очередь, к инвариантному архетипическому корреляту «родового лона»). Ассоциативно-тематический диапазон данных мифологем реализуется благодаря взаимодействию мифологических рецепций «стихийной космогонии», темпоральной редукции «к началу» и мотивного изоморфизма природы и культуры.
В частности, благодаря мотивному изоморфизму природы и культуры в текстах и теоретических статьях 10-20-х г.г. развивается поэтическое представление о едином «тексте бытия», формируемое взаимодействием космогонической образности с поэтически переосмысленной «философией жизни» А.Бергсона. Феномен «длительности», связанный в «философии жизни» Бергсона с понятием «творческой эволюции» (Блауберг И.И., 1992), в поэтическом мире Мандельштама трансформируется в образный коррелят некой субстанциональной гармонии, определяющей глубинную синкретическую связь культурных и онтологических процессов. При этом мифологическая рецептивная парадигма «моря» в лирической композиции текстов 10-20-х г.г. интегрирует образно-мотивные структуры, соотносимые в рамках «синхронической космогонии» с тематическими комплексами природы и культуры.
В образной композиции стихотворения 1915 г. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» благодаря процессу семантической диффузии тексты природы («море») и культуры («Гомер») оказываются взаимоотражением друг друга. Стихия творчества и природы при этом мыслятся как происходящие из единого источника, определяемого традиционной метонимией Эроса. Динамическую основу лирического сюжета стихотворения составляет взаимодействие двух тематических линий, представляющих различные аспекты семантической доминанты данного текста - значения «стихийности», охватывающего мотивные комплексы творчества, моря и любовную тему. Первая композиционная линия, связанная с сюжетом гомеровского эпоса и темой творчества, представлена группой заимствованных из античной поэмы образов (античные корабли, «ахейские мужи»). Значения данных образов пересекаются с образами тематической группы моря, приобретая в их контексте значение иррациональной стихийности. Показательны в этой связи образы «божественной пены» на «головах царей» и «витийствующего моря», прибой которого в системе смысловых отношений текста соотносится со стихотворным ритмом: И море, и Гомер - все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море черное, витийствуя, шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью. Поэтический подтекст Эроса входит в образную ткань текста вместе с мифологическим образом Елены Троянской, раскрывающим подлинную мотивацию лежащего в основе античного сюжета военного похода: Как журавлиный клин в чужие рубежи, На головах царей божественная пена, Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи? Мифопоэтические ассоциации поддержаны и прямым выводом в финальной строфе («И море, и Гомер - все движется любовью...»). Мифологема «животворящего Эроса», развиваема во взаимодействии с тематическими полями природы и культуры, выступает на образном уровне в качестве своеобразного «перводвигателя» природных и культурных процессов. При этом концептуально мифологема Эроса приближается к классическому определению данного понятия в философии платонизма как «всеобщего творческого начала в единстве индивидуального («лирический эрос» как творческая диффузия душ) и космического («энергия миропреобразования») аспектов (Лосев А.Ф., 1993).
Аналогичное мотивное взаимодействие можно обнаружить и в стихотворении.1914 года «Равноденствие», в образно-тематическом поле, которого законы искусства стихосложения и природный ритм взаимопроникают друг в друга. В первой строфе природное время сопоставляется с древнегреческой поэтической метрикой на основании качества паузы/«длительности», присущего природным и творческим процессам (...Есть иволги в лесах, и гласных долгота // В тонических стихах единственная мера, // Но только раз в году бывает разлита // В природе длительность, как в метрике Гомера). В мотивной системе текста образ «длительности/цезуры» становится семантическим узлом пересечения культурного и природного тематических комплексов («Как бы цезурою зияет этот день: // Уже с утра покой и трудные длинноты...»).
Теоретическое обоснование подобного понимания синхронии можно обнаружить в статье Мандельштама 1921 года «О природе слова» в рассуждениях о преимуществах нового философского метода, введенного Бергсоном в европейскую гносеологию: «...Чтобы спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений, современная философия, в лице Бергсона, ..., предлагает нам учение о системе явлений... Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддается умопостигаемому свертыванию» (И, с. 173).
Инициатическая эсхатология в поэтике 30-х годов
Как свидетельствуют представленные в предыдущей главе результаты анализа инцестуально-эсхатологической парадигмы, в эсхатологической поэтике 10 -20-х г.г. доминировали мотивы постепенного «нисхождения» в загробный мрак онтологической и культурной энтропии, агонизирующего распада космоса уходящей культуры и погружения в аморфную стихию чуждой, рождающейся в недрах исторической катастрофы новой знаковой системы - культуры наступающего столетия. В данной лирической ситуации культурная европейская традиция представлена поэтом в модусе «пост — существования», «бытия - за гранью» (сигнифицированным усилием продлиться за пределы эпохального разрыва и энтропии, сопряженным с мотивом собственной обреченности), а тема грядущего культурного возрождения была намечена лишь пунктирно. Наиболее выразительным воплощением «пограничного» характера эпохи в 20-е г.г. выступает биоморфная метафора «разрыва», в ассоциативном ракурсе которой «агонизирующий век» еще сохраняет в себе жизненные силы и восстановление нарушенной культурно-исторической преемственности мыслится потенциально возможным (в этой связи показателен образ зверя с переломленным хребтом в стихотворении 1922 г. «Век», в котором констатируется возможность подобного воссоединения: «Чтобы вырвать век из плена, // ... // Узловатых дней колена // Нужно флейтою связать...»). Жизнь не покидает обреченную эпоху окончательно; и умирающий зверь, и «век-отец» (в «1 января 1924 г.») воспринимаются как нечто уходящее, но еще не до конца потерянное (ср. интонации во фрагменте: «... Я знаю: с каждым днем слабеет жизни выдох, // Еще немного - оборвут // Простую песенку о глиняных обидах // И губы оловом зальют...»).
Однако в образной системе 30-х г.г. историческая катастрофа и связанное с ней «культурное онемение эпохи» представлены уже как вполне свершившийся факт, а современность выступает ареной окончательного торжества загробного хаоса и культурной деградации. Соответственно, иной становится и лирическая ситуация: в образной картине мира большинства текстов данного периода (так или иначе обращающихся к исторической судьбе России) тропеической доминанте «культурно-исторического разрыва» на смену приходит инициатическая эсхатология, в рамках которой представлена панорамная образная картина «посмертного окоченения» эпохи, отмеченного окончательным уходом жизненных сил. Это уже не «нисхождение в смерть», а метафорическая, модель «бытия - в - смерти», результат закономерного и необратимого перехода агонии в гибель.
Своеобразным вступлением в лирику 30-х, в рамках которого разрабатываются некоторые исходные предпосылки новой поэтики, является армянский цикл, ведущую функцию в поэтике которого занимает мифологема «регрессии к началу», непосредственно связанная с коннотативным полем «онтологической ночи» Ассоциативное взаимодействие магистральных доминант в образно-тематическом поле Армении осуществляется в рамках тематического комплекса «ближневосточного культурно-языкового очага» «вавилонских наречий», реализуемого в парадоксальном синтезе образной группы рождения и мотивов уничтожения и смерти. При этом настойчиво развиваемый в структуре доминанты уничтожения полисемантический код «онтологической ночи» вводит в «армянский текст» специфические коннотации центростремительной редукции, в тематическом поле которой разрабатывается инверсионный мотив «обратимого времени», «возвращения к бчагу-центру».
«Детская игра» взаимодействует с атрибутами ремесленного труда, одновременно сливаясь с зооморфным мотивом строфы второй. «Львиная» характеристика армянских женщин в пятой строфе акцентирует в указанных мотивных группах значения «красоты, благородства, мощи» (образы барсов, львиные эпитеты). Таким образом, группа «барсовых шкурок», детского рисунка, игры и льва лежит в основе образного комплекса «ремесленного труда, творчества, простоты, мощи, женского начала, благородства/красоты». Зооморфная семантика взаимодействует с темой детства и в заглавном стихотворении цикла («Ты розу Гафиза колышешь // И нянчишь зверушек-детей, // Плечьми осьмигранными дышишь // Мужицких бычачьих церквей...»), в тексте «Ах, ничего я не вижу ...» к ней добавляется семантика «труда» (та же игра в «жмурки» с хлебом, те же «лавашные влажные шкурки», вынимаемые из очага). Однако весь рассмотренный комплекс оказывается вписан в специфический для Мандельштама 30-х г.г. хронотоп « онтологической ночи», поддержанный реализацией характерных коннотаций в иных редакциях и стихотворениях армянского цикла.
Творчество оказывается связано с распадом («Ломается мел и крошится // Ребенка цветной карандаш»), «львиная красота» «армянских жен» не волнует живой крови, а творческий труд оборачивается убийством («Чтоб высохли барсовы шкурки // До солнца убитых зверят ...»). Семантика смерти и распада оказывается тесно связана с темами армянской истории (образы «молодых гробов», «казнелюбивых владык») и географического положения («страна москательных пожаров // И мертвых гончарных равнин...»; «Вдали якорей и трезубцев // Где жухлый почил материк...» -акцент на мотиве удаленности от моря, изоляции от живительного источника культурного и материального созидания). К теме «мертвых гончарных равнин» относятся и другие модификации мотива смерти: образы снимаемой посмертной маски [176, с.162], «безжизненного пластыря земель» в одной из черновых редакций; концентрируется мотив глубокой древности, дряблости (антропоморфная метафора «облуплено бедное небо // Трава как седины виска») и связанной с ним исторической и патриархально-трудовой тяжести: «Как люб мне натугой живущий, // Столетьем считающий год...» (в одной из редакций: «К земле пригвожденный народ...»); безрадостности жизни, тоски («Лишь кой-где веселый мальчишник, // Уживчивый праздничный хмель...»).
Инициатическая космогония в системе литературно- мифологических подтекстов
Рассмотрим структуру космогонической парадигмы в поэзии 30-х, в рамках которой и развивается связанная с переосмыслением исторической судьбы европейской культуры в новой российской действительности тема грядущего культурного возрождения. Как свидетельствуют результаты анализа данной парадигмы, лирическая космогония Мандельштама 30-х гг. также связана с комплексом концептуально значимых тем и мотивов, восходящих к культурософской концепции данного автора и эксплицирующих в его поэтике так называемый «парадоксальный катарсис».
Прежде всего необходимо отметить, что символизм Центра в рамках парадигмы инициатического возрождения 30-х сохраняет свое приоритетное значение. Непосредственной модификацией архетипического хронотопа «Центра Мира» в лирике Мандельштама 30-х годов выступает мотивная структура «эонического времени», восходящая к православно-христианской концепции «Эона»/«Логоса» как «сотворенной вечности мира, развертываемой в историческом времени» (Кихней, 1997, с.247). В образно-мотивной организации текстов 30-х данная структура выступает своеобразным эквивалентом «illud tempus», мифического «времени Сотворения».
Композиционно-тематические функции «эонической» структуры лирического времени в текстах данного периода связаны с реализацией в рамках художественной космогонии 30-х комплекса новых тем и мотивов, в центре которых - поэтическое представление о судьбе культуры и поэзии в современную эпоху. При этом в основе семантической организации «эонической» структуры лирического времени лежит традиционная космологическая модель центробежной спирали (дуги). В рамках «эонической» структуры разрабатывается сложная космогоническая парадигма, связанная в текстах Мандельштама 30-х гг. с мифопоэтическим модусом пространственной композиции, доминантой субстанционального роста, корреляцией элементов макро- и микрокосма в мифологеме «Антропоса/Логоса/Кадмона» и системой библейских мифологических рецепций. Рассмотрим указанные элементы по порядку.
Во-первых, реализация данной парадигмы в пространственной композиции текстов 30-х годов тесно связана с топической доминантой «порыва/устремленности за пределы круга», преодоления замкнутости, безысходности и ситуативной несвободы, актуализирующей в лирической космогонии 30-х мотив «возвращения к средиземноморскому культурному очагу-Центру». Образным выражением данной доминанты выступает одна из модификаций космогонической спирали - «дуга», связанная с центробежным вектором движения и символизмом «магического полета», воплощенным в коннотациях «прорыва за пределы круга» и выхода из «мировой периферии». Возникает мифопоэтический мотив своеобразного «оплодотворения периферии», ее трансформации в аксиологически значимое («средиземноморское») пространство, противопоставленный связанной с мотивом «центростремительного кружения на месте» топической группе «замкнутого пространства/тупика», определяющей мотивные взаимодействия в рамках поэтической эсхатологии текстов Мандельштама 30-х годов. Например, в образной композиции стихотворения «Не сравнивай: живущий не сравним...» (1937 г.) центробежная доминанта дуги, акцентирующая в тематическом поле «средиземноморской тоски» семантический модус «прорыва/полета», реализуется в образной системе стихотворения с помощью образного комплекса «воздушного плавания» по «радуге-дуге». Магистральные образные доминанты «обреченности» и «возрождения» взаимодействуют в комплексе ассоциативных значений центрального топоса «неба», который выступает центром пересечения сразу нескольких интертекстуальных полей. Данный топос представляет собой образ с амбивалентной семантикой, в рамках которой развивается оппозиция двух локальных архетипов, ассоциативное взаимодействие которых связано с парадоксальной контаминацией двух разнонаправленных векторов движения. С одной стороны, небо выступает в ипостаси «круга», отмеченной значениями замкнутости, безысходности, изоляции от мирового культурного целого. С другой стороны, в образно-тематическом поле «неба» актуализируется модификация «дуга», связанная с центробежным вектором движения и символизмом «магического полета», воплощенным в коннотациях «прорыва за пределы круга» и выхода из «мировой периферии»... Развитие мотивов в рамках доминанты «круга» сопряжено с темой «тоски» как сигнификатором констатируемой лирической ситуацией насильственной изоляции героя от «средиземноморской культурной колыбели», представленной комплексом христианских, иудейских, античных и ренессансных культурологических подтекстов. Центробежная доминанта дуги, акцентирующая в тематическом поле «средиземноморской тоски» семантический модус «прорыва /полета», реализуется в образной системе стихотворения с помощью образного комплекса «воздушного плавания» по «радуге-дуге»: .. .Я обращался к воздуху-слуге, Ждал от него услуги или вести, И собирался плыть, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий... Образ «воздуха-слуги» (восходящий мифологическому персонажу -духу воздушной стихии, божественному вестнику Ариэлю) в первой стихотворной строке вводит в ассоциативно-интертекстуальный план стихотворения топос изгнанника Просперо - одного из персонажей шекспировской «Бури», в четвертом действии которой вместе с Ариэлем появляется богиня радуги и вестница богов Ирида (Iris. греч. «радуга»), предвестница чудес, «мост на землю, спущенный с небес», посланница Юноны и слуга-«вестница», «радужные крылья». Ирида редуплицирует мотивный комплекс Ариэля «воздух-слуга-весть», добавляя мотив «радуги». В Библии радуга (др. евр. geshet) - символ «силы» бога и различных мифологических персонажей (в том числе и ангелов-вестников), знак завета Господа с Ноем в виде «радуги в облаке», знаменующей конец божьей кары после потопа и остановки ковчега на «горах Араратских», и атрибут божественных видений. Семицветность радуги перекликается и с разноцветностью одежды Иосифа, первого еврейского изгнанника, с которым Мандельштам автоидентифицировался еще в ранних стихах (ср. «Отравлен хлеб и воздух выпит...», где появляется проданный в рабство Иосиф и тот же мотивный комплекс «тоски/болезни, воздуха/неба, прояснения»). Тема «боговдохновенного» поэтического плавания - «полета» поддержана и ассоциативно-образной перекличкой с «Воздушным кораблем» Лермонтова (в тему изгнания при этом органично вплетается судьба Наполеона).