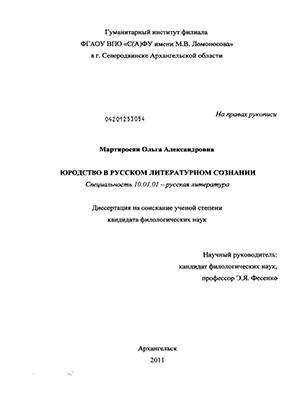Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Русское юродство как феномен культуры 11
1.1. Философия «юродства»: к истории вопроса 12
1.2. «Этикет юродства» в житиях Древней Руси 30
1.3. Светские тенденции в агиографии XVII—XVIII веков 44
Глава 2. «Юродский жест» в поэтике русских классиков XIX века 60
2.1. Юродивые «Христа ради» в произведениях А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого 61
2.2. Феноменология юродства в художественном мире Ф.М. Достоевского 77
Глава 3. Типология юродивых в русской литературе XX века 105
3.1. Юродивые «справедливости ради» и юродивые «от революции» в произведениях Б.А. Пильняка 107
3.3. «Неузнанный праведник» А.И. Солженицына 134
3.4. «Чудизм» как состояние души шукшинских героев 149
Заключение 172
Список литературы 179
- «Этикет юродства» в житиях Древней Руси
- Юродивые «Христа ради» в произведениях А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого
- Юродивые «справедливости ради» и юродивые «от революции» в произведениях Б.А. Пильняка
- «Чудизм» как состояние души шукшинских героев
Введение к работе
Степень изученности темы. «Юродство» как форма христианского подвижничества, добровольно принимаемого на себя, сохраняло актуальность в русской духовной жизни в течение нескольких столетий. Его значение в реальной русской жизни ослабло к XVIII веку в связи с реформами Петра I, коснувшимися, в том числе, и организации духовной сферы России, однако интерес к нему не угас и в художественных произведениях последующих веков, в которых несложно обнаружить черты типа героя (юродивого), сформированные еще в древнерусской литературе.
Системное изучение типологических черт этого героя, появившегося еще в средневековой литературе и сохранившего свою актуальность в русской классике XIX – XX веков, на наш взгляд, позволяет глубже осмыслить ментальные особенности русского человека, выявить важнейшие черты его характера, воплощенные в произведениях писателей ХII–ХХ веков.
Внутренняя сосредоточенность на ценностях духовной жизни (примат души и духа над всеми другими сторонами жизни человеческой), непоколебимая вера в Иисуса Христа характеризует юродивых «Христа ради» в русской литературе нового и новейшего времени – князя Мышкина, Сони Мармеладовой, Алёшы Карамазова Ф.М. Достоевского, Александра Дванова А.П. Платонова, Глеба Ордынина Б.А. Пильняка и др.
Генетические корни героя, сложившиеся в средневековую эпоху, проявились в литературных произведениях XX века в персонажах И.С.Шмелёва (юродивые «Христа ради»), Б.А. Пильняка (юродивые «справедливости ради», юродивые «от революции»), А.П. Платонова («душевные бедняки»), В.М.Шукшина («чудики») и др.
Упоминания о явлении юродства, исследования истории его возникновения встречаются в работах, осмысляющих феномен русской культуры и русского характера. Определения термина «юродство» содержатся в толковых, энциклопедических и специализированных словарях, а также в работах разных исследователей, что свидетельствует об актуальности изучаемой проблемы.
Обзор диссертационных исследований по проблеме «юродство» показал, что феномен юродства рассматривался не только в литературоведческом аспекте, как например, в работе К.А. Янчевской «Юродство в русской литературе второй половины XIX века», в которой основной акцент сделан на том, что юродство для русской литературы второй половины XIX века становится способом воплощения особенностей характера национального героя и построения духовно-нравственного идеала. Особое внимание автор работы уделила образам персонажей, в которых в той или иной степени представлено юродство «Христа ради», отражающее всю содержательную глубину древнерусского подвига.
В диссертационном исследовании И.В. Мотеюнайте «Восприятие юродства русской литературой XIX–XX веков» в центре внимания –обращение к проблеме юродства в русской церковной и светской среде. Автор работы выявляет механизмы расширения понятия «юродство», связанного с церковным подвигом юродивого «Христа ради», но не сводимого к нему.
В диссертации Н.Н. Ростовой «Человек обратной перспективы» проблема юродства исследована в философско-антропологическом ключе.
К проблеме юродства с исторической, философской, культурологической и литературоведческой точек зрения обращались в своих работах Д.С. Лихачев, A.M. Панченко, П.А. Флоренский, Ю.В. Манн, В.В. Колесов, Е.О. Беленсон, М.М. Бахтин, И.У. Будовниц, С.А. Иванов, И.А. Ильин, И.Г. Прыжов, И.А. Есаулов, В.В. Иванов, Г.П. Федотов и др. Их труды посвящены вопросам
– исследования юродства как культурного феномена, трансформирующегося под влиянием исторической эпохи (Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, А.М. Панченко, Л.В. Янгулова);
– отношения к юродству как к способу религиозного подвижничества и как отличительной черте национального характера, особой «русской странности» (И.А. Есаулов, П.В. Басинский, К.А. Янчевская);
– взаимосвязи феномена юродства со смеховым миром Древней Руси – скоморошеством, шутовством, «карнавальным смехом», лицедейством (М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, А.М. Панченко);
– осмысления категорий «самоуничижение» и «аскеза» как подвига юродства и выражения высшей формы святости (Иоанн Ковалевский, Г.П. Федотов, Е.Д. Мелешко, С.А. Иванов);
– изучения эстетической стороны явления «юродство», определения его как «безобразие красоты», а также выявления его провокационной, зрелищной, обличительной стороны (Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, С.А. Иванов);
– исследования феномена юродства с точки зрения его «разыгранности»: лжеюродство, мнимое безумие, мошенничество с целью привлечения внимания к себе (И.Г. Прыжов, А.И. Клибанов, И.У. Будовниц).
Обзор научных публикаций, в которых рассматривается исследуемая нами проблема, позволяет утверждать, что при наличии серьезных и содержательных работ, посвященных рассмотрению явления «юродство», назрела потребность системного рассмотрения образа юродивого как типа литературного героя, имеющего глубокие исторические корни и сохранившего свою актуальность вплоть до современного литературного этапа. Этим и обусловливается актуальность темы представленного диссертационного исследования, в котором анализируется «философия юродства» как явления в русском сознании ХII–ХХ веков в литературоведческом, философском и культурологическом аспектах, определены этапы эволюции типа юродивого как литературного героя, рассмотрена совокупность критериев отнесения персонажей произведений разных жанров к этому типу героя.
Объектом исследования являются типы юродивых в произведениях древнерусской литературы и в русской литературе ХVII–ХХ веков.
Предмет исследования – явление «юродство» как национально-культурный феномен Древней Руси, отразившийся в контексте времени в русской литературе ХII–ХХ веков.
Цель настоящей диссертации – выявление феномена юродства и типологии юродивых в агиографии и в художественных произведениях русской литературы ХVII–ХХ веков.
Означенная цель предполагает решение следующих задач:
– на основании анализа отечественных исследований по проблеме «юродство» охарактеризовать его содержание и разные подходы к объяснению этого феномена русской культуры;
– выявить основные отличительные черты образов юродивых, осмыслить типологию юродивых на материале житийных текстов, древнерусской литературы и литературных произведений XVII–XVIII веков;
– рассмотреть классификацию типов юродивых в поэтике русских классиков ХIХ века;
– проанализировать трансформацию типа юродивого в русской литературе ХХ века.
На защиту выносятся следующие положения:
-
Юродство как явление актуализируется в русском литературном сознании самых разных эпох. Возникнув в средневековой литературе, тип героя-юродивого сохраняет свои генетические черты в персонажах современной русской литературы. Этим подтверждается связь проблемы юродства и менталитета русского человека.
-
В агиографической литературе складывались представления о «природном» юродстве и юродстве «Христа ради», которые легли в основу двух типов юродивых в русской литературной традиции («природные» юродивые и юродивые «Христа ради»).
-
В произведениях ХVII–XVIII веков, тяготеющих к художественной литературе со светскими тенденциями, появляются такие трансформированные типы юродивых, как «блаженные», «чудотворицы», «святые», а также образы «юродстующих» персонажей.
-
Русская классика ХIХ века, опираясь на традиции предшествующей литературы, создала новые модификации типов юродивых – «героя-мудреца» и героя-«шута».
-
Под влиянием социокультурных изменений в литературе ХХ века произошла своеобразная трансформация «природных» юродивых («молчаливые чудаки» Б.А. Пильняка, «душевные бедняки» А.П. Платонова, «смирные чудики» В.М. Шукшина) и юродивых «Христа ради» (юродивые «справедливости ради» Б.А. Пильняка, юродивые «ради новой жизни» А.П. Платонова, «античудики» В.М. Шукшина).
Методологической и теоретической основой исследования послужили труды М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, В.Е. Хализева, И.А. Есаулова, А.М. Панченко, Г.П. Федотова, И.Г. Прыжова, С.А. Иванова и других отечественных ученых, исследовавших проблему юродства.
Достоверность полученных результатов обеспечивается тщательным анализом фактического материала, выверенностью концептуальных положений, использованием комплекса методов (культурно-исторического, историко-литературоведческого, системно-типологического).
Научная новизна работы состоит в том, что проблема юродства в русской литературе впервые рассмотрена в эволюции, как и трансформация типа юродивого в литературных произведениях ХII–ХХ веков, что позволяет глубже понять ментальные особенности русского характера. Изучение феномена юродства в историческом аспекте расширяет научные представления о художественной картине мира, создаваемой русской литературой на протяжении ХII–ХХ веков, вносит новые оттенки в осмысление историко-литературного процесса, происходящего в России.
Материалом исследования послужили жизнеописания юродивых в древнерусской литературе («Житие Андрея Юродивого», «Житие Михаила Клопского», «Житие Блаженного Иоанна Московского», «Житие Василия Блаженного», «Житие Прокопия Вятского», «Житие Прокопия Устюжского», «Житие Сергия Радонежского»), в русской литературе ХVII–ХVIII веков («Житие протопопа Аввакума…», «Житие Юлиании Лазаревской», «Повесть о Марфе и Марии», «Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой», «Описания жизни одной благородной женщины» А.Е. Лабзиной), в классике ХIХ века («Борис Годунов» А.С. Пушкина, «Детство» Л.Н. Толстого, «Подросток», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Село Степанчиково и его обитатели», «Преступление и наказание», «Идиот» Ф.М. Достоевского) и в литературе ХХ века, в котором произошла закономерная трансформация типа юродивого («Богомолье» и «Лето Господне» И.С. Шмелёва, «Голый год» и «Красное дерево» Б.А. Пильняка, «Сокровенный человек», «Усомнившийся Макар», «Чевенгур» и «Котлован» А.П. Платонова, «Матрёнин двор» А.И. Солженицына, цикл рассказов о «чудиках» В.М. Шукшина).
Теоретическая значимость работы заключается в том, что она расширяет научные представления о типологии русского литературного героя.
Практическая значимость. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при чтении курсов по истории русской литературы ХII–ХХ веков, спецкурсах и спецсеминарах, связанных с проблемой литературного героя как в вузовской, так и в школьной системе преподавания – на уроках литературы и в рамках факультативных занятий.
Апробация результатов исследования. Результаты работы были апробированы в докладах на внутривузовских научных конференциях: четырёх Ломоносовских научно-практических конференциях преподавателей, аспирантов, студентов (Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007–2010), на ХХIII Ломоносовской научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов (Северный (Арктический) федеральный университет, 2011), в рамках Филологических чтений студентов и аспирантов (Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2006–2010).
Результаты диссертационного исследования отражены также в семи научных публикациях.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.
«Этикет юродства» в житиях Древней Руси
Распространение феномена юродства на Руси предполагало канонизацию юродивых. На протяжении XIV—XVI веков в ней насчитывалось не менее десяти святых юродивых, тогда как в общем месяцеслове православной церкви в течение VI—X веков в разных странах — только четверо. По замечанию И.А. Есаулова, «православный Восток почти не знает в это время юродивых. Римско-католическому миру этот феномен также чужд» [Есаулов, 1998, с. 109]. Если говорить о проблеме юродства в мировом масштабе, то в сербской и болгарской православной церквях явление «юродство» не нашло своего выражения, в западной (католической) христианской церкви почти нет юродивых, хотя в житиях отдельных европейских святых (например, Святого Франциска Ассизского) рассматриваются некоторые черты аскезы юродства. Хотя С.А. Иванов замечал, что феномен юродства «не получает значительного распространения в Византии или, лишь в редких случаях, удостаивается признания в форме санкционированного церковью почитания. Ряд святых прибегают к юродству лишь в течение. определённого времени, посвящая, однако, большую часть своей жизни аскезе другого типа». Период юродства отмечается, например, в житиях преп. Василия Нового (X в.), преп. Симеона Студита, учителя Симеона Нового Богослова, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (XII в.). В византийских источниках, однако, содержатся многочисленные рассказы о «божиих людях», принимавших облик безумцев, ходивших нагими, носивших вериги и пользовавшихся исключительным почитанием византийцев» [Иванов, 2006, с. 356], однако изначально юродство зародилось и получило распространение именно в Византии. A.M. Панченко называл византийские жития своеобразной «инструкцией по этикету юродства» [Панченко, 1984, с. 73], которой строго следовали русские агиографы. Византийские корни возникновения института юродства подтверждал также Н.И. Толстой, считавший, что юродство появилось на Руси вместе с христианством византийского типа, утвердившимся вскоре после Крещения Руси (988 г.) и разделении христианских церквей (1054 г.): «Пра вославие проникало в толщу русского народа постепенно ... и тем более не сразу восприняла Русь и юродство как особый тип аскетического подвига» [Толстой, 2003, с. 489].
По мнению С.З. Аграновича, «юродство — специфически православная форма проявления и развития в христианстве института пророков, а юродивый — русский средневековый вариант пророка» [Агранович, 1989, с. 29]. Другой точки зрения придерживался С.С. Аверинцев, который отмечал: «Первоначально институт пророчества возник у древних евреев в VHI—VI веков до н.э., в период формирования монотеизма («единобожие»). Все участники пророческого движения VIII—VI веков до н.э. решительно укоряют богатых и властных; это уже не придворные прорицатели эпохи Давида, а народные проповедники» [Аверинцев, 1983, с. 284-285]. По мысли Г.П. Федотова, институт пророчества появился в Византии и получил распространение и развитие на всем Ближнем Востоке, где появились первые юродивые. Приняв христианство от Византии в конце X века, Русь познакомилась с таким явлением, как юродство.
Если в Византии почитание юродивых носило ограниченный характер, то на Руси оно приобретает весьма широкое распространение. Первым русским юродивым Киевской Руси следует считать Исаакия Печерского (ум. 1090 г.), о котором рассказывается в Киево-Печерском патерике. Он был душевнобольным, страдающим «природным» юродством, перенося побои, терпя холод и постоянно голодая. И. Ковалевский выявляет существенную особенность между Исаакием Печерским и Прокопием Устюжским: «Исакий юродствовал большей частью, по выражению его жития, ходя в монастырь, а Прокопий Устюжский юродствовал в миру», то есть за стенами монастыря, среди людей. Таким образом, по мнению И. Ковалевского, «первым образом юродства о Христе в России» являлся блаженный Прокопий Устюжский (умер в 1285 г., по другим источникам в 1302 или 1303), который за своё «юродственное Христа ради житие и буйство» навлекал на себя людское «укорение и пхание», но молился за своих обидчиков «тайно, по ночам, про ся полезных граду людем», принимал «у богобоязненных людей по малу пищи, но никогда у богатых» [Ковалевский, 1992, с. 168]. Жизнь он вёл подвижническую, с которой не могли сравниться самые суровые монашеские подвиги, обладал пророческим даром, не имел кровли над головой, спал на помойной куче, нагой, после — на паперти. Так однажды, в страшный мороз блаженный не выдержал холода и попросил приюта у клирошанина Симеона. В этом доме он предсказал Марии рождение ею святого сына - святителя Стефана, ставшего впоследствии первым епископом Пермским: «Брате Симеоне, отселе веселися и не унывай» (Дит. по: Памятники древней письменности, 1893, с. 16]. Г.П. Федотов в числе первых русских юродивых выделял ещё Авраамия Смоленского, который «временно нёс тяжкое бремя юродства» и преподобного Кирилла Белозерского, для которого юродство мотивировалось «желанием избежать славы» [Федотов, 1999, с. 201].
Распространение феномена юродства на Руси предполагало создание жизнеописаний юродивых (житий). Становление житийного канона имеет длительную историю, начало которой, по мнению Т.В. Поповой, «следует относить к первым векам христианства». В своем классическом, «канонизированном виде жанр утвердился к VI веку» [Попова, 1975, с. 218]. С принятием христианства Русь восприняла предшествующую традицию: оригинальные древнерусские жития создавались с ориентацией на каноны, выработанные византийской агиографией. Жизнеописания людей, признанных Церковью святыми, содержались в памятниках русской агиографии (от греч. «агио» — святой), возникновение которой относятся к XI—ХП векам.
Древнейшим русским житием было «Житие Антония Печерского» — первого монаха, который поселился в пещере и подал пример к основанию «пещерного скита», превратившегося затем в прославленный Киево-Печерс-кий монастырь. «Житие Антония Печерского» до нас не дошло, однако на него ссылался, например, монах Поликарп (конец ХП-І пол. XIII века), один из составителей Киево-Печерского патерика. Аскетический подвиг Антония привлекал к нему людей. Первыми учениками Антония стали Никон и Фео досий. Как отмечает М.П. Погодин, «будучи с детства набожным, Феодосии носил вериги и мечтал о монашестве» [Погодин, 1999, с. 374]. По замечанию Л.А. Дмитриева, сведения о нём содержатся в «Житии Феодосия Печерско-го» (восьмидесятые годы XI века), из которого становится известно, что Феодосии, уйдя из дома, пытался принять постриг в киевских монастырях, но получал везде отказы в силу своего молодого возраста. Узнав о святом Антонии, Феодосии пришёл к нему и принял постриг, и позже, став игуменом Киево-Печерского монастыря, поражал окружающих своим аскетизмом и смирением. В рамках христианского подвига юродства Феодосии истязал свою плоть, спал только сидя, не мылся, только «руце умывающа», одевался настолько просто, что его принимали за убогого, смеялись над «худостью ризы» [Дмитриев, 1973, с. 404].
Далее сведения о юродивых отсутствуют вплоть до XFV века. По мнению A.M. Панченко, «расцвет юродства на Руси приходится на XV - первую половину XVII столетия» [Панченко, 1979, с. 93]. Почти те же границы определяет и Т.П. Федотов - XVI столетие [Федотов, 1999, с. 199]. Таким образом, XVI век (время правления Ивана Грозного) можно охарактеризовать как век русского юродства. Родиной русского юродства был Новгород. По свидетельству Г.П. Федотова, почти все известные русские юродивые XIV - начала XV веков связаны с Новгородом: «Здесь буйствовали в XIV веке Николай (Кочанов) и Фёдор, пародируя своими драками кровавые столкновения нов--городских партий. Когда один из них пытался перейти реку Волхов по мосту, другой гнал его назад, крича: «Не ходи на мою сторону, живи на своей!» По легенде, после таких боёв блаженным случалось возвращаться не по мосту, а прямо по воде, яко по суху!» [Федотов, 1999, с. 203]. Наиболее известные юродивые этого периода — святой Василий Блаженный, по прозвищу Большой Колпак,и святой Николай Псковский.
Первое полное, «каноническое» (А.И. Соболевский) «Житие св. Василия Блаженного» имеет несомненную художественную ценность: в нем дан традиционный набор стереотипов поведения юродивого: презрение к телу (на самых ранних иконах Василий изображен нагим), выражение общественного протеста («шалование» юродивого во дворце Ивана Грозного). Наряду с ранним существует и позднее житие, созданное уже в XVTH веке. Основной акцент в нём сделан на зрелищность юродства Василия Блаженного, описаны «игрища» на Красной площади, похожие на общедоступный театр Петровской эпохи. Данный вариант жития И.И. Кузнецов назвал «житием особого состава» [Кузнецов, 1913, с. 391-395], так как оно не даёт никаких сведений о подвиге Василия Блаженного и представляет собою собрание народных рассказов о нём. Образ святого Василия появляется в народной московской легенде, полной исторических небылиц, местами прямых заимствований из греческого жития св. Симеона, однако в народе этого юродивого чтили особо, о чём говорит посвящение ему храмов ещё в XVI веке и переименование народом Покровского собора, в котором он был погребён, в знаменитый Собор Василия Блаженного.
По замечанию С.А. Иванова, русские юродивые ориентировались, прежде всего, на образец известного «Жития Андрея Цареградского», вызвавшего многочисленные подражания. Житие это было написано в Византии, видимо, в X веке и вскоре переведено на славянский язык. Время жизни Андрея отнесено к V веку, а многочисленные несоответствия заставляют думать, что Андрей Юродивый является вымышленной фигурой, неслучайно и его житие называют «литературной фикцией» [Иванов, 1994, с. 213].
Существовали «Жития», созданные в честь почитаемых ещё при жизни юродивых - Авраамия Смоленского, Максима Московского, Николая Псковского Салоса, Михаила Клопского. В их аскетических подвигах отмечены общие черты: разыгрывание безумия, дар прорицания, обличение грешников. Наиболее известные юродивые Византии - преподобные Ефрем Сирин, Сер-впион Синдонит, Виссакрион Чудотворец, Фома, святой Симеон Эмесский (Симеон Столпник). Последним известным византийским юродивым был Максим Кавсокаливат.
Юродивые «Христа ради» в произведениях А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого
В творчестве русских писателей-классиков проблема юродства оказалась актуальной в связи с кризисом веры. Юродство осмыслялось как явление, утратившее поддержку официальной церкви и сохранившееся в массовом национальном сознании. По наблюдениям К.А. Янчевской, особые взаимоотношения юродивых и церкви обусловили тяготение Л.Н. Толстого к этому феномену, «что отвечало взглядам писателя в силу отрицания им церковной обрядовости и воплощения деятельной формы подвижничества» [Ян-чевская, 2004, с. 5].
Несмотря на общность взглядов писателей XIX века на проблему юродства, некоторые исследователи выделяют различие в авторском отношении к типу юродивого. Например, К.А. Дагаева отмечает, что для Л.Н. Толстого «юродивый лишь объект рефлексии главного героя, Нико-леньки Иртеньева, который постепенно сближается с Гришей, однако он остаётся для него чем-то сторонним ... . Для Достоевского юродство — акт саморефлексии героя, его важная, значительная, неотъемлемая составляющая часть характера, его психология». Истоки этих различий, по мнению исследователя, - социальные: «Достоевский изначально демократичнее Толстого, юродство для него оказалось органичнее» [Дагаева, 1998, с. 31-32].
В литературе XIX века проблема юродства актуализировалась и в связи с проблемой власти и народа. В этот историко-литературный период оказалась востребованной форма «природного» юродства - проявление психической болезни, как, например, в романе Ф.М. Достоевского «Идиот», главный герой которого, князь Мышкин, страдает душевной болезнью. Особенностью юродивых А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого является то, что они не являются главными героями произведений, как, например, в агиографической литературе. И пушкинский Николка, и толстовский Гриша занимают в произведениях этих писателей периферийное место, выражая при этом авторскую концепцию национального мира.
К типу юродивого «Христа ради» относится Николка, который появляется у А.С. Пушкина в единственной сцене трагедии «Борис Годунов». Как отмечала Н.К. Телетова, первоначально произведение задумывалось писателем по типу «летописи» или «древнерусской повести» и шутливо называлось: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве. Писал раб божий Александр, сын Сергеев Пушкин в лето 7333 на городище Воронине». Однако при первом издании драмы в 1830 году она получила название «Борис Годунов» [Телетова, 1999, с. 104].
По своей сюжетной роли в пушкинской трагедии юродивый Николка — второстепенный персонаж. Он участвует в сцене «Площадь перед собором в Москве», однако несет огромную смысловую нагрузку. Такие исследователи1, как Г.А. Гуковский, Б.П. Городецкий, СМ. Петров отмечали художественное мастерство и историческую достоверность этой сцены, в которой юродивый является «представителем народа и выразителем авторской позиции по отношению не только к Борису, но и к современным Пушкину самодержцам» [Гуковский, 1957, с. 42].
Николка почти прямо сравнивается с царем: «Чу! шум. Не царь ли? ... Нет; это юродивый» [Пушкин, 1969, с. 316]. По мысли С.З. Аграновича, «генетически образ царя и фигура юродивого, на уровне их народного осмысления, едины. Юродивый - русский средневековый вариант пророка. В сцене трагедии Николка оперирует приёмами и элементами игры в царя, одной из трёх, исполняемых на святках, среди которых представлены: игра в медведя, в «умруна» и в царя.
Особое внимание А.С. Пушкина привлекает колпак как элемент костюма юродивого. Идея создания Железного колпака принадлежит Н.М. Карамзину, которого писатель благодарит в письме к П.А. Вяземскому: «Благодарю от души Карамзина за Железный колпак, что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее!» [Пушкин, 2006, с. 166]. Головной убор, сделанный из тряпья, бересты или дерева, пародирует царскую корону: «Этот символ царской власти восходит к наиболее архаическому представлению о венке как знаке избранности и обреченности, к древнейшим обрядам увенчания, осмеяния, развенчания, убиения и оживления жертвы» [Агранович, 1989, с. 34]. Русская корона — шапка Мономаха — состоит из колпакообразного золотого головного убора восточного происхождения, увенчанного позже жемчужным крестом. Собственно короной его делает лишь меховая оторочка — венец. А.С. Пушкин не случайно «надел» на своего юродивого железный колпак. Такой головной убор был не только средством умерщвления плоти и привлечения внимания толпы, но и, подобно тому, как терновый венец Христа напоминал диадему иудейских царей, пародировал шапку Мономаха. Неудивительно, что вышедшего из собора Николку в шапке, где находиться в головном уборе могли только царь и юродивый, принимают за царя. Как и царь, он окружен «свитой» — мальчишками.
На двойную роль древнерусского князя обращает внимание и В.В. Иванов: «Князь сочетал в себе две власти: духовную и светскую — был вождём и жрецом одновременно ... , Со временем культовые смеховые действа приобретали всё более зрелищный характер — князь перестал принимать участие в них как жрец. Однако при нём продолжал находиться кудесник, который грозно и страшно пророчествовал князю. .. . Таким образом, именно роль грозного обличителя нравственных недостатков ... принял на себя новый «кудесник» — юродивый» [Иванов, 1994, с. ПО].
В сцене с юродивым А.С. Пушкин переосмысливает образ главного героя трагедии — Бориса Годунова, что подтверждает его письмо П.А. Вяземскому: «Благодарю тебя и за замечание Карамзина о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны: я его засажу за Евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное» [Пушкин, 2006, с. 166]. Именно для раскрытия духовно-нравственной стороны образа Годунова поэту понадобилось включить сцену с участием юродивого, обличающего тайные дела царя. Подобно летописцу Пимену, юродивый свидетельствует о царящем в мире зле. Появляется перед зрителем Николка не в замкнутом пространстве кельи, а на открытом пространстве соборной площади, среди людской толпы, как древнерусский юродивый.
Николка - юродивый «Христа ради», разыгрывающий свою роль перед собравшимися людьми. Он выпрашивает у старухи деньги за молитву: «Дай, дай, дай копеечку», а она просит: «Помолись, Николка, за меня грешную». И на своеобразном кодированном языке иносказаний он обещает, что помолится ночью, втайне от людских глаз, что было характерно для юродивых, совершавших ночные молитвы: «Месяц светит,/ Котенок плачет,/ Юродивый, вставай,/ Богу помолися!» [Пушкин, 1969, с. 316, 317].
Огромное влияние на создание образа юродивого Николки оказала «История государства Российского» Н.М. Карамзина, описавшего современника Бориса Годунова — Иоанна, юродствовавшего в Москве в конце XVI века, которого в народе называли Большим (или Железным) колпаком: «Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость: с распущенными волосами ходя по улицам нагой в жестокие морозы, он предсказывал бедствия и торжественно злословил Бориса; а Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа, или веря святости сего человека. Такие юродивые, или блаженные, нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека укорять в глаза беззаконною жизнию и брать все, им угодное, в лавках без платы: купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяют, что современник Иоаннов, Василий Блаженный, подобно Николе Псковскому, не щадил Грозного и с удивительною смелостию вопил на стогнах о жестоких делах его». Известно также, что когда Борис Годунов был фактическим правителем при царе Феодоре Иоанновиче, Василий Блаженный часто открыто говорил ему: «Умная голова, разбирай Божьи дела. Бог долго ждет, да больно бьет» [Карамзин, 2008, с. 967]. Н.М. Карамзин предоставил поэту материалы о святом блаженном Иоанне, за что тот был очень благодарен: «Благодарю от души Карамзина за то, что он мне присылает» [Пушкин, 2006, с. 165].
На точность изображения А.С. Пушкиным типа юродивого «Христа ради» обратил внимание Б.П. Городецкий: «Николка контаминирует в себе черты Ивана Большого Колпака, к которому отправляет описание его внешности в авторской ремарке, и Николы Псковского Салоса» рГородецкий, 1966, с. 446]. В житии о Московском Иоанне говорится следующее: «Стараясь обуздать плоть свою и довести её до совершенного изнеможения, он возложил на тело своё кресты с веригами железными и вверху главы колпак великий и тяжкий» [Житие Блаженного Иоанна Московского. Электронный ресурс]. Пушкинская ремарка близка по описанию облику юродивого: «Входит юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окружённый мальчишками», которые встречают его криками: «Николка, Николка — железный колпак!..» [Пушкин, 1969, с. 316].
Юродивые «справедливости ради» и юродивые «от революции» в произведениях Б.А. Пильняка
Интерес к феномену юродства можно обнаружить в творчестве Б.А. Пильняка, для которого Русь «... есть Россия с её Смутным временем, ... со старыми церквами, иконами, .. Иулианией Лазаревской», поэтому в его произведениях часто появляются персонажи, напоминающие древнерусских юродивых. Например, в его первом романе «Голый год» о России первых революционных лет, который принёс писателю международную известность, есть эпизоды с юродивыми, появляющимися в массовых сценах: «кабацкие ярыги, нищие, юродивые» [Пильняк, 2003, Т.1, с. 90], «пели, как калики, кла-нялись, просили милостыню, рассказывали, что .. . пригнал их голод, ходят ради Христа» [Там же, с. 26], а также создавая яркие образы отдельных персонажей со звучными именами, как, например «Тига-Гога», соглашавшегося «за гривенник выпить ведро воды» [Там же, с. 98] или «зарецкого сумасшедшего Ермилы-кривого» [Там же, с. 29], подобно Василию Блаженному, кидавшему камнями в икону (любил «в окна камнями садить»). Ярким персонажем, которому Пильняк «передал» дар пророчества, присущий древнерусским юродивым, стал Семён Зилотов. В романе «Голый год» он занимает периферийное место: о нём известно лишь, что он «жил, подобно раку-отшельнику» и, как в своё время Прокопий Устюжский, предсказавший Марии рождение ею святого сына, Семён предрекал России спасение: «- Через двадцать лет Россия спасётся ... будет спаситель. Россия скрестится с иностранным народом. Спаситель предается арабским волхвам. Я воспитаю» [Там же, с. 50, 49]. «Странность» Зилотова отмечал А.И. Солженицын: «Довольно странная «неразгадка» (что же хотел выразить автор?) с Семёном Зи-лотовым. Сперва узнаём его как сапожника, который как колдун варит какие-то жидкости в подвале, занят масонскими пентаграммами и вместо «ей Богу» употребляет «ей чёрту», а советскую власть называет «хамодержавием». ... Потом, контуженный снарядом, на месяц терял разум, а затем увлёкся задумкой: «Надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь». ... — Вряд ли фигура Зилотова просто случайна, для украшения сюжета. Вероятно, как и с Китаем, у автора тут лежит одна из его идей» [Солженицын, 1997, с. 197]. На наш взгляд, в лишённых логики и смысла предсказаниях своего героя Б.А. Пильняк хотел передать свою тревогу о будущем России.
Кроме Семёна Зилотова, в романе есть ещё несколько эпизодических персонажей, которым присущи черты юродивых. Это — летописец архиепископ Ордынский Сильвестр, рассказывающий в «История Великороссии, Религии и Революции» о людях, живших «в лесах, как звери», которые «ели всё нечистое», и о том, что так же, как у древнерусских «природных» юродивых, не имевших семьи, среди ордынских людей «браков не бывало». Эпизодическим является и персонаж, близкий по своей идеологии к типу юродивого с его отказом от мирских благ. Это Андрей Волкович, который «пришёл к мысли об иной свободе ... отказаться от вещей, от времени, ничего не иметь, не желать, не жалеть, быть нищим .. . пусть стихии взвихрят и забросят, всегда останется душа свежей и тихой» [Пильняк, 2003, Т. 1, с. 36, 88]. Как древние киники, считавшие, что человек должен быть абсолютно свободным, Андрей Волкович был убеждён, что его личная свобода состоит в том, что он ничего не имеет, даже «своего белья». Его мысли были обращены к прошлому, к раннехристианским идеалам. Он мечтал: «Пусть в России перестанут ходить поезда, — разве нет красоты в лучине, голоде, болестях? Надо научиться смотреть на все и на себя — извне, только смотреть, никому не принадлежать. Идти, идти, изжить радость, страданья» [Пильняк, 2003, Т. 1, с. 90]. Во всём Андрей терпел неудачи, вызывая сочувствие: он грезит о женщине, но ни с одной не нашёл счастья. А.И. Солженицын относил его к персонажам «из сочувственных для автора» [Солженицын, 1997, с. 199]. Сочувствие и жалость всегда вызывали и юродивые «Христа ради». Возможно поэтому в конце романа «Голый год» Б.А. Пильняк высказывает сомнение: «Вопрос один, - по-достоевски, — ... Глеб Ордынин и Андрей Волкович — ... не были ли этакими русскими нашими Иванушками-дурачками?» [Пильняк, 2003, Т. 1, с. 154].
Исследуя «романное целое» в творчестве Б. Пильняка, О.М. Кагирова находит в нём «постоянные аналогии и цитаты из русской классики (Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского)», считая, что «отсылки к произведениям отечественной литературы расширяют пространство романного текста, придают ему мифопоэтический характер» [Кагирова, 2006, с. 9]. Юродивые «Христа ради» Б.А. Пильняка своим внешним видом и «вымаливанием» милостыни: «- Подайте мииилостыньку Христаа раади!» [Пильняк, 2003, Т. 1, с. 92] напоминают пушкинского Николку из трагедии «Борис Годунов», просящего: «Дай, дай, дай копеечку» [Пушкин, 1969, с. 316]. Л.С. Чернов, изучавший проблему юродства в творчестве Н.В. Гоголя, отмечал «непонятность», которая коренится в отказе писателя «от реалистического описания окружающего мира и невозможности читать с «нормальной» точки зрения, с позиции здравого смысла» [Чернов, 2006, с. 104]. Как древнерусские юродивые, истязавшие себя предельным аскетизмом, которых описывал в своих произведениях Б.А. Пильняк, многие персонажи гоголевских произведений безразличны к материальным благам, живут в нищете. Например, «застенчивый, робкий» [Гоголь, 1984, Т. 3, с. 21] бессребреник художник Пискарев («Невский проспект»), зажиточный помещик Плюшкин («Мёртвые души»), дошедший в своей скупости до крайнего аскетизма и нищеты, одетый так убого, что если бы Чичиков «встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош» [Гоголь, 1984, Т. 5, с. 53]. Жалким чиновником, «неосознающим свой аскетизм» является Акакий Акакиевич Башмачкин («Шинель»), который так верно служил титулярным советником, как служат Богу, терпел насмешки и издевательства сотрудников, довольствовался мизерным жалованием, «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал бог на ту пору» (Гоголь, 1984, Т. 3, с. 64].
Создавая типы юродивых, Б.А. Пильняк обращался к опыту Ф.М. Достоевского. Эту черту - «использование готовых культурных кодов русской литературной классики» в творчестве писателя — отметил В.П. Крючков, проводя параллель между отцом и братьями Ордыниными из «Голого года» с отцом и братьями Карамазовыми (Евграф Ордынин - Фёдор Карамазов; Егор Ордынин - Дмитрий Карамазов; Борис Ордынин — Иван Карамазов; Глеб Ордынин - Алеша Карамазов) [Крючков, 2006, с. 28]. Сходство Евграфа Ордынина с Фёдором Карамазовым заметно и в его портретной характеристике: было в лице отца Ордынина «в глазах его, в горбатом его носе, в полуоткрытых губах, в бороде, всклокоченной и серой, — экстазное что-то — или, быть может, сумасшедшее?» [Пильняк, 2003, Т.1, с. 58]. Раздраженное, болезненно-сумасшедшее выражение лица было и у старшего Карамазова: «Под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми .. . к острому подбородку его подвешивался ещё большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелёк, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид» [Достоевский, 1976, Т. 14, с. 22].
Черты блаженных многие исследователи находят и в других персонажах Б.А. Пильняка. Например, Г.А. Анищенко назьгеаёт Глеба Ордынина «пильняковским Алёшей Карамазовым», который «мучительно пытается отыскать в революционной эпохе черты христианской допетровской Руси» [Анищенко, 1990, с. 244]. На Алёшу - чистого, наивного юношу, обладающего даром порождать «к себе особенную любовь... безыскусственно и непосредственно» [Достоевский, 1976, Т. 14, с. 19], похож Глеб с его «иконописным лицом». Брат Борис кричит на него в гневе: «Я и тебя презираю, Глеб, с твоей чистотой .. . ты чистый (целомудренный) уродился, к чёрту!» [Пильняк, 2003, Т.1, с. 60, 65]. И так же, как Алёша, который «обиды никогда не помнил» [Достоевский, 1976, Т. 14, с. 19], Глеб наставлял Бориса: «Ты помнишь? - «Мне отмщение, и аз воздам»...» [Пильняк, 2003, Т.1, с. 63]1.
«Чудизм» как состояние души шукшинских героев
В.М. Шукшина всегда волновали причины драматических противоречий между внутренним миром человека и социальной действительностью и то, как они преломились в его духовном и нравственном мире.
И.Н. Сухих, рассуждая о существовании «четырёх сфер мировой литературы: I: когда верхние изображают верхних, П: когда верхние изображают нижних, «младшего брата». Ш: когда нижние изображают верхних. IV: нижние - нижних, себя», отмечал, что «Шукшин шёл «снизу», но ушёл далеко, в глубину, где понятия «верха» и «низа» теряют смысл» [Сухих, 2001, с. 223]. Прав был и В.А. Чалмаев, замечавший, что «в России писатель рождается ... не тогда, когда захочет, а когда его нетерпеливо ожидают, когда ... «проблемы жизни» не могут быть высказаны никакими иными средствами, кроме слова» [Чалмаев, 2009, с. 3]. Так и В.М. Шукшин «появился» в нужное для России время, ибо и во второй половине XX века из жизни не исчезли «странные» люди, нелепые, иногда смешные, иногда страшные. «Нелепость», которую исследовал В.М. Шукшин, СП. Залыгин определял как «шукшинский чудизм», в котором проявлялось состояние души человека в переломное время: «Чудакам мы делегируем свои права и судьбы .. . Чудик Шукшина больше или меньше, но всегда сам себе делегат, сам себе трибун .. . Уж не есть ли это наша российская судьба?.. Если шукшинский «чудизм» в своё время ограничивался сельской или пригородной местностью, то нынче он приобрёл государственное значение» [Залыгин, 1992, Т.1, с. 8, 10]. Из прозы, созданной писателем, которая, по замечанию И.Н. Сухих, «расслаивается на жанры и уровни», «лишь в одном жанре Шукшин шёл путём истинной литературы, ... В романах и повестях персонажи слишком послушны авторской воле ... . Главной его книгой стал сборник «Характеры». Это не просто книга, но формула целого» [Сухих, 2001, с. 223—224]. С ним соглашается и Ю.И. Минералов, высказавший мысль о том, что рассказы писателя «в некоторой степени дополняют друг друга, становясь необходимым условием целостности феномена, именуемого прозой Василия Шукшина» [Минералов, 2010, с. 13]. Исследуя структуру шукшинского рассказа, И.Н. Сухих отмечает, что писатель «резко ломает наработанные схемы. ... Исчезает прямая характеристика персонажа» [Сухих, 2001, с. 224]. Минимальную роль автора и его оценки отмечает и С.С. Имихелова: его «рассказы продолжают, на первый взгляд, поэтику чеховского1 — объективного — повествования, в котором устранена субъективность рассказчика, его позиция сугубо нейтральна и господствует точка зрения и слово героя» [Имихелова, 1999, с. 21—22].
В каждом шукшинском характере была некая «изюминка», выделяющая его из толпы. СП. Залыгин по этому поводу заметил, что В.М. Шукшин был «открывателем характеров, которые, не будучи исключительными, обязательно несут в себе что-то особенное, то, что утверждает в них их собственную, а не заемную личность» [Залыгин, 1982, с. 102].
Персонажи В.М. Шукшина, по мнению многих исследователей, соответствуют «моделям» человеческого поведения, проявляющегося в различных жизненных ситуациях. Например, по мысли Г.Г. Хисамовой, поиск национального шукшинского характера выразился «в создании своеобразного типа героя — «чудика», обычного человека с необычным складом души» и сложным характером, который стремится постичь движения собственной души и смысл всей жизни, которому свойственна «эксцентричность, импульсивность, непредсказуемость поведения». «Чудик» «совершает логически необъяснимые поступки, вызывая удивление и недоумение у людей» [Хисамо-ва, 2004, с. 52]. В связи с этим, по замечанию И.В. Новожеевой, «в науке не существует однозначной оценки шукшинского героя. Исследователи подходят к истолкованию типа «чудика» с позиций традиционных литературных типов, например, «маленького человека» (И.П. Золотусский), «юродивого» (Е.В. Черносвитов), наследника «лишних людей» И.С. Тургенева и «праведников» Н.С. Лескова (Е.А. Вертлиб). В западной критике характер шукшинского героя либо оказывается непонятным и истолковывается как проявление загадочной русской души, либо рассматривается с сугубо политических критериев и причисляется к «классическим жертвам советского социального эксперимента» (Дж. Хоскинг)» [Новожеева, 2007, с. 15-16].
При всём многообразии синонимичных терминов, тип шукшинского «чудика» остаётся уникальным, отражает самобытный русский характер, архетип русской души. На эту характерную национальную особенность обратил внимание В.П. Астафьев: «В селе нашем, что ни двор, то причуда иль загиб какой, если не в хозяйстве, то в хозяине» [Астафьев, 2003, с. 523]. Эту особенность сам В.М. Шукшин объяснял так: «Есть на Руси ... тип человека, в котором время... вопиет так же неистово, как в гении, ... Человек этот — дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, странники не от мира сего - много их было в русской литературе...)» [Шукшин, 1994. Т. 5, с. 402], поэтому его героев, как замечал В.А. Чалмаев, многие исследователи обвиняли в «чудизме», называли «тихопомешанными правдолюбцами», а рассказы писателя считали «историями придуривания, демонстрацией аномальности» [Чалмаев, 2009, с. 16].
Своеобразие шукшинского героя с «чудинкой», носителя «душевности и спонтанной духовной нации» отмечала И.П. Захариева: «В критике он получил наименование «чудик» (после появления одноимённого рассказа). Типажи - антагонисты «чудика» называют его «придурком» и «клоуном» [За-хариева, 2008, с. 195]. «Чудики» и «придурки», несомненно, вызывали симпатию и сочувствие у писателя. В.А. Чалмаев обратил внимание на позицию автора при создании своих рассказов, «который неизменно радуется мгновениям, когда его герои «выдрючиваются», «чудесничают», «выпадают» из нормы будней, и относится к своим персонажам с «эпическим любованием». Создавая свои «антиновеллы», цепочки «случаев», часто абсурдных, Шукшин верил, что «невероятности», «причуды его «чудиков» всё же истиннее, живее банального скучного хода событий» [Чалмаев, 2010, с. 16,17]1.
«Странность», «непрактичность» и «неприспособленность» шукшинского героя проявляется в основном в его поведении. За кажущимся внешне необычным поступком «чудика» скрыта вполне адекватная реакция человека, которая в определенной ситуации проявляется в причудливых формах. И.В. Новожеева считает, что «нравственно-психологический облик чудика слагается из ряда параметров, важнейшим из которых выступает экстравагантность поступка. Эстетика поведения героя в её авторском видении (интонации, жест, мимика, .. . самое важное — поступок) необходима для уяснения специфики словесно-художественного воплощения человека. Чудачество является самой яркой характеристикой героя, определяющей его внутреннюю сущность, знаменующей ту пропасть, что отделяет их мир от окружающей действительности и её «героев» — «крепких мужиков», хамов, чиновников, продавцов, псевдоинтеллигентов» [Новожеева, 2007, с. 17].
Именно такой экстравагантностью поведения отличался герой рассказа «Чудик» - Василий Егорыч Князев. Автор настойчиво подчеркивал чудаковатость, которая отличала его от других, «правильных» людей, и состояла в его правдолюбии, совестливости, доброте. Перед нами проходит цепь историй, — «мелких... но досадных», в которые «то и дело влипал» Князев. Имени его автор еще не называл, но рассказ начал так: «Жена нежно называла его — Чудик. Иногда ласково». Рассказ построен в форме изложения событий, случившихся во время поездки Чудика к брату на Урал, когда с ним произошёл эпизод, в котором раскрылись такие прекрасные его качества, как честность, скромность, застенчивость: «...глянул, на полу-то ... лежит в ногах у людей пятидесятирублёвая бумажка... .. . Второпях .. стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать .. про бумажку. — Хорошо живете, граждане! ... У нас, например, такими бумажками не швыряются» [Шукшин, 1994, Т.4, с. 223]. Но потом Чудик с ужасом обнаруживает: «- Моя была бумажка-то!» [Там же, с. 224].