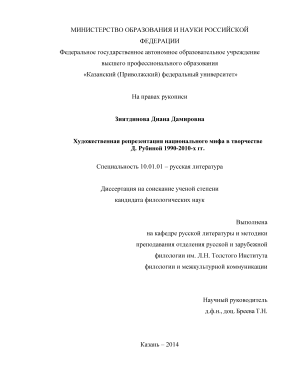Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Процесс нациомоделирования в творчестве д. Рубиной 1990-2010-х гг. 16
Глава 2. Городской текст как способ конструирования европейской «танатологии» 35
2.1. Мортальная семантика венецианского текста Д. Рубиной 35
2.2. Пражский текст Д. Рубиной как «квинтэссенция» европейской мортальности 43
Глава 3. Модель европейского иного в творчестве д. рубиной 1990-2010-х гг. 52
3.1. Кумулятивный образ Бельгии как одна из форм художественной репрезентации «воображаемой» Европы 52
3.2. Модель европейского Чужого Другого 56
3.2.1. Концепт Германия как воплощение модели Чужого в травелогах и романах Д. Рубиной 56
3.2.2. Динамика концепта Франция в творчестве Д. Рубиной: от Чужого к Другому 69
3.2.3. Концепт Голландия как воплощение модели Другого в прозе Д. Рубиной 86
3.3. Модель европейского Своего Другого в творчестве Д. Рубиной 1990-2010-х гг. 91
3.3.1. Динамика художественной репрезентации концепта Испания в прозе Д. Рубиной 91
3.3.2. Взаимосоотнесенность моделей нации-«двойника» и нации-«соперника» в структуре концепта Италия 123
Глава 4. «Русский» текст в прозе д. рубиной 131
4.1. «Дискурсивная» стратегия как форма реализации «русского» текста 132
4.2. Концепт Россия в творчестве Д. Рубиной 140
Глава 5. Модель национального воображаемого в творчестве д. рубиной 1990-2010-х гг . 148
5.1. Ресемантизация еврейского национального характера в прозе Д. Рубиной 148
5.2. Нациошафт в творчестве Д. Рубиной 156
5.2.1. Иерусалимский текст Д. Рубиной 156
5.2.2. Концепт Восток в прозе Д. Рубиной 169
5.3. «Иаковский код» как способ репрезентации культурной модели еврейской национальной идентичности 188
Заключение 200
Библиографический список 2
- Пражский текст Д. Рубиной как «квинтэссенция» европейской мортальности
- Концепт Германия как воплощение модели Чужого в травелогах и романах Д. Рубиной
- Концепт Россия в творчестве Д. Рубиной
- Иерусалимский текст Д. Рубиной
Пражский текст Д. Рубиной как «квинтэссенция» европейской мортальности
Обращение Д. Рубиной на этапе первичной национализации к травелогу («…Их бин нервосо!», «Воскресная месса в Толедо», «Джаз-банд на Карловом мосту», «По дороге из Гейдельберга», «Коксинель», «Холодная весна в Провансе», «Школа света», «Вилла “Утешение”», «Гладь озера в пасмурной мгле»), определяющему в прозе этого времени и художественное своеобразие романной формы («Вот идет Мессия!», «Последний кабан из лесов Понтаведра»), представляет собой сознательную авторскую стратегию в реализации процесса нациомоделирования. Жанровая модель травелога позволяет открыто реализовывать как процессы самоидентификации, так и процессы миромоделирования : «чувство национального самоопределения никогда не является только восприятием …> собственного национального бытия. Оно всегда определенным образом соотносится с восприятием других наций» [146]. В силу этого «текст топоса», о котором пишет Э.Ф. Шафранская, формируется лишь в построссийском творчестве писательницы, когда становятся актуальными процессы нациомоделирования. Так исследовательница отмечает, что не имевшая географического измерения доэмигрантская проза Д. Рубиной «обретает черты “текста топоса”» лишь после репатриации в Израиль, когда возникают израильское, ташкентское и российское пространство, делая вывод о том, что «опосредованность и остраненность» становятся «необходимыми составляющими» для возникновения «собственно “географического текста”» [303: 14].
Формируемый в травелогах Д. Рубиной «топо-текст», реализуемый преимущественно через концептосферу Европы, служит вместе с тем отражением характерного для творчества писателей-эмигрантов «географически-ориентированного вписывания» [108: 205]. Так, исследуя своеобразие эмигрантского творчества писателей «третьей волны» , Л. Бугаева в качестве его основных примет называет автобиографизм и стратегию вписывания, рассматривая их в динамике как отражение процесса реидентификации: «Писатель-эмигрант постсоветского периода в автобиографическом художественном повествовании создает окружающее пространство и свой авторефлексивный образ, переходя к стратегии вписывания в пространство эмиграции/экспатриации в противовес состоянию безместности. …> Вписывание, как и отчуждение, происходит либо в форме пространственных построений, основанных на реальной или магической географии, либо в метафорической форме, то есть в непространственном измерении» [108: 204 – 205]. Особое положение концептосферы Европы, выступающей на этапе первичной национализации одной из основных форм художественной репрезентации национального мифа, обусловливается ее референтной природой: «у каждой национально-этнической группы имеется свой собственный круг национальных и этнических сообществ, с которыми идет постоянное психологическое сопоставление. Это сопоставление и составляет содержание национального самосознания, которое представляет собой ключевое понятие релятивистской теории наций. В известном смысле можно сказать, что русские обладали бы иным национальным самосознанием, если бы не было, например, немцев …> Другой момент, связанный с идеей референтности национального самосознания, состоит в том, что в рамках каждого национального самосознания складывается своя собственная иерархия “значимых других”» [147: 115]. В роли «значимых других» по отношению к Израилю в творчестве Д. Рубиной выступают Россия, арабский мир и Европа. Вычленение данного круга референтных наций связано в творчестве Д. Рубиной как с биографическим контекстом (Россия), так и с собственно израильским социополитическим контекстом (Европа, арабский мир): израильско-палестинский конфликт, как и дискуссии о легитимности «новой» страны, ставят Израиль в число стран, вынужденных и по сей день «легитимизировать свое национальное пространство» [279: 56]. Однако, несмотря на множественность «значимых других», собственно референтной группой по отношению к Израилю выступают лишь арабский мир и концептосфера Европы. Из них наиболее «значимым другим» является европейский Иной , а не арабский Чужой.
Россия не вполне актуальна для Израиля как референтная нация и образует в творчестве Д. Рубиной собственный «русский текст» . Подобное положение «русского текста» в общей системе национальной концептуализации объясняется отсутствием в отношении него зеркальной функции: «какими бы признаками не обладал Другой/Чужой он в любом случае выступает в качестве своеобразного зеркала, в котором отражается общество …> общество всматривается в это зеркало, пытаясь обнаружить в нем себя, идентифицировать и дифференцировать свою самость» [315: 243], тогда как остальные референтные группы в творчестве Д. Рубиной характеризуются наличием «зеркального» или «кривозеркального» потенциала. «Зеркальность» (идентификация) активизируется в отношении концептов, связанных с образом Своего Другого и предполагающих актуализацию механизма присвоения. «Кривозеркальность» (дифференциация) связана с концептами, относящимися к моделям Другого и Чужого Другого.
Способом структурирования концептосферы Европы становится дихотомия Свой/Чужой и определяемая ею дискурсивная организация концептов. Знаком опосредованной реализации механизма отчуждения, формирующего пространство европейского Чужого, служит обращение к бинарной модели мира, с «витально-мортальной» структурной организацией, где витальное начало связывается с национальным (еврейским)/«своим» миром, а пространство европейского Чужого соотносится с мортальной семантикой. Смысловые полярности при этом маркируются урбанистическими текстами, реализующими мортальную семантику путем трансляции/трансформации существующего семантического поля пражского и венецианского текстов, и метаобразом «воображаемой» Европы, представленным, в первую очередь, кумулятивным образом Бельгии.
Концепт Германия как воплощение модели Чужого в травелогах и романах Д. Рубиной
Обращение к новелле Э.Т.А. Гофмана позволяет наиболее полно раскрыть негативную семантику образа куклы через фиксацию характера ее отношения к окружающему миру, сводящегося к агрессивному стремлению уничтожить человека (Натанаэля/Лизу). В целом, треугольники Эллис – Петр – Лиза и Олимпия – Натанаэль – Клара и развитие отношений между их участниками тождественны. В новелле Э.Т.А. Гофмана кукла Олимпия вытесняет невесту Натанаэля Клару. То же происходит с Петром Уксусовым – в его снах созданная им кукла Эллис требует, чтобы он убил свою жену Лизу, чьей копией она является, ведь она (Эллис) может заменить ее и на сцене, и в жизни героя. В новелле Э.Т.А. Гофмана образ Олимпии противоречив: отмечается его привлекательность и негатив, который несет взгляд куклы (в романе Д. Рубиной этому соответствует улыбка Эллис). В «Синдроме Петрушки» также отмечается неоднозначность восприятия героями идеальной куклы: «…очаровательная, ужасная кукла Эллис, копия Лизы. Копия точная до оторопи; настолько точная, что делалось страшно» [46: 69].
Диалог с Г. Майринком обнаруживается в осмыслении самого феномена голема: оживший страж гетто осознается автором не столько как физическое создание, а скорее как существо метафизическое, отнимающее душу встретившегося ему человека: «Она жена Гиллеля – Д.З.> была вполне уверена в том, что это могла быть только ее собственная душа. Выйдя из тела, она стала на мгновение против нее и обликом чужого существа заглянула ей в лицо» [68: 270]. Подобное восприятие голема характерно для иудейской культуры, где «в големе иудей видит не просто нечто внешнее, забавное или печальное, в нем он видит самого себя, свое “Я”» [139]. Так, в романе «Синдром Петрушки» Лиза говорит о том, что для создания Эллис была использована не только ее внешность, но, что важнее всего, ее душа, и это подтверждается началом болезни Лизы после создания Эллис. Романы Г. Майринка и Д. Рубиной роднит сближение образов голема и куклы. Так, в романе Майринка голем, по мнению А. Дугина, начинает связываться с образом куклы, представляя собой «немую машину», «пустую форму, реагирующую лишь на внешние механические раздражители и слепо подчиняющуюся воле манипулятора»: «Голем и есть “скорлупа” (“клиппот”), отдельная от духовного зерна материальная кукла» [138]. Тождественен характер взаимоотношений героев с големом у Г. Майринка и Д. Рубиной, когда встреча с големом воспринимается как «борьба человека за свою идентичность» («Шаг за шагом отстаивал я мою жизнь, жизнь, которая уже принадлежала не мне» [68: 313]). При этом важно отметить, что в романе Д. Рубиной идентификация связывается как с национальной самоидентификацией, так и с «экзистенциальной», майринковской, и если национальный аспект идентичности применим в отношении Лизы, то в отношении Петра актуализируется именно майринковский уровень понимания самоидентификации. Петр «окукливает» окружающий его мир, утверждая превосходство кукольного над живым, кукол над людьми, итогом чего становится создание «правильной» Лизы – Эллис, что связывается с «“големизацией”, заменой живого мертвым» [138]. Подобно Вассертруму он «убивает все живое» [138], становясь «демоническим духом, оживляющим мир “клиппот”, мир “скорлупы”, заставляющим его претендовать на абсолютность и самодостаточность» [138]. С ним связывается мотив оживания материи, герой выступает создателем голема. Вместе с тем важным в отношении Петра становится преодоление этого кукольного плена через обретение своего истинного Я, уничтожение кукольности в себе.
Связь с романом Г. Майринка обнаруживается и на образном уровне. Так, можно выстроить следующие пары: Эллис – Ангелина, Эллис – голем, Лиза – Розина, Лиза – Мириам, Петр – Атанасиус Пернат. Образы голема и Ангелины в романе Г. Майринка во многом тождественны, благодаря их причастности к сфере бездуховной материи, лишающей человека способности самоидентификации и духовного роста. Подобная трактовка материального созвучна традиции Каббалы, в которой «все внутреннее, духовное считается позитивным и ценным, а все внешнее – демоническим и негативным. У каббалистов есть специальное название для внешнего мира – “Клиппот, скорлупа”. Изображение демонического мира как “скорлупы”, и ангелического, духовного мира как “зерна” является одной из излюбленных метафор адептов Каббалы» [138]. Возникает мотив прохождения человеком испытания «внешним» миром, когда неудача ведет к безумию и смерти. Подобная трактовка материального и мотив испытания им роднит образы голема, Ангелины и Эллис. Эллис, называемая в романе Д. Рубиной големом и через это сближающаяся с големом Г. Майринка, близка к Ангелине своей исключительной привлекательностью, и искушение этой «красотой» должны выдержать как Петр, так и Атанасиус Пернат, поддающиеся на время соблазну мира «клиппот». Утверждение негативности, агрессии пражского мира по отношению к национальному (еврейскому) возникает через характер взаимоотношений Лизы и Эллис, выступающей концентрированным воплощением кукольности Праги (жизнь Эллис неизбежно связывается со смертью Лизы и наоборот, жизнь Лизы невозможна без уничтожения Эллис). Кроме этого можно отметить связь Ангелины и Эллис с концептосферой Европы на основе ономастической характеристики: создается оппозиция имен Эллис, Ангелина (христианство) и Лиза/Елизавета, Мириам (иудаизм).
Возможность сближения образов Розины и Лизы обусловлена их портретным сходством (рыжие волосы) и, что важнее, своеобразной хтоничностью: в обоих случаях происходит загадочное рождение исключительно девочек, в точности повторяющих черты лица матери [68: 271]; [46: 231 – 232]. Само рождение героинь окутывается тайной: «Относительно Розининой матери тоже не знали, кто ее отец, и даже, что с ней стало» [68: 271]. В романе Д. Рубиной тайна рождения связывается с куклой корчмаря, обеспечивающей появление дочерей [46: 197]. Параллель с Мириам возникает благодаря той роли, что отведена им в судьбе их избранника, обе они являются по сути «инициатическими женщинами» [138]. Так же как Мириам помогает Пернату пройти через испытание с големом и искушение Ангелиной, так и Лиза выводит Петра из его кукольно-големного плена. Происходит «расколдовывание» Петра Лизой в ипостаси Мириам.
Потенциально в Лизе присутствуют ипостаси и Розины и Мириам, обусловливающие ее внутреннюю раздвоенность, ведущую к психическому расстройству. Можно говорить о внутренней эволюции Лизы, выступающей в начале романа преимущественно в ипостаси Розины и переходящей позднее к ипостаси Мириам через включенность в национальный (еврейский) мир. Не случайно, выздоровление Лизы происходит в пространстве Израиля, неизменно подчеркивается дистанцированность ее от пражского пространства, где существование героини ограничивается пространством квартиры, функционально сближающейся по отношению к ней с пространством гетто. Помимо этого сближение Лизы с израильским миром происходит через активизацию мотива родовой памяти. В свою очередь эволюция Лизы обусловливает изменение семантики пражского текста: переход ее от одной ипостаси к другой, ведущий к ее «вхождению» в национальный (еврейский) мир, ведет к усилению мортальной семантики пражского текста.
Таким образом, неизменной приметой пражского мира становится утверждение его негативной семантики, раскрываемой как через психологический (обращение к образу Кафки), так и символический (големно-кукольная история) уровни пражского текста, что позволяет Д. Рубиной утвердить его принадлежность к европейской «танатологии». Мортальность пражского пространства поддерживается характером отношений между Прагой и представителями еврейского мира (Кафка, Лиза), для которых город, продолжая сохранять семантику гетто, становится местом болезни. В целом, венецианский и пражский тексты в творчестве Д. Рубиной выступают кумулятивным выражением «чуждости» европейского мира, что определяет своеобразие их структурно-семантической организации. Художественная репрезентация городского текста неразрывно связывается с активизацией мортального кода, являющегося результатом простой трансляции сложившейся литературной традиции или авторской игры с ней. Наиболее ярким примером этого может служить трансформация карнавальности в маскарадность относительно венецианского текста, а также взаимодействие мотивов кукольности и големности в пражском тексте.
Концепт Россия в творчестве Д. Рубиной
Реализация приема присвоения на этническом уровне обусловливается актуализацией мифологемы крови, важной как для травелога, так и для романа: «национальное тело Испании пронизано токами тревожной и обожженной еврейской крови» [14: 453]; [14: 353 – 354]. Кровь становится силой неподвластной времени, уходящей в глубь веков. Так, действие ее выражается в портретном сходстве испанцев и евреев: «все твои испанцы похожи на настоящих евреев» [14: 478]. Портретное сходство гиперболизируется, что проявляется в абсолютной неразличимости, что находит отражение и в травелоге и в романе: «То Мишка Бяльский … невозмутимо прошествует мимо по переулку в Севилье. То Марк Галесник на чистейшем испанском объяснит, как пройти к музею Санта Крус в Толедо. То в коридоре барселонской гостиницы я ринусь к троюродной сестре: “Женька! Ты как здесь очути…” – а это горничная Франсиска Монтальбана пришла убирать наш номер…» [14: 453].
Механизм присвоения определяет также мифологизацию испанского текста, имеющую двухуровневый характер: во-первых, это «частный» миф, вариантами его являются авторский миф и история рода Кордовера; во-вторых, происходит выстраивание именного мифа, обусловившего обращение Д. Рубиной к образам Эль Греко и Х. Колумба с их последующей «национализацией».
Механизм присвоения наиболее полно реализуется в мифе Х. Колумба. Христофор Колумб, загадка происхождения которого позволяет писательнице ввести его в национальный мир, воспринимается повествовательницей, прежде всего, в роли организатора экспедиции по поиску потерянных колен израилевых. Основанием для этого становится статья «Парус надежды» «авторитетнейшего исследователя еврейской истории» [14: 452] Симона Визенталя. Так, доказательствами «еврейскости» Колумба в данном контексте выступают такие документальные основания, как стилистика его писем и записей [14: 452], их содержание [14: 452], частые обращения путешественника к еврейскому летоисчислению [14: 453] и многозначным цитатам [14: 465], наконец открытое самопозиционирование Колумба как «слуги Господа, которого почитал Давид» [14: 452]. В качестве поддерживающих данную версию приводятся также «косвенные доказательства», связанные с вопросами финансирования экспедиции [14: 464] и протекции перед королевским двором [14: 465].
В отличие от Колумба, принадлежность которого к еврейскому миру имеет «документальные» доказательства, «еврейскость» Эль Греко имеет более «квазидокументальные» основания: это предположительно еврейские корни его жены , а также исследование его творчества Захаром Кордовиным, его статья «Влияние Востока на творчество Эль Греко» и архивные разыскания таинственного Хесуса. Необходимо отметить динамику именного мифа Эль Греко в творчестве Д. Рубиной. В «Воскресной мессе в Толедо» происходит простая констатация того, что Эль Греко жил рядом с еврейским кварталом, а дона Херонима обладала «внешностью кроткой еврейской девушки» [14: 453] без попыток утверждения их «еврейскости». Позднее, в романе «Белая голубка Кордовы» вопрос о вероисповедании художника решается в пользу иудаизма: «Грек со своей таинственной Херонимой сочетались браком секретно, причем по еврейскому обряду» [8: 173; 176].
Основанием для «присвоения» Эль Греко становится своеобразие творческой манеры художника, позволяющее ввести его в «свой» мир: его мышление – это мышление «художника в гетто» [8: 125]. В исследовании Захара обозначается особая пространственная организация полотен художника: «эта уплощенность пространства на его полотнах – мощная рифма стилистике византийского Востока. Да и Востока вообще: картина – как резьба по алебастру. Он недаром был критским иконописцем: его фигуры стиснуты в таком пространстве, где у них нет возможности двигаться…» [8: 125]. Византийское при этом сближается с национальным через доминанту духовного над материальным: «У Эль Греко же фигуры озарены будто светом молнии, навсегда пригвождены к холсту и подчинены принудительной нарочитой структуре движения. Так мыслит иконописец или… художник в гетто: когда выход только один – вверх» [8: 125]; «гениальное “Непорочное зачатие”, 1612 год … пространство уплощено, физиология стиснута, а пленный дух рвется вовне » [8: 148].
Дальнейшее развитие испанский текст Д. Рубиной получает в «Белой голубке Кордовы», романе, во многом созвучном травелогу. В целом, как в травелоге, так и в романе можно говорить о работе Д. Рубиной с единым смысловым комплексом, включающем в себя такие компоненты как дуальная дискурсивная организация, взаимодействие внешнего и внутреннего сюжетов, обращение к сюжету самоидентификации , мифологии родства, мифологеме крови, мотивам родового наследства и памяти . Если в травелоге испанский текст был доминирующим, то в романе он локален и создает своеобразное «обрамление», открывая и завершая историю главного героя. При этом целесообразным представляется рассмотрение его в свете анализа жанровой организации романа, представляющей собой взаимодействие двух жанровых моделей: авантюрно-приключенческого романа и триллера.
Испанский текст «Белой голубки Кордовы» отнесен к внутреннему сюжету самоидентификации/сюжету Кубка, представленному жанровой моделью авантюрно-приключенческого романа , определяющему своеобразие разработки образа главного героя, хронотопа романа, его мотивной структуры (мотивы встречи/не-встречи, узнавания/неузнавания, родового наследства). Внешний же сюжет романа, сюжет мести, отнесен к жанровой модели триллера. Он обращен к истории смерти Андрюши и развитие его связывается с ретроспективным движением (дружба Захара и Андрюши) и настоящим временем, «охотой» Захара на Босоту. В романе происходит постепенное «разрушение» формата триллера, что проявляется в разработке поведенческой модели героя (в романе действия героя неоднократно вступают в конфликт с жанровой интенцией триллера, наиболее ярким примером этого становится отказ героя от активного сопротивления надвигающейся опасности), ведущей, в свою очередь, к возникновению квази-кульминации (несостоявшееся убийство Босоты) и своеобразию развязки . Так, месть Захара Босоте связывается с возникновением квази-кульминации: она не только не осуществляется, но и утрачивает в глазах героя значение «дела» всей жизни. Истинной же кульминацией становится встреча Захара с кубком, обретение им своего «Удела». Важно отметить, что сюжет самоидентификации в романе оборачивается в итоге «испытанием героев … на самотождественность», названным М.М. Бахтиным «основным композиционным (организующим) мотивом» авантюрного романа испытания [89]. Изменив смысловое наполнение данной цитаты относительно контекста рассматриваемого романа (мотивы встречи – разлуки – поисков – обретения будут активированы относительно Кубка, тождественность героя себя не будет предполагать его неизменности), в остальном мы можем отметить достаточно точную реализацию данного сюжета.
Иерусалимский текст Д. Рубиной
Сам характер этой территориальной экспансии оказывается вневременным: упоминание арабо-испанских войн позволяет воспринять агрессию сегодняшнего дня лишь как повторение уже произошедшего: «в середине двадцатого века забывчивая Европа зазывает все тех же мавров на свои зеленые лужайки и мытые шампунем мощеные улочки: приходите, тетя кошка, нашу мышку покачать… И вот минуло каких-то несколько десятилетий… и уже гордая Европа дрейфит перед новыми гуманитарными курсив автора – Д.З. ордами, оступается, пятится, извиняется за все причиненные беспокойства, платит отступные, пособия, стипендии и гранты, но поздно…» [8: 88].
Еще одной формой экспансии становится культурная, в отличие от территориальной относимая исключительно к европейскому миру: «куфия на шее – сейчас не более чем знак принадлежности к некоему европейскому клубу интеллектуалов. Сегодня только ленивый Олаф, Жак или Ханс не оборачивают шеи этим бедуинским платком. Обаяние чужой расы…» [8: 87]. В отношении же еврейской культуры скорее актуализируется стремление арабского мира уничтожить ее, как это свойственно варварским захватчикам по отношению к захватываемой ими цивилизованной культуре: «арабы ночью пробрались сюда и раскололи жернов. Наверное, это было трудно сделать, но они не пожалели сил. Унести не смогли. Но если отдать им этот холм, они превратят в крошево все памятники нашей истории, которые мешают им доказывать, что нас здесь никогда не было…» [15: 201].
Варварство как константная примета арабского мира, неспособного к прогрессу и движению к цивилизации, усиливается благодаря проекции на него европейской средневековой жестокости: Европе, переступившей костры инквизиции, противопоставляется арабский мир с его остановившимся временем, столь же далекий от цивилизованности, как и средневековая Европа. Наиболее открытой реализацией подобного тождества становится композиционное решение повести «Туман», где писательница обращается к излюбленному приему: свой текст она сочетает с чужим, как это происходило в «Джаз-банде на Карловом мосту», «Холодной весне в Провансе». В качестве чужого текста здесь выступает книжечка «Ведьмы и колдуны», которую читает дочь следователя, расследующего убийство арабской девушки. Это книга об «охоте на ведьм в западноевропейских странах» [49: 580], когда любая женщина или даже ребенок могли попасть под суд инквизиции, обрекавший их на казнь. Герой отмечает близость современного арабского уклада этому средневековому мракобесию: «Род приходит и род уходит, и ничего не меняется в этих деревнях с их вековечным укладом, сиди здесь наместник Оттоманской империи, британский комиссар или начальник следственной группы полиции Израиля. Покончила девушка с собой, или ей помогли родственники … никто из полутора тысяч живущих в деревне мужчин и женщин не посочувствует жертве и не поблагодарит полицию» [49: 583]. Слова жены следователя также подчеркивают повседневный характер средневековой жестокости в арабском мире: «Что тебе далась именно эта средневековая казнь несчастной старой девы?.. У тебя подобных дел – вагон и тележка... Они так веками жили и жить будут еще сто веков именно так» [49: 595 – 596]. Господство ориенталистского дискурса в построении образа арабского Чужого определяет необходимость присутствия цивилизаторской силы в этом мире хаоса, варварства, жестокости; силы, способной усмирить кровожадного дикаря. Воплощением этой силы становится следователь, принадлежащий миру цивилизации, гуманизма, закона (символичным является его двойное образование: он был вынужден по настоянию матери бросить консерваторию после третьего курса и поступить на юридический; как результат этой сопричастности миру высокого искусства он особенно остро чувствует всю жестокость и бессмысленность происходящего).
В целом, восприятие конфликта с арабским Чужим приобретает вневременной характер, благодаря частому обращению к мотиву остановившегося времени, подчеркивающего принципиальную неразрешимость существующего арабо-израильского конфликта: «Ты забыл текст “Коэлет”, – насмешливо и нервно ответил молодой раввин, – а там сказано: “Но то, что было, то будет снова, и что свершается, то и свершится, нет ничего нового под солнцем». А ты захотел новой любви, братской любви от сына Агари? – В каком веке ты живешь?! – в ярости воскликнул левый. – Сегодня – уже не время Иешуа Бин-Нуна! – Время никуда не движется, – ответил молодой раввин, – время – кольцо…”» [15: 203]. Обращение к библейской истории и позиционирование арабов и евреев как потомков сыновей Сарры и Агари, братьев Измаила и Исаака, имеющих «общих праотцев», ведет к актуализации близнечного мифа, через призму которого выстраиваются отношения современных израильтян. Близнечный миф в данном случае представлен вариантом братьев-антагонистов , ведущим к выстраиванию «зеркальных» парных образов со смысловой рокировкой и обусловливающим возникновение ряда антиномий . Так, вычленение дихотомии цивилизация (=культура) – варварство обусловливает обращение к парному образу захватчики – защитники, который становится призмой восприятия внутренней сути арабского и еврейского мира. При этом следует отметить, что если в отношении арабов семантика военного начинает проецироваться практически на всех: каждая женщина может оказаться шахидкой, а мужчина террористом, то в еврейском мире сами военные лишаются негативной коннотации, благодаря восприятию их, в первую очередь, как детей: «– Они стоят на посту, в дождь, в жару. Это наши дети, наши мальчики» [15: 149]. Подобная интерпретация разворачивается в произведениях Д. Рубиной в двух направлениях. Первый вариант определяется неизменным акцентированием принципиальной миролюбивости «своей» культуры: «…в тех случаях отрицательного общения, которые мне доводилось здесь наблюдать, обе стороны никогда не доходили до критической черты остервенения, за которой следует уже рукоприкладство. Ссоры израильтян слишком часто выглядят сценами из итальянской комедии» [24: 259]. «Свой» мир принципиально не может играть роль захватчика, даже агрессия со стороны окружающего его инокультурного сообщества не всегда приводит к ответной агрессии: «На дорожке появляется группа туристов явно из России – паломники, все в крестах, бороды лопатой… Проходя, неодобрительно смотрят на солдат и один говорит громко: – У-у! Лежат, загорают, агрессоры сионистские, убийцы, людоеды! Один из резервистов приподнимается на локте и говорит по-русски лениво и доброжелательно: – Да вы не бойтесь, проходите. Мы уже предыдущей группой туристов пообедали…» [25: 463]. Следствием этого становится утверждение жертвенного положения образа «своего» Воина, практически приобретающего ореол святости: «Они охраняют тебя, меня… В них бросают камни. Они не могут ответить, по уставу – не имеют права. Стоят посреди моря ненависти» [15: 149]. Второй, более распространенный вариант, ориентирован не на сакрализацию образа Воина, а на развертывание детскости, сопутствующей ему. Как и в первом случае подобная интерпретация мотивирована качественными характеристиками «своего» Израиля, в отношении которого нагнетается семантика «домашности»: «открытая всем ветрам трехкомнатная страна» [15: 20], где отношения между людьми подчеркнуто семейные. «Домашность», определяя характер отношений всех обитателей «своего» пространства, проецируется на самые неожиданные сферы, в частности на армию, обосновывая тем самым детскость Воина: «Ее принимали, на проходной базы связывали с командиром, дежурный говорил в телефон: “Тут пришла мама солдата”. “Мама”… Кстати, а есть ли вообще у них в обиходе слово “мать”? Семейная армия, шмулики-мотэки…» [15: 114].