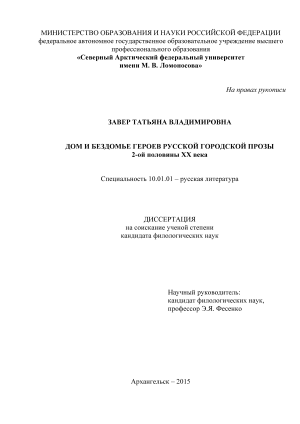Содержание к диссертации
Введение
1. Теория архетипа В современном литературоведении 16
1.1. Понятие о литературном архетипе: к истории вопроса .16
1.2. Архетип Дом – Бездомье в русской литературе 32
2. Архетип дом – бездомье в художественном пространстве русской городской прозы 2-ой пол. ХХ века 43
2.1. Архетип Дом – Бездомье в литературе на историческом фоне 30-50-х
годов 44
2.1.1. Трифоновский Дом на набережной как образ-символ эпохи 45
2.1.2. Образ Мёртвого дома в романе Ю. Трифонова «Исчезновение» 54
2.1.3. Дом-Тюрьма в романе Б.С. Ямпольского «Арбат, режимная улица»...60
2.2. «Пушкинский Дом» А.Г. Битова: Дом без жильцов и жильцы без Дома .69
2.2.1. Образ Пушкинского Дома в литературном контексте 70
2.2.2. История семейного гнезда Одоевцевых на фоне жизни страны .79
2.3. «Квартирный вопрос» в городской прозе 89
2.3.1. Бездомье героев «Московских повестей» Ю.В. Трифонова .89
2.3.2. Концепция Дома в произведениях В.С. Маканина .96
3. Экзистенциальные мотивы в русской городской прозе 116
3.1. Культурно-философские основы экзистенциализма и их литературное воплощение 116
3.2. Смерть Дома и его обитателей как основополагающий мотив экзистенциального сознания 129
3.3. Реализация мотивов исчезновения, невозвращения, побега в городской прозе 139
3.4. Одиночество персонажей в мотивном спектре городской прозы .146
3.5. Страх как одна из основ экзистенциального мироощущения 150
Заключение .156
Список использованных источников
- Архетип Дом – Бездомье в русской литературе
- Трифоновский Дом на набережной как образ-символ эпохи
- История семейного гнезда Одоевцевых на фоне жизни страны
- Смерть Дома и его обитателей как основополагающий мотив экзистенциального сознания
Введение к работе
Актуальность проблематики данного исследования обусловлена назревшей потребностью исследовать эстетические открытия создателей русской городской прозы второй половины ХХ века в области идейного (тематика, проблематика) и художественного мира произведений (комплекс мотивов, образы городского пространства, взятые в аспекте социально-культурного и научного осмысления бинарного архетипа Дом – Бездомье). Научная новизна диссертации определяется
-
новым, архетипическим, аспектом осмысления художественной модели мира, созданной представителями русской городской прозы второй половины ХХ века; а также использованием необходимых в данном случае элементов культурологического и исторического анализа текстов;
-
рассмотрением образной структуры городской прозы, её ключевых мотивов, пространственных образов, символов с точки зрения реализации в них архетипического содержания из смысловой области «Дом – Бездомье»;
-
выявлением комплекса средств реализации в городской прозе смысловой структуры образа «Дом» в двух концептуальных аспектах: Дом как символ семьи, гармонии, состоявшейся личности (Дом-Очаг, Дом-Семейное гнездо) и Бездомье как символ потери личного пространства человека, обезличивания и духовной/физической его гибели (Дом-Тюрьма, Дом-Пещера, Анти-Дом).
Объектом исследования является русская городская проза второй половины ХХ века:
-
романы Ю. В. Трифонова «Дом на набережной», «Исчезновение», «Время и место» и цикл «Московские повести»;
-
роман Б. С. Ямпольского «Арбат, режимная улица»;
-
роман А. Г. Битова «Пушкинский Дом»;
-
роман «Портрет и вокруг» и повесть «Река с быстрым течением» В. С. Маканина.
На принципы отбора материала оказал влияние характер предмета
исследования. Романы и повести 60 -70 годов ХХ века, отобранные для анализа,
в большинстве случаев являются образцами высокохудожественной
литературы и представляют научный интерес с точки зрения реализации в них архетипа Дом – Бездомье, который дает возможность постичь особенности национального психоментального комплекса персонажей русской городской прозы.
Предметом исследования являются архетипические образы «Дом» и «Бездомье», выраженные через мотивы, образные парадигмы, художественные приемы в произведениях А. Битова, В. Маканина, Ю. Трифонова, Б. Ямпольского, созданных в 60 - 70-е годы ХХ века.
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении и
описании особенностей актуализации архетипа Дом – Бездомье в произведениях русской городской прозы 60 – 70-х годов ХХ века.
В соответствии с этой целью соотносятся конкретные задачи исследования:
-
рассмотреть тему Города в городской прозе 2-ой половины XX века как культурный код, выявить пространственные и временные художественные реалии двух городов России – Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербурга);
-
осмыслить культуронимы «Арбат», «Дом на набережной», «Пушкинский Дом» в геопоэтическом, поэтическом, символическом пространстве русской городской прозы второй половины XX века;
-
определить семантику архетипа Дом – Бездомье в его функциональных аспектах (Дом-Семейное гнездо, Дом-Корабль, Дом-Тюрьма, Дом-Пещера и др.), так как социальные, исторические и духовные аспекты городской прозы нашли свое выражение, в первую очередь, в его архетипике;
-
проанализировать систему экзистенциальных мотивов, воплощающих архетипические образы «Дом» и «Бездомье» в городской прозе – мотивов смерти, страха, одиночества, бегства от себя и от людей и др.
Теоретическая основа диссертационного исследования – идеи интегративного характера, которые получили развитие в работах по теории архетипа С.С. Аверинцева, Йоста ван Бака, С.Г. Барышевой, А.Ю. Большаковой, Е.А. Колчановой, В.В. Колесова, А.А. Локиева, Ю.М. Лотмана, А.Н. Майковой, Е.М. Мелетинского, В.М. Розина, В.Н. Топорова, Е.В. Шутовой, а также исследования, посвященные изучению художественных особенностей русской городской прозы М.Д. Андриановой, Л.А. Аннинского, Н.С. Балаценко, Н.А. Бугровой, М.А. Вершининой, Е.В. Дмитриченко, В.В. Карповой, Т.Ю. Климовой, В.Е. Ковского, Е.А. Кравченковой, Т.Н. Марковой, С.В. Переваловой, М.В. Селеменевой, А.В. Шаравина и др.
В основании избранного научного подхода лежит, во-первых, понимание культуры «как некоего органического целого явления», предложенное Д.С. Лихачевым, «как среды, в которой существуют общие для разных аспектов культуры тенденции, законы, взаимопритяжения и отталкивания»8
Во-вторых, использование современных принципов интерпретации
художественного текста и идей К. Юнга и юнгианцев о непосредственной
зависимости индивидуально-авторской картины мира от опыта
предшествующих поколений.
В-третьих, осмысление опыта филологов в описании «внутренней структуры произведения», выявляющей его мифологичность, психологизм, социологичность, дающий возможность использовать некоторые черты культурологического и психоаналитического подходов.
Методологическую базу исследования составляют научные труды, в
которых представлены описательно-аналитические, мифологические,
текстологические и историко-функциональные подходы к изучению понятия «архетип» и «городская проза».
Лихачев Д.С. Культура как целостная среда // Новый мир. –1994. – № 6. – С. 4.
Основные положения, выносимые на защиту:
-
Бинарный архетип Дом – Бездомье представляет собой одну из важнейших духовных констант в культуре человечества, сюжетно-ситуативную архетипическую модель, через реализацию которой авторы русской городской прозы второй половины ХХ века осмысляли взаимоотношения человека с окружающим его миром – страной, социумом, городом, семьёй.
-
Главными параметрами «кода писателя» русской городской прозы являются ее универсальные категории – «жанровая система», «хронотоп», «мотивный спектр», «образы-символы».
3. Ценностно-образная оппозиция Дом – Бездомье рассматривается в
городской прозе не только в эстетическом и психологическом аспектах,
но и в историческом и социологическом измерениях.
-
Отличительными признаками русской городской прозы являются их автобиографизм и автопсихологизм.
-
Художественно претворённые в городской прозе пространства «город – деревня» воплощают два мира жизни человека в разные исторические переломные моменты жизни советского общества.
-
Тексты произведений городской прозы строятся на сложных переплетениях экзистенциальных мотивов смерти, исчезновения (невозвращения, побега), подмены, одиночества (отчуждения), страха, реализуемых, в частности, через реминисценции, явные и скрытые аллюзии, углубляющие антропологический (иногда – библейский) планы повествования.
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы при разработке вузовского курса «История русской литературы XX века», при подготовке вузовских спецкурсов, спецсеминаров и школьных факультативов по проблемам «Русская городская проза второй половины ХХ века».
Теоретическая значимость работы определяется тем, что она предлагает новые подходы к интерпретации городской прозы XX века и расширяет научные представления о художественных средствах реализации архетипа Дом – Бездомье в литературном произведении.
Апробация. Работа обсуждалась на заседании кафедры литературы и русского языка Гуманитарного института филиала САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске в 2014 и в 2015 гг. Её содержание отражено в 7 статьях.
Результаты исследования были изложены в докладах на четырех научных
конференциях: на двух международного уровня – IV международная
конференция «Проблемы концептуализации действительности и
моделирования языковой картины мира» (Северодвинск, 2013) и II международная научно-практическая конференция «Наука. Образование. Личность» (Ставрополь, 2014) – и двух университетского уровня –
Ломоносовская научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, студентов (Северодвинск, 2012, 2014).
Архетип Дом – Бездомье в русской литературе
Е.М. Мелетинский не использует термин «архетип», говоря о происхождении литературно-мифологических сюжетов, о «сюжетном языке» мировой литературы, хотя часто использует понятие «Дом» в сюжете оставления героем дома и его возвращения домой (уход героя из дома и его торжественное возвращение), в сюжете путешествия (морской поездки или лесного блуждания): «Эти путешествия, как правило, строго соотнесены с мифологической топографией, не только с противопоставлением неба, земли, подземного и подводного «царств», но также с противопоставлением дома и леса (последний представляет собой «чужой» мир, насыщенный демонами и демонизмом)» [95, с. 67]. Учёный особо подчёркивал: «Обывательское представление, что в мифах и особенно в сказках изображается борьба добра и зла, весьма упрощенное и в принципе неверное», так как в них речь идёт о древнем противопоставлении «своего» и «чужого» («космоса» и «хаоса»). «Свое» означает свой родо-племенной коллектив, субъективно совпадающий с «человечеством» и олицетворенный в образе героя, его дом, «чужое» – враждебный окружающий мир (в данном случае, лес) [95, с. 43]. Заметим, что его понимание этой проблемы соотносится с коммуникативным типом понятий «Дом» и «Бездомье», а значит – с архетипом Дом-Бездомье.
И Е.В. Шутова в статье «Дом» и «бездомье» человека: терминальный статус и формы бытия в культуре» рассматривала эти понятия как базовые архетипы, на основе которых создается множество архетипических образов, выявляя их много 37 образие онтологических, гносеологических, аксиологических, антропологических и культурологических значений [146, с. 85–90]. В работе «Архетипы «Дом» и «Бездомье» и их объективация в духовной культуре» она рассматривает эти архетипы в мифах и русском фольклоре, в произведениях русской художественной литературы, а также в текстах Священных Писаний мировых религий (христианство, ислам, буддизм). По её мнению, они представляют, «с одной стороны, философские категории, характеризующие идеи человека, дома, бездомья; с другой стороны, экзистенциалии», благодаря которым жизнь человека становится проблематичной. Исследователь выделила следующие смысловые спектры архетипа Дом в русской художественной литературе: «Дом-отчизна (родина)», «Дом-поле битвы», «Дом у дороги», «Картежный (Карточный) дом», «Дом-гнездо» или «Дом-семья», «Город», «Петербург», «Деревня»; «Дом-кладбище», «Дом-тюрьма», «Дом без хозяина», «Дом без фундамента». Спектр смыслов понятия «Бездомье» определяется ею как «Бездомье-странничество» и «Бездомье-скитальчество» «как бегство от жизни, одиночество, утрату надежд, разочарование в жизни или поиск Дома как символа нравственно-осмысленного труда, красоты и счастья» [145, с. 7 – 8]. Е.В. Шутова в своих работах анализировала понятия «Дом» и «Бездомье» в их корреляционной связи с понятиями «бытие», «место», «пространство»», рассматривая «бездомье» литературных героев в «Горе от ума» А.С. Грибоедова, в произведениях М.Ю. Лермонтова («Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени» и др.), Ф.М. Достоевского («Идиот», «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и др.), А.П. Чехова («Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня»). В произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя она выделяет образы Дома-отчизны (родины), Дома без семьи, Картёжного (Карточного) дома, Дома-кладбища, а в повестях Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова, В.М. Гаршина – образ Дома-гнезда. Далее исследователь замечает, что в силу идеологических причин в советской литературе понятие «Дом» стало обозначать социальную макросреду, а понятие «Бездомье» было вытеснено на периферию художественной литературы, хотя у А. Платонова есть «Дом без фундамента», у М.А. Булгакова – «Вечный Дом», «Бесовской Дом», «Коммунальный Дом», а в литературе о Великой Отечественной войне тема «Дом – Бездомье» заняла важное место: возрос интерес к образам Дом-отчизна (родина) и Дом-поле битвы (Ю. Бондарев, В. Быков, В. Некрасов, К. Симонов, А. Твардовский и др.).
А.В. Шаравин в работе о городской прозе 70-80-х годов ХХ века, анализируя литературу указанного периода как художественную систему, обратился к произведениям А. Битова, В. Маканина, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Ю. Трифонова [141].
Среди немногочисленных работ, посвящённых исследованию архетипа Дом – Бездомье в русской литературе ХХ века, следует отметить книгу профессора отделения славянских языков и литературы Гронингенского университета Йоста ван Бака «Дом в русской литературе. Мифопоэтическое исследование». Этот труд впервые вышел в свет в Нидерландах на английском языке и был посвящён символическому, психологическому и идеологическому исследованию Дома как образа, идеи и мифа в русской литературе на протяжении нескольких веков: от произведений, созданных в допетровское время, до русской литературы периода второй половины ХХ века. Во Введении к своей книге автор рассмотрел труды русских и зарубежных филологов, в которых в разных ракурсах была затронута проблема архетипа Дом – Бездомье на материале зарубежной и русской литературы, исследовал архетип на социальном, эмоциональном и этическом уровнях, его «психологические и моральные качества, которые русская культурная и литературная традиция вложили в понятие «Дом» [160, с. 11], важность которого для мировой культуры подчёркивал Й. ван Бак: «На самом абстрактном, феноменологическом, уровне можно рассматривать здание дома как часть или ячейку мира, относительно которой измеряются все другие ориентиры и направления. Эта ячейка может рассматриваться как конкретный, исторический акт строения, но мы также должны учитывать и духовный акт, который не только предшествует фактическому строению, но и определяет обитателя дома в его или её окружении. По этой причине не существует никакого другого образа, очертания или комплекса пространства, столь тесно связанного с самой идеей человеческой культуры, как Дом» [Там же, с. 11 – 12].
Трифоновский Дом на набережной как образ-символ эпохи
Рассматривая быт персонажей «Московских повестей», Ю. Трифонов продолжил традиции, заложенные в литературе А.П. Чеховым, интенцию творчества которого С.А Лишаев определял так: «осуществить критику быта, критику сущего, показав и его необходимость, и его ущербность, неполноту» [80, с. 55]. По его мысли, в произведениях Чехова «повседневный быт, привычный и несомненный, поставлен … под сомнение, обнаружена шаткость, рыхлость быта, а отсюда – его онтологическая непрочность, неустойчивость» [Там же, с. 58].
В своём цикле повестей Ю. Трифонов нарисовал картину обыденной, каждодневной жизни человека, наполненную рутинными делами. Быт окончательно подчинил себе таких трифоновских героев, как Виктор Лукьянов («Обмен»), Геннадий Сергеевич и Рита («Предварительные итоги»), оказавшихся способными на сделки со своей совестью. Анализируя чеховские рассказы, Л. Маркина замечала, что «время и быт, оказывается, чрезвычайно опасны для человека, если он не способен им противостоять» [91], но такие трифоновские герои, как Лора, Ксения Фёдоровна Дмитриева, Татьяна («Обмен»), Ольга Васильевна («Другая жизнь»), Григорий Ребров («Предварительные итоги») сумели противостоять обыденности, разрушающей то, что С.А. Лишаев называл «скрытой глубиной существа», «Мыслью, Бытием, Благом», «искрой Божией в человеке» [80, с. 59]. Сначала пытался бороться с разрушающей силой быта и Дмитриев («Обмен»), но семейные неурядицы и рутина привели его к «олукьяниванью».
Поступки и характеры героев цикла «Московские повести» раскрывались на совершенно ином фоне, чем в его произведениях о жизни советских людей в 30-40-е годы («Дом на набережной», «Исчезновение», «Время и место»). Их главной проблемой в 60-70-е годы стала «урбанистическая» теснота, излишняя «заполненность» жизненного пространства, а в качестве негативного фактора расценивалось даже совместное проживание близких людей. Так Ольга Васильевна в «Другой жизни» после смерти мужа была вынуждена жить вместе со свекровью: «Свекровь продолжала жить с ней в одной квартире. Куда ей было деться?» [8, с. 270]. Соседство с тещей Верой Лазаревной в «Обмене» стало поводом для конфликтов в семье Дмитриевых, поскольку оборачивалось её ежедневным вмешательством в их жизнь. Существование Веры Лазаревны в жизни супругов, местопребывание дочери Ирины «за ширмой» («Лет шесть назад взяли няньку, она спала на раскладушке здесь же, в комнате») сделали жизнь Дмитриевых невыносимой, похожей на их чешскую тахту: «Ложе, оказавшееся не очень-то прочным, вскоре расшаталось и скрипело при каждом движении» [Там же, с. 12].
Невозможность родственников жить в одной квартире стала «оружием для мелких семейных стычек». К примеру, Дмитриев, желавший уколоть Лену, заявлял: «Вот поэтому ты и с матерью моей не хочешь жить». Во время ссоры Лена также могла задеть мужа: «Вот поэтому я и с матерью твоей жить не могу и никогда не стану…». Такая ситуация была обычна для городских жителей: «…То же – у всех, и все – привыкли» [Там же, с. 8]. Персонажи Ю. Трифонова оказываются в ситуации, когда теснота не даёт им возможности побыть наедине с самими собой, своими мыслями. Наиболее остро это желание выражено в словах мужа Ольги Васильевны из повести «Другая жизнь»: «Я хочу побыть вдвоём с собой. Хочу отдохнуть от вас, от тебя, от матери, от всех, всех…» [8, с. 27]. Чтобы избавиться от ощущения несвободы, душевного удушья, Дмитриев отворачивается к окну, замечая не только утреннюю сутолоку большого города, но и пейзаж, не тронутый урбанизацией: «...за окном была синь, комната полнилась светом, отраженным от залитого светом бело-кирпичного торца противоположного дома, и голоса Веры Лазаревны не было слышно» [Там же, с. 18]. Синь неба, свет солнца, – природные явления, пусть даже заключенные в рамки городских новостроек, – возвращали Дмитриеву душевную гармонию. Теснота и несвобода его квартиры были противопоставлены свободному и светлому миру за её стенами, хотя урбанистические пейзажи редко радовали человека: их непременными составляющими в «Московских повестях» были толпа, теснота, преобладание высотных зданий и забетонированного пространства, тёмная цветовая гамма. С урбанистической картиной в повестях всегда резко контрастировал «дачный» пейзаж, который Дмитриев видит из окна квартиры его возлюбленной Тани: «С одиннадцатого этажа был замечательный вид на полевой простор и темневшее главами собора село Коломенское. Дмитриев подумал, что мог бы завтра переселиться в эту трехкомнатную квартиру, видеть по утрам и по вечерам реку, село, дышать полем, ездить на работу...» [Там же, с. 36]. Такие же чувства испытывал и Вадим Глебов в «Доме на набережной», оценивая вид из окна квартиры семьи Ганчуков: «Он посматривал вниз, на гигантскую излуку моста, по которому бежали машины и полз трамвайчик, на противоположный берег со стеной, дворцами, елями, куполами – всё было изумительно картинно и выглядело как-то особенно свежо и ясно с такой высоты, – думал о том, что в его жизни, по-видимому, начинается новое... Каждый день за завтраком видеть дворцы с птичьего полета!» [Там же, с. 84]. Правда, в отличие от него Дмитриев рассматривал квартиру Тани не как вещественное воплощение достатка (или власти), а как возможность быть ближе к живой природе, свободно дышать и, кроме того, соединиться с любящей женщиной, что было необходимым составляющим жизни без «обменов» духовных ценностей. Он вполне мог бы начать новую жизнь, но так и не решился. Квартира Татьяны и её сына – трёхкомнатный «корабль» в кооперативном доме (здесь образ корабля, в отличие от Дома-Корабля (Ковчега) в трифоновском романе «Исчезновение», соответствовал библейской традиции и означал, как и Ноев ковчег, веру и надежду на перемены, не оставляющие Дмитриева). Не отяго 92 щённый мебелью простор комнат в этой квартире соответствовал стремлению человека к свободе и любви: «В пустых, без мебели комнатах, пахнущих краской… и любовь Дмитриева была неотделима от запаха краски и свежих дубовых полов, ещё ни разу не натёртых» [8, с. 33]. Трифонов часто возвращался к мотиву «дачной», «детской» свободы своих героев: в квартире Татьяны Дмитриев ходил босиком («Босой, он шлёпал по газетам на кухню…») и в романе «Время и место» в дачном доме, наполненном солнечным светом, Саша Антипов ходил босиком («Ах, что может быть лучше, чем ходить босиком! В комнатах толстые шершавые доски пола холодят ступни, но на террасе, которая залита солнцем, пол уже тёплый, а выйдешь на крыльцо, там и вовсе солнцепёк, сразу обдаст свежим жаром раннего августовского утра, запахами сада, сосны, земли»).
История семейного гнезда Одоевцевых на фоне жизни страны
В первой половине ХХ века Россия оказалась в самом центре трагических исторических событий (Первая мировая война, две революции, Гражданская война, Отечественная война). 30-е годы ХХ века ознаменовались репрессиями и становлением тоталитарной системы государственной власти, после Великой Отечественной войны в 40-50-е годы раскрутился новый виток репрессий. Неудивительно, что русские мыслители не могли остаться равнодушными к поискам смысла существования человека, которые вели представители европейской экзистенциальной философии. Русская экзистенциальная мысль и европейский экзистенциализм происходили от общих философско-эстетических корней. Сформировавшаяся в России философия восприняла, в первую очередь, идеи религиозного экзистенциализма (Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов). Русский религиозный экзистенциализм не разрабатывал проблемы связи существования конкретного индивида с окружающим его миром и был далёк от исследования категорий бытия-в-мире, понятий выбора личности, ответственности, ценностей, но философско-исторические представления Н.А. Бердяева и Л.И. Шестова по сути, несомненно, являлись экзистенциальными.
Согласно Н.А. Бердяеву, человек постоянно находится между двумя мирами: миром кесаря и миром Божьим. Мир кесаря включал в себя всё то, что было связано с причинно-следственными отношениями: это история и повседневность, которые не позволяли индивиду реализоваться как духовное, богоподобное существо. Совокупность явлений, которые мешали этому, философ называл «объективацией», имея в виду под этим современное общество, технический прогресс, государство, церковь как социальный институт, ставящие себя выше человека. Индивид воспринимался этими институтами как часть их самих или как средство экспансии. Рассуждая о том, что объективация определяла существование «среднего человека», Н.А. Бердяев обратился к термину «das Man», ранее предложенному М. Хайдеггером1. Согласно ему, именно такие «средние люди» образуют безликую массу, разрушительную «серединность», которая, «намечая то, что можно и должно сметь, следит за всяким выбивающимся исключением. Всякое превосходство без шума подавляется. Все оригинальное тут же сглаживается как издавна известное. Все отвоеванное становится ручным. Всякая тайна теряет свою силу» [26, с. 127]. В определенный исторический период таким человеком был буржуа, символизирующий собой несвободу духа, подавление личности внешним миром, зависимость от временного и преходящего, и, как следствие, его неспособность познать вечное. «С уровнем буржуа считается история, когда создает государство, право, хозяйство, обычаи и нравы, идол научности. И в этом надо искать объяснения того, что в движении истории есть какая-то безвыходность…», – полагал Н. Бердяев [Там же, c. 245].
В русской городской прозе 60-70-х годов ХХ века представлен ряд таких «средних людей» – несвободных, раздавленных психологически, предавших себя. Среди них – Виктор Лукьянов и семья Геннадия Петровича, отказавшиеся от духовных ценностей в пользу материального благополучия («Обмен» и «Предварительные итоги» Ю. Трифонова), алчные и запуганные обитатели арбатской коммунальной квартиры (Свизляк, Голубев-Монаткин, Любочка, Розалия Марковна, айсоры из романа «Арбат, режимная улица» Б. Ямпольского), старшие Одоевце-вы, разрушившие свои души подменами семейных отношений («Пушкинский Дом» А. Битова). Среди персонажей маканинских произведений «несвободными духом» людьми можно назвать «киношницу» Веру, укравшую рукопись Игоря Петровича, Тихого Инженера, проживающего скучную, серую жизнь, супругов Игнатьевых, убивших свою любовь.
История воспринималась Н. Бердяевым как арена борьбы за власть между буржуа, поэтому любая революция, по его мнению, должна была закончиться их воцарением: «Сама идея абсолютной рационализации жизни, абсолютной социальной гармонии, – полагал Бердяев, – буржуазная идея и против неё должен восстать человек из подполья» [26, c. 245]. Согласимся с точкой зрения А.Д. Баранниковой, которая заметила, что Н. Бердяев считал коммунизм буржуазным по своему духу. Философ представлял его как духовную утопию, основанную на непонимании условий существования человека, ибо «победить страдание, организовав всеобщее счастье» невозможно, так как страдание заложено в природе человека, как и его неудовлетворённая потребность в трансцендентности [23, с. 105]. Страдание возникает вследствие нарушения целостности индивида. Способность к выходу из него являлась для Бердяева непременным условием реализации личности. Если у человека не было такой способности, он будет страдать из-за разрушения внутреннего мира и образования изолированных миров: миров ненависти, наживы, честолюбия, властолюбия, ибо, по мысли Бердяева, человек есть «духовное существо, заключающее в себе устремленность к бесконечности и вечности и поставленное в ограниченные условия существования в этом мире» [26, с. 110 – 111].
В русской городской прозе есть много персонажей, не страдающих от своих ошибок, предательств, жестокости. Это – Вадим Глебов, Лева Одоевцев, Свизляк и др. Мировая литература ХХ века, воспринявшая идеи экзистенциальной философии, так или иначе обращалась к проблеме разрушения внутреннего мира человека и поглощения личности «внешним миром». Возникли такие отмеченные исследователем В.В. Заманской сюжеты экзистенциальной литературной традиции ХХ столетия, как распад старой духовности, срыв культуры и сознания (философские воззрения Вл. Соловьёва, «Описание одной борьбы», «Нора», «Процесс», «Замок» Ф. Кафки, «Ювенильное море» А. Платонова, «Петербург» А. Белого и др.); желание удержать человека от разрушения и саморазрушения («Роза мира» Д. Андреева, поэзия А. Блока, «Царь-рыба» В. Астафьева, «Белый пароход» и «Пегий пёс, бегущий краем моря» Ч. Айтматова, поэзия И. Бродского и др.) [54, с. 8 – 14].
Основная экзистенциальная линия русской литературы традиционно ведёт отсчет от ХIХ века – от Ф. Тютчева, Ф. Достоевского и Л. Толстого. Первым ярким явлением экзистенциального мироощущения в русской литературе ХIХ века стала поэзия Ф.И. Тютчева; личность, находящуюся в «пограничной ситуации», на пределе, в состоянии духовного кризиса, исследовал в «Записках из Мёртвого дома» и «Записках из подполья» Ф.М. Достоевский; свой путь к экзистенциальному мировосприятию прошёл и Л.Н. Толстой, осмыслявший тему смерти через призму поисков смысла жизни («Три смерти», «Смерть Ивана Ильича»), а экзистенциальное бытие личности и саморазрушение человеческой души стало смысловым центром его «Записок сумасшедшего» и «Крейцеровой сонаты». Эту экзистенциальную линию продолжают представители литературы ХХ века – Л. Андреев, А. Белый, В. Брюсов, И. Бунин, В. Набоков.
В первой трети ХХ века литературную традицию Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого продолжил Л. Андреев, которого В.В. Заманская считала основателем «оригинальной для русского экзистенциального сознания и европейского экзистенциализма типологической модели – психологического экзистенциализма» [54, с. 111]. Экзистенциальный взгляд Л. Андреева был заострён на ситуациях сознательного одиночества человека, обречённости личности быть одинокой в окружающем её мире, пограничного состояния между жизнью и смертью, случая («У окна», «Город», «Мысль», «Рассказ о семи повешенных», «Случай», «Мельком» и др.). Идею самоценности, неповторимости личности в условиях духовного кризиса открыл в русской литературе А. Белый, отразив в своём романе «Петербург» катастрофу, вызванную абсурдным стремлением людей разрушать свою душу, то есть гибнуть в метафизическом смысле. Экзистенциальную тему одиночества в русской поэзии ХХ века обнажил В.Я. Брюсов, воплотивший её, в первую очередь, в любовной лирике («Chefs D oeuvre», «Me eum esse», «Стихи о любви» и др.).
Смерть Дома и его обитателей как основополагающий мотив экзистенциального сознания
Анализируя экзистенциальный конфликт в произведениях А. Платонова, В.В. Заманская отмечала «драматизм судьбы и чувств человека, оказавшегося лицом к лицу с отвлечённой идеей, с железными законами государства, стремящегося преодолеть человека» [54, с. 198]. Этот конфликт был характерен и для жизни людей в тоталитарном государстве, мимо которого не могла пройти городская проза. В основе конфликта индивида и государства лежало чувство страха, играющее важную роль в экзистенциальном мироощущении человека.
Мотив страха был одним из содержательных составляющих трифоновских романов «Дом на набережной» и «Исчезновение». В Вадиме Глебове («Дом на набережной») писатель подчеркнул, что «...скелет его поступков, его костяной рисунок – это рисунок страха» [7, с. 138], а в «Исчезновении» описал разнообразные эмоции Николая Григорьевича Баюкова, которые постепенно свелись к всепоглощающему страху перед арестом: «Сердце колотилось толчками, руки не слушались. Он почувствовал гнусную слабость где-то внутри, под животом, чего не было очень давно… … Вот этот час. Он настал» [Там же, с. 376].
Описывая Дом на набережной, существование людей в котором было заполнено страхом, Ю. Трифонову удалось показать атмосферу мучительных «допросов и переспросов», гнетущей неопределённости: «Никогда нельзя было знать, что ответят в квартире» глухая домработница или «вредоносная старуха, следившая за внуком с неусыпной бдительностью». За гостями «с суровой внимательностью» следил лифтёр, которого боялись даже жившие в доме дети [Там же, с. 43]. Опасность существования в «доме на набережной» ощущалась в словах отца Вадима Глебова («Да я и за тыщу двести рублей в тот дом не перееду…»), который, скрывая под напускной весёлостью и легкомыслием «могучее качество – осторожность», советовал сыну реже бывать в том доме, меньше общаться с Шулеп-никовым, «не высовываться»: «Может быть, его душил, как душит грудная жаба, какой-то давнишний и неизжитый страх» [Там же, с. 47 – 48]. Осторожность, осмотрительность и умение выглядеть «никаким», как это научился делать Вадим
Глебов, были порождены страхом, но не могли спасти от репрессий. О жертвах террора, их арестах, выселениях, увольнениях в романе напрямую не говорилось, но они столь явно подразумевались, что были очевидны.
Страх, подавляющий жителей трифоновского Дома на набережной, характеризовал атмосферу, царившую во всей стране. Недаром С. Экштут назвал страх «системообразующей категорией русской жизни» [150, с. 155]. Согласно подсчётам исследователя, в романе «слово «страх» упоминается семнадцать раз, «ужас» – двадцать раз, прилагательное «страшный» используется четырнадцать раз» [Там же, с. 284]. Страх стал главным персонажем трифоновского романа, а образ Дома на набережной – его материализованным воплощением.
В повести Ю. Трифонова «Долгое прощание» актриса Ляля встретилась с «солидным работником» – Александром Васильевичем Агабековым, в образе которого, как считает С. Экштут, Трифонов вывел Лаврентия Берию [Там же, с. 61]. Вид Агабекова внушал Ляле ужас: он смотрел в упор, не мигая, «взгляд был странный, направлен на Лялин рот, и от этого – оттого, что не в глаза смотрел, а на рот, поющий – было неприятно» [8, c. 213]. Что-то неживое, стеклянное и холодное в глазах «лобастого человека с усиками» очень пугало Лялю. Страх перед безжалостной тоталитарной системой в данном случае сводился к ужасу перед конкретным человеком, ответственным за проведение репрессий.
Страх выступает и как одна из важных составляющих мотивного спектра романа Б. Ямпольского «Арбат, режимная улица». В то время, как умирал старый дом на Арбате и уходили из жизни его обитатели, главный персонаж романа К. оставался живым в физическом смысле, но был почти сломлен как личность, потому что он – храбрый боевой офицер, прошедший войну, – утратил волю, ощущая свое бессилие от страха перед арестом. Утрата воли человеком объяснялась в романе состоянием общества, при котором «психозы подозрительности сменялись временами относительного затишья и даже какого-то ублюдочного милосердия, прощения, и обычно в самый шторм … начиналась новая кампания исправления ошибок и перегибов» [10, с. 55]. Б. Ямпольский знал о духовном умирании людей не понаслышке. В своих воспоминаниях он писал об этом: «…Нет тебя, нет именно твоей воли, твоих мук, сомнений, снов, призраков, твоей чести, совести, и ты, как муравей, как муха, как моль…» [155, с. 365].
Мир был настолько враждебным к К., что он, всё время чувствуя себя «на поводке», от страха и усталости утратил способность адекватно оценивать ситуацию: «…Я был весь слабость, весь – страх» [10, с. 89]. Реальное в его жизни неразрывно смешалось с ирреальным, и уже было неясно, где была действительность, а где – сон или иллюзия: «Может, и теперь это сон, и просто я не могу проснуться» [Там же, с. 95]. Мысли К. перекликались с воспоминаниями писателя, в которых он рассказывал уже о своём, лично пережитом страхе: «Да, были времена, я боялся разговаривать с ближайшими товарищами; с любовницей; с родными сёстрами. Я улыбался и молчал, когда надо было плакать и кричать. Я плакал, когда все смеялись. Я стал бояться разговоров во сне» [155, с. 368]. А.В Шаравин был убежден, что «Ямпольский вслед за Ф. Кафкой художественно обозначил, как вина и страх превращаются в обязательные компоненты, составляющие структуру личности» [141, с. 91].
Неотвязная и откровенная слежка превратила недавнего фронтовика в затравленного, загнанного человека. Именно так, по мысли В.В. Заманской, «система ломает человека, заставляя психологически принять статус винтика», а «ситуация «человек перед лицом…» – это ситуация экзистенциальная» [54, с. 105], поэтому основной экзистенциальный мотив романа «Арбат, режимная улица» – мотив духовной гибели персонажа.
Ее создатели реализовали в своих произведениях широкий спектр экзистенциальных мотивов. Персонажами Ю. Трифонова, Б. Ямпольского, А. Битова и В. Маканина и др. стали люди, принадлежащие к своему времени, в полной мере испытавшие на себе влияние исторических событий, происходящих в советской стране в ХХ веке. Становление тоталитарного государства, репрессии 30-х годов, Великая Отечественная война, закручивание гаек в послевоенные годы и даже недолгая «оттепель» 60-х годов перекраивали их судьбы: был уволен с работы и подвергнут гонениям профессор Ганчук («Дом на набережной» Ю. Трифонова); восемь лет провела в лагерях мать Саши Антипова из трифоновского «Исчезновения»; в романе «Арбат, режимная улица» бывший фронтовик К. случайно избежал ареста; через войны и лагеря прошёл дядя Диккенс, был в заключении Модест Платонович («Пушкинский Дом» А. Битова). В обстановке экономического дефицита и растущей урбанизации персонажи «Московских повестей» Ю. Трифонова и произведений В. Маканина («Портрет и вокруг», «Река с быстрым течением»), приняв за основу жизни приоритет материальных ценностей, разрушили свой Дом, став одинокими и беззащитными. Закономерно, что вместе с героями этих произведений разрушались их семьи, их дома.