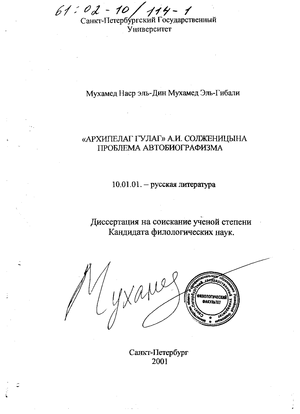Содержание к диссертации
Введение
Глава I Автобиографизм и автобиографический жанр в историко-культурном аспекте.
1.1. Типологические признаки и категории автобиографии и автобиографического жанра в теоретико-критических исследованиях.
1.2. Историческая эволюция автобиографии и теоретико-критические интерпретации автобиографизма.
Глава 2. Автобиографизм, автобиографический жанр и персонаж в поэтике «Архипелага ГУЛАГ»
2.1. История создания, цели и жанровые особенности «Архипелага ГУЛАГ»
2.2. Автобиографизм, автобиографический жаыр и персонаж в Архипелаге ГУЛАГ»
2.3. Место «Архипелага ГУЛАГ» в творчестве А.И. Солженицына и русской литературе второй половины XX век
Заключение 150
Список литературы
- Типологические признаки и категории автобиографии и автобиографического жанра в теоретико-критических исследованиях.
- Историческая эволюция автобиографии и теоретико-критические интерпретации автобиографизма.
- История создания, цели и жанровые особенности «Архипелага ГУЛАГ»
Введение к работе
До сих пор в многочисленных и разноплановых монографиях, статьях, трактатах и манифестах, посвященных творческим заслугам и новациям А.И. Солженицына, подробно были осмыслены и систематизированы, главным образом, тематические и идеологические особенности солженицынской прозы. В то же время, по вполне очевидной причине злободневности, актуальности, полемичности, социокультурной ангажированности и социальной адресованности прозы А.И. Солженицына, большинство исследователей избегают (или считают это преждевременным делом) заниматься структурно-филологическим анализом поэтики, стилистики и прагматики солженицынской прозы.
В результате степень изученности концептуально-идеологических взглядов А.И. Солженицына на специфику русского менталитета, отечественной истории и послереволюционного социально-политического уклада многократно превышает пока достаточно схематичный исследовательский багаж представлений об инновациях и нюансах солженицынской поэтики. Данное диссертационное исследование стремится отчасти восполнить этот досадный пробел и представить структурно-семантический анализ солженицынской прозы именно с упором на доказательство своеобразия применяемых им поэтико-стилистических приемов.
Одновременно базовой установкой исследования становится аксиоматичное признание того, что практически все поэтические и структурные моменты прозы А.И. Солженицына детерминированы, в первую очередь, законами авторской прагматики, - а именно жизнестроительным и социо- преобразовательным пафосом и приданием литературному тексту дидактически-назидательной функции.
Собственно говоря, для А.И. Солженицына литературные эксперименты являются, в большей степени, образцами его социо-идеологических представлений, поэтому поэтику его прозы вряд ли имеет смысл рассматривать как самостоятельный и автономный эстетический феномен, - скорее как производную его концептуальных и жизнестроительных поисков.
Но подобная взаимозависимость и взаимоподчиненность поэтической фактуры и социо-политической авторской программы делает чрезвычайно актуальным вопрос о синтезе поэтических и социальных функций в фигуре автора-персонажа, т.е. о поэтической категории автобиографического героя как носителя авторского самосознания.
Основной целью данной диссертационной работы является всесторонний анализ поэтических категорий автобиографизма и автобиографического персонажа в прозе А.И. Солженицына. Формулирование цели исследования предполагает;
- во-первых, рассмотрение сюжетно-фабульных лейтмотивов и идейных концептов в прозе А.И. Солженицына через призму автобиографической поэтики, с учетом диахронических трансформаций как мемуарно-биографической техники, так и степени сходства персонажа с реальным автором;
- во-вторых, доказательство того, что в наиболее исторически-объективных эпопеях («Архипелаг ГУЛАГ» или «Красное колесо») авторские интенции, а также теоретические конструкты по поводу исторического процесса, случайности и предопределенности, персональной и коллективно-родовой вины, либерализма и тоталитарной деспотии, исконно-славянского и заимствованно европейского, - все эти заостренные и болевые точки солженицынской философии жизни формулируются и транслируются благодаря биографическому персонажу, испытывающему и подтверждающему их собственной судьбой. Историческая объективность в романах А.И. Солженицына достигается в результате как бы второго проживания переломных событий авторской биографии вымышленным персонажем - более или менее точной проекцией авторской поведенческой этики и выработанного им морально-нравственного максимализма.
Точное следование поставленной цели диссертации позволит выявить специфику прозы А.И. Солженицына с двух ракурсов: со структурно-семантической точки зрения предполагается
каталогизировать символические и смысловые коды, идиологемы, лексические, синтаксические и стилистические инструменты, используемые А.И. Солженицыным в конструировании уникальной автобиографической поэтики. С концептуально-исторической точки зрения будут классифицированы важнейшие идейные положения А.И. Солженицына по поводу российской государственности, логики и слепоты истории, ответственности и предназначения субъекта, положения, приписываемые автобиографическим персонажам и вместе с тем маркирующие идеологическую канву солженицынской прозы. Мы руководствуемся тезисом, что только эквивалентное совмещение двух этих способов метаописания - структурно-семантического и историко-концептуального - гарантирует достижение искомого результата: уяснения семантики и прагматики солженицынского автобиографизма.
Помимо вышеозначенной цели диссертационного исследования для дефиниции важнейших аспектов солженицынского автобиографизма важно разрешить серию теоретических и прикладных задач, касающихся приспособления априорно субъективированного автобиографического метода к претендующему на надличностную объективность солженицы некому слогу. Для компактности изложения богатого диапазона этих задач целесообразно разнести их по двум рубрикам.
В первую будут сгруппированы задачи, предполагающие комплексное изучение теории и практики автобиографизма в мировой литературе, а также отслеживание истории термина, его модификаций в текстах разных культур, варьирование спектра различных толкований этого понятия. Хронологические и одновременно категориальное исследование автобиографизма позволяет разрешить и ряд локальных задач, а именно: как в различных литературных и культурных традициях осуществляется индексация авторского присутствия в тексте? Какие сигнификационные механизмы работают на конструирование литературного образа или стилистической маски автора? Благодаря каким семиотическим процедурам кодирования автобиографический текст начинает представлять не только свою имманентную структуру, но, в первую очередь, идейные и эмоционально-психологические моменты авторской биографии? Почему в определенные литературные эпохи, например, в Ренессанс, барокко, символизм, модернизм резко актуализируется значимость приема автобиографизма, а в медиевистской и реалистической традиции автобиографические компоненты в тексте занимают подсобное, дискриминированное положение? Чем регулируется степень дистанцированности или близости литературного «дублера» автора к реальному жизненному прототипу?
Кроме того, чтобы скомпоновать эти задачи в логическую последовательность и хотя бы пунктирно наметить векторы их разрешения, необходимо произвести подробный и хронографический реферативный обзор важнейших трактовок автобиографизма в концепциях формалистов, в семиотической традиции, и, в частности, в трудах тартуско-московской школы, в различных постструктуралистских интерпретационных стратегиях. Одним из важнейших этапов определения автобиографизма станет прочерчивание терминологической и концептуальной истории автобиографизма и его теоретических аспектов, - истории, включающей в себя и проблему «литературной личности» в трудах Ю. Тынянова, и дефиницию лирического субъекта в романтической поэзии, предложенную Л. Гинзбург, и постулат о культурогенной роли биографического материала, выдвинутый Г.О.
Винокуром, и системное описание театрализованных поведенческих жанров, а также литературных масок, амплуа и шаблонов поведения в работах Ю.М. Лотмана, и тезис французского историка автобиографии Ф. Лежена об особой психологической модальности прочтения автобиографического текста с учетом феноменологического редукционизма, и метафорическое представление автобиографии йельским критиком П. де Маном в виде технологии «стирания лицевости» и планомерного умышленного камуфлирования и маскировки своего «истинного» облика.
Причем эта калейдоскопичность автобиографических стратегий мотивирована тем, что в авторской программе А.И. Солженицына идеологическая составляющая внешне доминирует над поэтико-эстетической. Что приводит, с одной стороны, к сознательному и афишированному отказу от формирования автономной маркированной эстетики, а, другой стороны, превращает романы А.И. Солженицына в поистине полифоничные и мозаичные конструкции, скомбинированные из разнородных и часто антиномичных элементов собственного авторского производства или заимствованных из литературной традиции.
В дальнейшем выдвинутая здесь гипотеза о синкретическом автобиографизме А.И. Солженицына будет концептуально развернута и апробирована на материале мемориально-хроникальной эпопеи «Архипелаг ГУЛАГ», где разные показатели автобиографизма, почерпнутые из народно-фольклорных и высоко-литературной традиций, проявляют себя наиболее масштабно, красноречиво и показательно.
Следующая цепочка задач, входящая в ту же самую, теоретико-структурную, рубрику сводится к терминологическому определению автобиографического жанра, к эскизному наброску (эскизному - из-за недостатка пространства) типологии различных жанровых модификаций (мемуары, письмо, исповедь и .т.п.) в исторической перспективе. Структура автобиографического жанра будет изложена сначала в синхроническом аспекте, т.е. будет представлена система жанровых критериев и категорий от грамматического плана (повествование от первого лица единственного числа) до темпоральной (ограниченность повествования авторской биографией) и хронотопической (пространственно-временная привязка к событийному контуру авторской жизни) организациях. Как будет продемонстрировано далее, в структуре «Архипелага ГУЛАГ» элементы и индикаторы автобиографического жанра выполняют функцию объективации разрозненного жизненного материала.
После детального и системного обзора синхронического среза автобиографического жанра, для прояснения генетической предыстории солженицынского автобиографизма структурно необходим также обзор диахронической парадигмы жанра автобиографии, как в мировой, так и в русской литературе. Историческая траектория автобиографического жанра будет прочерчена с учетом его периодизации на попеременные этапы спада и, наоборот, актуализации этого жанра. Например, в медиевистской литературе или в критическом реализме и натурально-физиологической школе XIX века этот жанр служил только второразрядным, вспомогательным компонентом поэтики, а иногда вообще оспаривался и отрицался жанровый статус автобиографии, и она приравнивалась к бытовым и дилетантстким литературным экзерсисам. Куда больший и продуктивный интерес для историков автобиографизма представляют этапы исторической поэтики с установкой на экстраполяцию, героизацию и психологическую автономию субъекта. В частности, в неоплатоническом Ренессансе, южно-европейском барокко, байроническом романтизме, «дьяволическом» символизме (термин А. Хансен-Леве), в позднем авангарде и высоком модернизме автобиография достигает статуса лидирующего жанра и число текстов, причисляемых к разряду автобиографического жанра, делается несоразмерно высоким в процентном отношении к иножанровым экспериментам. Хотя сам А.И. Солженицын неукоснительно подчеркивает не литературный, а документально-жизнеописательный генезис автобиографических примеров, тем не менее нельзя сбрасывать со счетов его полемический и ревизионистский диалог с русской мемуарно-биографической традицией XX века и разработанными в русском авангарде и модернизме стратегиями литературной трансформации биографического опыта.
В частности, множественная и неоднородная позиция
автобиографического повествователя в «Архипелаге ГУЛАГ» включает и метапозицию всеведенья, приписывающую персонажу-автору титул «истца и ответчика» истории одновременно, и ретроспективную реконструкцию автором своего уникального и одновременно показательного опыта физического выживания в качестве одного из «туземцев» Архипелага, когда, казалось бы, все исторические законы причинности и оправданности упразднены дикой и все перемалывающей лагерной деспотией. Наша гипотеза о поэтической преемственности подобной автобиографической оптики сводится к тому, что вряд ли А.И. Солженицын отважился в своем тексте на подобную динамичность и вариативность своего образа, если бы не учитывал (и не перефразировал) опыт русского модернизма 10-20-х годов. Так автобиографизм А.И. Солженицына с его провиденциальным и мессианским пафосом и одновременно объективистским отстранением от персональной системы предпочтений скорее всего попеременно подпадает под достаточно ощутимые влияния сразу нескольких автобиографических стратегий.
Во-первых, стратегии представления своей биографической траектории как ревизии эстетических кредо и, соответственно, подачи своей биографии путем автоинтертекстуального комментария к своим текстам или цитатного обыгрывания произведения современников, - в качестве иллюстративных образцов подобной стратегии назовем «Полутороглазого стрельца» Б. Лившица или «Некрополь» В. Ф. Ходасевича.
Вторая стратегия заключается в мифологической гиперболизации и апологетической подаче своих жизненных перипетий, когда персональная авторская биография дорастает до масштаба символического канона эпохи, - подобный креативный и карнавально-театральный подход к биографическим фактам обнаруживается в мемуарном цикле Андрея Белого («На рубеже двух столетий», «Начало века» и «Между двух революций») или в пятитомном орнаментально-декоративном мемуарном панно А. М. Ремизова.
Третья стратегия автобиографизма основывается на приемах интериоризации и овнутривания авторского видения, когда в результате инверсии внешней событийности в план внутренних переживаний проявляется психологический (а иногда и психоаналитический) ландшафт авторской индивидуальности (примеры многообразны - от фрагментарно-афористичных пометок и смеси В. В. Розанова в двух коробах «Опавших листьев» до зондирующих глубинные тайники младенческой или детской психики романов А. Белого «Котик Летаев» и «Крещенный китаец» или повести Б. Л. Пастернака «Детство Люверс»).
Наконец, четвертая стратегия реализуется в ностальгических заклинаниях и по подводу утраты старого государственного и семейного уклада, а также в апофеозе уничижения и редукции субъекта, оказавшегося выброшенным из своей привычной «лузы» стихийной, хаотической, неуправляемой и непрогнозируемой энергией истории. Данная стратегия, представленная метафорико-ассоциативными
«Шумом времени» и «Египетской маркой» О. Э. Мандельштама или желчно-скептическими притчами «Петербургские зимы» Г. Иванова, любопытна тем, что автобиографизм А.И. Солженицына, скорее всего, косвенно отталкивается от подобной поэтики аннигиляции и растворения субъекта как от одной из антогонистичных и оспариваемых моделей.
Безусловно, синкретичный автобиографизм А.И, Солженицына далек от игровой и самодостаточной компиляции этих жанровых стратегий, но, - и доказательство этого также является одной из задач нашего исследования - именно вкрапления и внедрения инвариантов автобиографического жанра в жанровую фактуру «Архипелага ГУЛАГ» придают этому синтетическому тексту историко-документальное и хроникально-летописное единство.
Вторая рубрика диссертационных задач в отличие от первой, теоретико-структурной и историко-методологической, комбинируется из задач аналитико-прикладного характера, касающихся синтагматических и парадигматических аспектов автобиографического персонажа в прозе А.И. Солженицына. Путем компаративного анализа «Архипелага ГУЛАГ» в контексте «малой» и «большой» прозы А.Й. Солженицына вычленяются базовые принципы и факторы построения автобиографического героя и его сюжетно-фабульные функции. Автобиографический персонаж в тексте романа-эпопеи рассматривается на трех взаимосогласованных уровнях.
Во-первых, как один из элементов нарративной структуры,
включенный в ограниченную и упорядоченную систему персонажей и наделенный четкой сюжетной нагрузкой. Во-вторых, автобиографический персонаж подается как производная структурно семантических средств, используемых для конструирования его стилистического ореола, в частности, лексико-семантического инструментария, риторических фигур, метафорико-ассоциативных конструкций, тропов, языковых регистров, использования прямой и несобственно-прямой речи, ритмико-мелодической оркестровки и многого другого. Третий уровень описания автобиографического персонажа предполагает систематизацию орудий авторской прагматики, т.е. тех ораторски-декламационных приемов риторической манифестации, которые позволяют автобиографическому герою транслировать и авторскую заинтересованно-оценочную позицию, и абстрагированные общечеловеческие истины.
Синхронное изучение этих трех уровней солженицынского автобиографизма - уровня внутренней текстуальной организации, уровня структурно-семантических средств и уровня интенций и инструментов авторской прагматики - позволит выявить и типовые черты, и специфику построения автобиографического персонажа в прозе А.И. Солженицына.
В ту же рубрикацию входят и более специфические задачи исследования - доказательство и иллюстрирование центральных для работы тезисов о структурных чертах автобиографического персонажа у А.И. Солженицына, - тезисов, одновременно служащих и концептуальными установками диссертации. Перечислим здесь контурно-пунктирным методом содержание этих тезисов, предложив их в виде аксиоматических прикидок, нуждающихся в дальнейшем доказательстве в результате текстуального анализа. Первый тезис -гипотеза об историоризованности автобиографического персонажа у А.И. Солженицына: его поступки и воззрения соотнесены и скоррелированы не с внутренней логикой индивидуальной биографии, а с глобальной и сверхличностной логикой исторического процесса.
Историоризованность субъекта означает, что уникальное
антропометрическое время его биографии измеряется не бытовым временем, а регулируется объективированными законами истории. События биографии, намерения и идейные пристрастия регулируется принадлежностью субъекта либо к дискретной линейно-исторической последовательности, либо к циклической непрерывности мифа. Автобиографический персонаж делается символическим или аллегорическим субъектом, погруженным в историю, управляемым ею и деформирующим ее причинно-следственные связи. Автобиографический субъект истории в «Архипелаге ГУЛАГ» (и во многих других «лагерно-больничных» текстах А.И, Солженицына), как мы увидим далее, находится в ожесточенной и изнурительной схватке уже не с гегельянским Духом истории, а с монстром Истории, упразднившей саму себя и выродившейся в монотонную полицейско-репрессивную и партийно-диктаторскую систему ГУЛАГА. Поэтому А.И. Солженицын демонстрирует, что все спроектированные ранее в русской литературе и гуманитарной традиции модели субъекта истории в этой ситуации оказываются нерелевантными и малофункциональными, и автор постоянно сопоставляет свой автобиографический портрет с этими моделями, полемизирует с ними и подвергает конструктивной критике.
Рассмотрим несколько наиболее показательных типов субъекта истории, разработанных в русской литературной традиции. Создание первой из этих моделей можно приписать протопопу Аввакуму, впервые в русской агиографической письменности отказавшемуся от схематического «монументализма» житийной традиции. По словам Д. С. Лихачева, «свою биографию Аввакум излагает в жанре старого жития, но форма жития дерзко нарушена им. Аввакум пишет собственное житие, описывает собственную жизнь, прославляет собственную личность, что казалось бы верхом греховного самовосхваления в предшествующие века»1. В «Житии» Аввакума автобиографический субъект впервые выводится из шаблонных рамок инициационного и катарсического цикла и сам превращается в со-творца и демиурга истории, способного, руководствуясь своими индивидуальными, нравственно религиозными критериями, предопределять, регулировать и корректировать ход исторического становления. Аввакум впервые проповедует принцип свободного, а не житийно-формульного и не вмененного патристической традицией выбора: например, он противопоставляет себя богоизбранной власти - «И с тех мест царь на меня кручиноват стал: не любо стало, как опять я стал говорить, любо им, как молчу, да мне так не сошлось»2.
2 Житие Аввакума/ЛЛамятники литературы древней Руси, ХУЛ век. Книга вторая. М., 1989. С. 379.
3 Бердяев Н. А. Русская идея//0 России и русской философской культуре. М,, 1990. С. 52. схеме патриотической словесности быть только безропотной эманацией авторитарной исторической справедливости, манипулируемой марионеткой божественного провидения - он декларирует себя созидателем и преобразователем исторического порядка, готовым заняться креативным преображениям истории, следуя антропоморфным идеалам. Подобный «эгоцентризм» обуславливает и смесь в житии патетическо-декламационно и личностно-исповедального тона, - по замечанию В.В. Виноградова, «основной тон, в котором ведет повесть о своем житии прот. Аввакум, - глубоко личный тон простодушно-доверчивого рассказчика, у которого рой воспоминаний мчится в стремительном потоке словесных ассоциаций и создает лирические отступления и беспорядочно-взволнованное сцепление композиционных частей»4. Цель истории - мировое благо, синтез божественного и человеческого величия, и субъект истории должен предохранять и оберегать ее от происходящего вследствие индивидуальных претензий на вселенское господство или духовное авторитарное владычество впадений в состояние дикости и хаоса. От Аввакума через Феофана Прокоповича и Державина к Гоголю и поздним романтикам тянется вереница и галерея подобных титанических, демиургических субъектов истории, поданных в панегирическом или гротескно-сатирическом тоне, но неукоснительно предоставляющих себя в амплуа свободно и своевольно вмешивающихся в историческую последовательность ее проектировщиков и хозяев.
Вторая модель контрастирует с первой и даже отрицает ее и в проблематике конечной целесообразности исторической эволюции, и в претензии субъекта на преобразовательную и демиургическую функцию.
4 Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума//0 языке художественной прозы . М, 1980. С. 8. Непримиримым адептом и поборником подобной модели исторического субъекта, у которого полностью изъято право на историческую креативность и отнята привилегия персонального выбора в конкретной ситуации и управления ею, выступал в своих романах и трактатах JL Н. Толстой. Исповедуя шопенгауровскую пессимистическую трактовку «зараженности» мира непредсказуемой и иррациональной волей, Толстой утверждает подчиненность исторического субъекта надличностной, стихийной и индифферентной воле.
Он обличает историческое христианство, историческую церковь в приспособлении заветов Христа к закону этого мира..»5. И далее: «В личности, в личном сознании, которое для него есть животное сознание, он видит величайшее препятствие для осуществления совершенной жизни»6. Историческая позиция пассивной и умиротворенной созерцательности, приписываемая Толстым наиболее прозорливым и дальновидным историческим персонажам, - вроде Кутузова из «Войны и мира», сводится к добровольному и безмятежному соблюдению самых хаотичных, алогичных предписаний этой имперсональной воли. Толстовская проповедь исторического индетерминизма, отрицания персонального начала в историческом паноптикуме, изначально воспринятая бунтарским, анархическим и
3 Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 149, 6 Там же. С. 205. антиклерикальным манифестом, позднее, в русском религиозном ренессансе, стала мощнейшим источником идеологической подпитки для философов коллективно-соборного всеединства, особенно, для ревнителей его социально-почвеннической ипостаси, типа С. Франка или С. Булгакова.
Третья модель субъекта истории, также послужившая конструктивным импульсом для огранки солженицынского автобиографизма - культивируемая преимущественно во фрагментарно афористичных «журналах-дневниках» В. В. Розанова отчасти беллетризованная, отчасти раешная маска кабинетного оригинала, эксцентрика и затворника. Розанов щегольски выпячивает и по скоморошьи превозносит свой интимно-приватный, камерный, сосредоточенный способ существования, заключенный в
«уединенном» и крохоборческом коллекционировании житейских мелочей и архивировании всего «мимолетного», преходящего, неценного, частного. По утверждению В. Шкловского, для Розанова «Да» и «нет» существуют одновременно на одном листе, - факт биографический возведен в степень факта стилистического. Черный и красный Розанов создают художественный контраст, как Розанов грязный и божественный. Само «пророчество» его изменило тон, потеряло провозглашение, теперь это пророчество домашнее, никуда не идущее»7. Подобное сознательное и утрированное анахоретство под комфортной сенью домашнего очага, в тщательно пестуемом саду патриархально-семейного уклада, в афишированном чудачестве и безукоризненном следовании «алгебре» своих причуд приводит не к разрыву подобного персонажа с исторической событийностью, а,
7 Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 127. наоборот, к гармоническому и провидческому его приобщению к историческим основам.
Позиция закосневшего в своих бытовых заботах и чаяниях обывателя, обремененного всем набором типовых филистерских комплексов и фобий, позиция - подчеркнем это еще раз - для Розанова гипертрофированно карнавальная - позволяет ему с остраненной и парадоксальной точки зрения прочитать не только злободневную и сиюминутную «партитуру» истории, но и уловить ее непреходящие субстраты, ее опорные концепты: еврейство, пол, христианство, язычество, индивидуум и власть. Метафорически уподобляя многополюсность и парадоксальность розановской историософии «закону качелей», А. Синявский пишет; «Читая Розанова, мы словно раскачиваемся на качелях, то взлетая к христианству, а то к язычеству, качаясь между Ветхим и Новым Заветом, между библейским Апокалипсисом и актуальными событиями нашей современности»8. И еще: «В Розанове, вообще, наблюдается стремление любой вопрос поставить верх ногами, самым неожиданным образом»9. Язвительная парадоксальность и амбивалентная ирония Розанова вряд ли близки А.И. Солженицыну, но в его автобиографизме скорее всего учтен розановскии задел - преподнести трагический и разрушительный багаж мировой истории в дегероизированной оболочке степенного и консервативного быта.
А.И. Солженицын, разрабатывая свою безжалостно-объективную модель «лагерного» субъекта истории, весьма оригинальным образом преломляет и варьирует ранее сконструированные модели, иногда отвергая их по причине непригодности к ГУЛАГовской исторической
Синявский А. «Опавшие листья» В, В. Розанова. Париж, 1982.С. 90. 9 Там же. С. 247. ситуации, иногда зашифровывая в виде косвенных, вспомогательных отсылок. Модель деятельно-преобразовательного субъекта истории А.И. Солженицын разоблачает и нивелирует в силу того, что в абсолютно-механизированном, статичном и герметическом дисциплинарном пространстве ГУЛАГа полностью исключены даже малейшие зоны персонального действия и выбора.
Вторая, толстовская модель пассивно-созерцательного субъекта подвергается А.И. Солженицыным обструкции из-за ее тяги к непротивлению и квази-буддийской снисходительности к реальности -подобная пропаганда неделания в ситуации полицейско-репрессивной диктатуры лагерного начальства и всеобщего доносительства провоцирует саморазрушение и морально-этическую деградацию субъекта.
Наконец, третья модель отшельничества попросту оказывается недостижима, утопична и иллюзорна в замкнутом и непроницаемом извне лагерном универсуме с его апофеозом искоренения каких-либо моментов частного проживания и с отлаженными механизмами всеобщего надзора и контроля. В результате полемического и часто неоспоримого отрицания (или трансформации) ранее выдвинутых моделей исторической субъективности, А.И. Солженицын стремится убедить читателя, что в эпоху ГУЛАГа исторически оправдана только предложенная им модель пенитенциарного субъекта. Мы склонны толковать автобиографического героя «Архипелага ГУЛАГ ( и некоторых других текстов А.И. Солженицына) не литературным отражением реально-исторического автора, а морально-этическим конструктом, суммирующим идеологическую и нравственную позицию автора. Подобная трактовка станет нашим методологическим и концептуальным инструментом при дальнейшем прочтении текста «Архипелага ГУЛАГ» в контексте теории и практики автобиографизма,
В прозе А.И. Солженицына (и, главным образом, в документальной эпопее «Архипелаг ГУЛАГ») апелляция к литературно преображенному автобиографическому опыту оказывается чуть ли не стержневым семантико-образующим и сюжето-порождающим приемом. Сформулированная ранее концепция автобиографического персонажа в прозе А.И. Солженицына в виде синтетического морально-этического конструкта, обладающего признаками анонимности и одновременно всеобщности, универсальности, тем не менее не предполагает неизменность и предзаданность подобного персонажа.
Автобиографический герой солженицынской прозы ни в коем случае не является константой, чем-то заранее определенным и жестко спроектированным. Авторское я, литературный дублер реального автора, модифицируется и преломляется в зависимости не только от трансформации поэтики А.И. Солженицына от «Одного дня...» и «Матрениного двора» к «Красному колесу», но и в пределах замкнутого романного пространства, например, в «Архипелаге ГУЛАГ» или в «Раковом корпусе».
Инварианты автобиографического персонажа зависят от степени объективации автором своего персонального этического подхода, в независимости от того, подается ли он сугубо индивидуальной, частной позицией или переводится в разряд общеобязательных морально-культурных догм и нормативов. Поэтому уровень проявленности и значимости автобиографического персонажа варьируется в рамках одного и того же текста.
Единственно, что можно постулировать с достаточной долей уверенности даже без предварительного текстуального анализа: автобиографический персонаж является базовой, формирующей событийный ряд фигурой в прозе А.И. Солженицына. Он проявляется эксплицитно, если автобиографическому персонажу доверено амплуа активно влияющего на структуру сюжета героя-действователя, или имплицитно, если автобиографический персонаж проявлен подспудно, латентно, актуализируясь исключительно в отсылках к конкретным событиям авторского биографического ряда, к оценочным реакциям или эмоционально-риторическим упоминаниям о них.
В результате дальнейшего текстуального анализа будут проиллюстрированы различные типы и комбинации включения автобиографического персонажа в документально-фактографический текст «Архипелаг ГУЛАГ», включения, обеспечивающего в повествовании структурный баланс между внутренним и внешним, субъективным и коллективно-историческим.
Можно отметить, что в большинстве случаев филологи и публицисты, описывающие авторские маски и амплуа в прозе А.И. Солженицына, практически не занимаются классификацией элементов автобиографизма, а только фиксируют наличие явных или скрытых автобиографических коннотаций.
Автобиографичность и ее функционирование в качестве одного из доминантных принципов сюжетного построения в прозе А.И. Солженицына достаточно подробно и аргументированно анализирует французский славист и теоретик литературы Жорж Нива. В фокусе исследовательских стратегий Ж. Нива оказывается немаловажная для нас компаративная зарисовка многоплановых, иногда дихотомичных, отношений автобиографизма А.И, Солженицьгаа с автобиографическими тенденциями в прозе Л. Н. Толстого: «... помимо других различий, на первый план выступает, вот что: Солженицын — это автор множественный, собирательный. Он говорит за всех. Он выходит из неразрушимого субстрата человеческого общества, он уполномоченный слова. Мертвые и живые, предатели и герои отдали ему свое слово, — потерянное ими самими».
«Исповедь» А.И. Солженицына, полагает Ж. Нива, хотя и является столь же страстной и полной стыда, как у Толстого, —- не индивидуальна, она претендует на соборно-коллективное обобщение всего национального и исторического комплекса вины за то, что в масштабах религиозно и морально сформированного этноса смог реализоваться жесточайший имморальный в своих проявлениях государственный террор. По мнению Нива, универсальное и стремящееся к этическому всеединству автобиографическое «я» Солженицына благодаря сверхчеловеческому размаху своих обобщений придает неправдоподобному в своей чудовищности и хладнокровном фиксировании изощренных изуверств повествованию фактуру общей неизбывной реальности и общей не заглушаемой и неискупимой боли: «...«я» А.И. Солженицына — кающееся, борющееся или проклинающее — взято в кольцо реальности, которая его перекрывает, захлестывает, дает смысл его существованию и его крику. Он «изнывает под грудами тем». Реализм А.И. Солженицына — это реализм избыточности и глубокого погружения в смысл. Можно даже предположить, что подлинное величие А.И. Солженицына неотделимо от того, что пережито писателем реально, вживе» .
Функционирование авторской биографии в качестве источника сюжетных аллюзий, ассоциаций и ключей для интерпретации авторской Жорж Нива считает опорным пунктом и краеугольным камнем всей солженицынскои поэтики: «Автор настаивает больше, чем нужно, на Нива Ж. Указ. соч. С. 31-32. своей личной связи с событиями — через воспоминания детства, через свидетелей, которых он знал лично. Эта потребность в прямой связи — основная в поэтике А.И. Солженицына, поэтике «прямой передачи», «быстросхватывающегося раствора»... Всего более озабочен А.И. Солженицын оживлением пережитого, установлением прямых, непосредственных (как непосредствен, взгляд) отношений с ним»Е .
Ж. Нива характеризует А.И. Солженицына как писателя «одержимого реальностью». Нива подчеркивает, что Солженицын добровольно принял на себя миссию «ловца» реальности в контексте тюремно-лагерного абсурдного и алогичного существования, кажется, своим чрезмерным разрушительно-унизительным регламентом исключающего всякое представление и у зеков, и у начальства, что подобное интернированное пребывание вне антропоморфного времени и пространства могло бы соотноситься с понятием «реальность».12 По мнению Ж. Нива, сверхзадача солженицынского автобиографизма -«испытание» реальности на прочность и истинность, а главное, на ее релевантность с накопленным опытом индивидуальной и коллективной памяти, вины и этической ответственности за тяготы и лишения ближайшего лагерного соседа.
Ж. Нива также полагает, что «Бодался теленок с дубом» — это не мемуары в традиционном понимании этого жанрового конгломерата. Французский литературовед констатирует, что А.И. Солженицын испытывает идиосинкразическое отторжение и презрение к «дряблому» жанру мемуаров («липучее тесто»), где критерий истинности неуловим, а обострение нарциссизма и самолюбования почти не редуцируемо. Исследователь называет «Очерки литературной жизни» «книгой борьбы», и, пользуясь, подобно самому писателю, военными
11 Там же. С. 177-178
12 Там же. С, 50. метафорами, «хроникой появления и окапывания А.И. Солженицына»13.
Ж. Нива констатирует, что скрытой основой «Архипелага ГУЛАГ» является «собственный опыт туземца Архипелага по имени Солженицын».14 Исследователь пишет об особой «технике зрения», присущей «Архипелагу ГУЛАГ», построенному «как путешествие по следам зэков, как некое посвящение». При этом в основу солженицынского видения заложена «недоверчивость зэка, потребность все проверить на глаз»15. А.И. Солженицын, как подчеркивает Ж. Нива, постулирует ценность лично пережитого. Он утверждает новый «эмпиризм» в поисках правды, эмпиризм, при котором узкий круг пережитого ценнее, важнее, нежели широкий круг, очерченный идеологиями. «Всегда смотреть собственными глазами, никогда — через «очки» идеологии», — вот, до мнению Нива, принцип эмпиризма А.И. Солженицына.
На семантико-стилистических тонкостях и нюансах автобиографизма «Архипелага ГУЛАГ» сосредоточилась в своей работе американский русист Дж. Харрис16. Это произведение А.Й. Солженицына Харрис рассматривает в контексте «литературы достоверности», типичной для русской прозы XX в. Как полагает Дж. Харрис, сюжетные и стилистически апелляции А.И. Солженицына к «литературе достоверности» позволили ему рассредоточить свое повествование на «границе между реальным жизненным опытом и писательским воображением», и, таким образом, «найти свою натуру», по выражению А. Синявского, «не просто как объект изображения, но
13 Там же. С. 115.
14 Там же. С. 72.
15 Там же. С. 71.
16 Харрис Дж. Г. «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «литература достоверности»
II Русская литература XX века. Исследования американских ученых. СПб., 1993. С. 476-499. метафору и дыхание его внутреннего мира» .
По мнению Харрис, «Архипелаг ГУЛАГ» — не только и не столько «политическое обвинение». Она считает, что, центральная тема «ГУЛАГа» — обличение падения и деградации человеческой души, причины которых несводимы только к апофеозу политического деспотизма.
Анализируя структуру повествования «Архипелага ГУЛАГ», Харрис систематизирует структурно-семантические приемы, которыми А.И, Солженицын трансформировал свой реальный жизненный опыт в синтетическую фактуру повествования, названную им самим «художественным исследованием». Специфика его автобиографического подхода проявляется, по мнению Харрис, в суммировании персонального опыта и его литературных проекций: «Если эстетическая ценность таких произведений заключена во взаимодействии или напряжении между объективным и субъективным принципами организации текста, между эстетической интерпретацией и достоверностью живой жизни, между отражением опыта и самим опытом, между вымыслом и фактом — их динамическую силу следует искать в артикуляции этого диалога и в обнажении искусства посредничества. И если повествование фокусируется на границе между содержанием рассказа и процессом рассказывания, то на передний план выходит именно артикуляция или то, что А.И. Солженицын назвал «художественным исследованием» .
Как полагает Харрис, А.И. Солженицын обратился к жанру «художественного исследования», во-первых, чтобы исследовать свой личный уникальный опыт, свою совесть и свое сознание — источники духовно-исповедальной темы в его книге, — и, во-вторых, чтобы в
17 Там же. С. 495 96. п Там же. С. 486-487, историческом контексте обличить политико-тоталитарную систему полного и безраздельного подавления как индивидуальности, так и коллективно-исторического сознания.
Природа жанра «художественного исследования»,
использованного А.И. Солженицыным, заключается, полагает Харрис, в напряжении между личным сознанием, стоящим за книгой, и объективными данными, содержащимися в ней. Тем самым А.И. Солженицын сосредоточивает читательское внимание на границе между жизнью и искусством, на самом процессе творчества, предлагая читателю рассматривать этот труд скорее как «художественный», нежели как исторический текст, и одновременно побуждая его задаться вопросом о самой природе постижения правды, побуждая его рассматривать историческую истину в контексте персонального нравственного выбора19.
Структурно-семантические и ритмико-мелодические параметры автобиографизма Солженицына доказательно и систематично классифицированы в работе Д. А. Шумилина, зафиксированной на стратегиях воплощения позиции автора в «Архипелаге ГУЛАГ», т.е. с точки зрения авторского позиционирования в тексте вплотную подбирающаяся к проблематике автобиографизма, базовой и для нашего диссертационного исследования. В результате комплексного анализа структурно-семантических средств, индуцирующих фигуру автора, Д. Шумилин демонстрирует специфику субъектно-объектных отношений в тексте «Архипелага...», и разбирает модификации авторской позиции в зависимости от временного и хронотопического построения текста, а также от стилистических и ритмических фигур, используемых Солженицыным для акцентуации уникальности и всечеловеческой
Там же. С. 487 88. обобщенности своего автобиографического «я».
Любопытно, что в работе Д. Шумилина, равно как и в нашем исследовании, автобиографический персонаж «Архипелага» трактуется как эстетический феномен, производное поэтики Солженицына, и опорным теоретическим фундаментом для его изучения делаются историко-типологические, семиотические и семиологические концепции М. М. Бахтина, В. Виноградова. Ю. М. Лотмана, Б. Успенского и других.
В диссертации Д. Ш}-милина, сфокусированной на субъектно-объектных и пространственно-временных принципах организации сюжетного пространства «Архипелага», а не на семантико-стилистических механизмах конструирования автобиографического субъекта, индивидуализированного или историзованного, присутствует подтвержденный текстуальным анализом тезис о четырех ипостасях повествователя а «Архипелаге...», существенный и для доказательного разрешения наших исследовательских гипотез. Д. Шумилин предлагает схематизированный перечень этих четырех ипостасей: «исследователь, всевидящий свидетель, участник событий, мемуарист»20.
Затем Д. Шумилин переходит к обстоятельному описанию сюжетных и символических функций этих ипостасей. Функция повествователя-исследователя, по его мнению, формируется как результат нескольких структурных операций: «воспроизведение, комментарий, обобщение фактов и в итоге выражение авторской мысли, доведение ее до читателя». Причем материалом этих операциональных стратегий исследователя служат исторические и документальные свидетельства очевидцев и жертв ГУЛАГА, так что исследователь, по мнению Д.Шумилина, находится в диалогически активной позиции по
20 Шумилин Д.А. Способы воплощения позиции автора в «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына. Автореферат диссертации. М., 2000. С. 4, отношению к информируемому им читателю, которому он и адресует скомпилированный им исторнко-фактографический материал лагерного быта. Исследователь претендует на панхронную позицию всевиденья и всеведенья благодаря производимому им монтажу диахронического и синхронического планов повествования.
Другую ипостась повествователя - свидетеля - Д. Шумилин наделяет паноптической обзорной точкой зрения на лагерный материк, и отмечает, что объект его свидетельских показаний - это «мир Архипелага, взятый в единстве типологических характеристик как единовременный срез бытия»" . Свойственная свидетелю скользящая, незафиксированная точка зрения позволяет ему то резко увеличивать, то уменьшать топографическую сетку Архипелага, постоянно перенося семантические акценты с панорамного вида лагерного «космоса» на более мелкие, и оттого броские и психологически воздействующие детали.
Повествователь включается во внутреннюю логику сюжетных событий и в пространственно-временную протяженность текста на правах активного участника, созерцающего лагерную карту не снаружи, а изнутри, и, соответственно, персонально, собственными усилиями, прокладывающий свой маршрут «хождения» по тюремно-каторжным «мукам», становясь «частью общности «зеков»23.
Субъектно-объектные функции такого отодвинутого в условное настоящее мемуариста Д. Шумилин суммирует следующим образом: «раздвоение повествования помогает автору быть отстраненным от героя, оценивать его поступки взглядом, преображенным позднейшим знанием и пониманием, и в то же время быть настолько слитым с ним, чтобы передавать его чувства и переживания» . Наименее отчетливо и без однозначных дефиниционных параметров прорисована фигура так называемого «собственно автора». По мнению Д. Шумилина, он на лексико-грамматическом уровне маркируется в тексте субъектными глагольными и отглагольными конструкциями, а также
24 Там же.
25 Там же. С.7.
26 Там же.
за проинтерпретированными М. Бахтиным «гибридными конструкциями» и «несобственно-прямой речью». В результате его присутствия подвергается семантической переакцентуации «точка зрения власть предержащих, выраженная языком газетных штампов, «пролетарского правосудия», сотрудников органов, ортодоксов, легковерных обывателей»27.
Таким образом, выделение фигуры «собственно автора», на наш взгляд, выглядит надуманной и нефункциональной натяжкой, поскольку затемняет представления о лексико-фразеологическом и концептуально-идеологическом авторском единстве. Кроме того, кажется спорным и недостаточно доказательным утверждение о конституировании фигуры автобиографического персонажа в результате сегментирования и детализации мемуарного повествователя. С нашей точки зрения, их соотношения равно противоположные, и скорей повествователь-мемуарист оказывается одной из вложенных ипостасей автобиографического персонажа.
Но высказанные здесь частные расхождения в трактовке солженицынского автобиографизма только оттеняет значимость для нашего исследования итоговых положений диссертации Д. Шумилина. А именно - авторская позиция в тексте «Архипелага...» суммируется из разнопланового набора композиционно-стилистических компонентов. Во-первых, «сложной субъектной и временно-пространственной организацией повествования, наличием взаимодополняющих и взаимоисключающих точек зрения». Во-вторых, поэтическая маска автора определяется упорядоченностью текстовых синтагм, интонационным заполнением фразовых периодов, ритмико-мелодической просодикой, т.е. «ритмико-интонационной структурой
Там же. текста, при которой стилистические «перепады» соответствуют сопряжению поэтического и разговорного слова. В-третьих, парадигма авторства у Солженицына задается «образно-лейтмотивноЙ системой, создающей сюжетно-композиционное единство «художественного исследования» А. И. Солженицына, - т.е. согласованием и соподчинением центральной мифопоэтической оппозиции «верх-низ» и стихийно-природными мотивами огня, воздуха, ветра, света и т.д.28
Произведенное здесь беглое, краткое и обзорное изложение истории вопроса позволит нам в дальнейшем более обоснованно прочертить контуры и траектории автобиографизма Солженицына в свете нескольких важнейших структурно-семантических категорий:
речевая и лексико-фразеологическая организация автобиографизма Солженицына, т.е. набор вербальных и грамматических средств, используемых для формирования речевой маски автобиографического персонажа;
стилистика солженицынского автобиографизма, т.е. стилистические регистры и диапазоны, от разговорно-диалектных до протокольных и документальных стилевых единств, маркирующие присутствие в тексте автобиографического начала;
риторика автобиографизма Солженицына, т.е. спектр символических, фигуральных и эмблематичных значений, а также метафорических и аллегорических приемов, направленных на придание автобиографическому персонажу символической репрезентации всенародного страдания и лагерно-каторжного существования;
- прагматика автобиографизма Солженицына, т.е. принципы дидактического или проповеднического оснащения текста и его интонирования, ориентированные на конкретные запросы тех или иных
21 Там же. С. 15. социальных уровней читательской аудитории;
- способы индивидуализации автобиографического персонажа, т.е. совокупность изобразительных средств, затрачиваемых на прорисовку предельно автономного и уникального эмоционально-психологического портрета авторского alter ego;
- способы объективации автобиографического персонажа, т.е. особая аранжировка изобразительных приемов и орудий, нацеленная на подачу автобиографического персонажа в виде коллективного голоса, сплоченного из реплик и показаний миллионов безъязыких и наконец получивших право высказаться узников и жертв ГУЛАГА;
- факторы и условия историоризации автобиографического персонажа, т.е. его амбивалентное положение в истории в качестве заключенного в гулаговском застенке пенитенциарного субъекта истории, практически исключенного из исторической динамики, и в качестве беспристрастного и надисторичного летописца ГУЛАГА и компилятора мемуарно-свидетельских высказываний гулаговских узников, обладающего сверхинформативным видением исторической процессуальности.
Упорядочение этих требующих дальнейшей расшифровки и детализации категорий солженицынского автобиографизма диктует и особую композиционную структуру исследования. Первая глава диссертации практически целиком будет отведена под всестороннее историко-хронологическое описание структурных признаков автобиографизма и критериев автобиографического жанра, что позволит во второй главе убедительно и исчерпывающе продемонстрировать, с одной стороны, встроенность и генетическую укорененность Солженицына в русской автобиографической традиции. К отдельным иллюстративным жанровым образцам этой традиции он нередко апеллирует и с ними же едко и остроумно полемизирует, доказывая их историко-философскую непригодность при документировании экстремально жестокого и бесчеловеченого опыта гулаговских застенков. С другой стороны, произведенный в первой главе обзор важнейших структурных инструментов и историко-литературных модификаций автобиографизма, позволит нам во второй вскрыть и обосновать те инновационные мотивы и повествовательные механизмы, которыми Солженицын обогатил традиционную автобиографическую технику.
В заключение остается добавить, что новаторский характер данной работы определяется как недостаточной степенью изученности теоретико-методологического материала, касающегося структурно литературных критериев автобиографизма, так и пока неудовлетворительным количеством филологических исследований поэтико-стилистических приемов прозы Солженицына в аспекте его авторской позиции и автобиографических масок повествователя.
Типологические признаки и категории автобиографии и автобиографического жанра в теоретико-критических исследованиях.
Особенности жанра автобиографии неоднократно обсуждались теоретиками и историками литературы, литературными критиками. В своей работе мы опираемся на наиболее значительные исследования в европейском, американском, российском и арабском литературоведении, в которых анализируется автобиографизм в целом и автобиографические произведения отдельных периодов и авторов.
В большинстве филологических работ и словарей литературной терминологии автобиография определяется со ссылкой на этимологическое значение термина (autus - «сам», bios - «жизнь», grafo -пишу), то есть как описание собственной жизни. Автобиография, по большинству определений, включает в качестве предмета описания личность в пространстве и времени, личность, являющуюся одновременно объектом и субъектом описания. Часто отмечается, что автобиографическая проза — это, как правило, проза фабульная. При этом канвой фабулы выступает биография автора, чаще всего данная в хронологической последовательности, связанной с периодизацией его биографического ряда. К числу доминантных признаков автобиографического текста относят рассказ от первого лица, сосредоточенность на раскрытии психологических и идеологических процессов в эволюции автобиографического героя, специфический лиризм, называемый критиками «исповедальным»1.
Так, Британская энциклопедия констатирует, что автобиография должна охватывать значительную часть жизни, если не всю жизнь. Она пишется, как правило, в форме новеллистических периодов, расположенных в определенном порядке, предполагающем преднамеренный отбор материала и создание нарративного целого, хотя при этом автобиография и не опирается на выдуманные факты.
За основу нашего подхода к понятию автобиографии мы можем взять ее определение, данное в книге Ф. Лежэна «Автобиографический договор»: «повествовательный текст с ретроспективной установкой, который реальная личность рассказывает о своем бытии, и притом ударение ставит на свою личную жизнь, особенно историю становления своей личности»2. Содержанием, своеобразной начинкой автобиографии как текста становятся не литературный вымысел или культурные символы, мифы и аллюзии, а конкретные события, заполняющие жизнь автора. Автор по-своему перекладывает жизненные события в канву культурной традиции и превращает их в литературный материал.
Степень художественности автобиографии определяет категория достоверности, то есть уровень соответствий реального жизненного ряда и его литературных версий. Существует разная степень достоверности художественной биографии по отношению к реальной. Категорию достоверности определяют интенция автора, то есть, стремление показать правду или скрыть ее, и рецепция читателя, то есть, готовность (или нежелание) поверить автору. Условием автобиографического текста является мера достоверности, благодаря которому и автор и читатель относятся к тексту как истинному (документально-биографическому) и одновременно как вымышленному (художественному). В случае смещения меры достоверности в ту или иную сторону текст превращается либо в документ либо художественное произведение.
Автобиографический текст — это произведение, основанное на документальных фактах из жизни автора и предполагающее большую степень достоверности по сравнению с другими литературными текстами, прозаическими или поэтическими. Автор биографического текста субъективно воспринимает внешние события и явления, вносит свою индивидуальную оценку происходящего. При этом возникает вопрос: каким образом автобиография становится художественным текстом? Коротко ответим на этот вопрос так: данный процесс обусловлен отбором материала и его переработкой автором. Выбор для художественного изображения тех или иных жизненных событий обусловлен в первую очередь авторской концепцией своей биографии, его эстетизированным подходом к собственному жизненному пути.
Историческая эволюция автобиографии и теоретико-критические интерпретации автобиографизма
Несмотря на важное место в истории мировой литературы и особенно в XX в., жанр автобиографии в литературоведении до сих пор не был проанализирован в его исторической эволюции. В данном параграфе мы предпринимаем попытку обрисовать контуры развития автобиографического жанра в целом, выделить основные этапы в эволюции жанра, показать специфику каждого этапа, связав ее с особенностями основных этапов общелитературного процесса, кратко охарактеризовать наиболее значимые, «этапные» произведения автобиографического жанра.
Жанр автобиографии на протяжении своей истории претерпевал трансформации. Произведения этого жанра изменялись по характеру и глубине осмысления «материала», в принципах типизации, в особенностях композиции, изобразительных средств, языка и т.д. Так как автобиография в своём длительном историческом развитии приобретала разные формы, акцентирование одного определения исключит много важных её типов, и поэтому мы должны рассмотреть «автобиографию» не только со стороны её объективного материала, но и со стороны её техники и функций.
По нашему мнению, генезис автобиографии восходит к древним цивилизациям. По отношению к этому времени еще нельзя говорить об автобиографии в ее современной форме, но это были некие литературные формы, похожие на исповедь, записки или завещание,
Мы считаем, что самым древним примером произведений в жанре автобиографии являются тексты, которые древние египтяне писали на надгробных камнях, чтобы представить себя и рассказать о своих деяниях. Древние египтяне славились во времена фараонов рисунками на своих надгробных камнях, пирамидах, храмах, где изображена их история и поступки.
Правители персов оставили много завещаний и напутствий, которые предназначались их родственникам и младшим поколениям. В книге «Испытания народов», написанной Маскавием, повествуется о том, как Хосрой написал книгу о синтезе жизни и политики. В этой своеобразной автобиографии Хосрой рассказал о войнах и победах, о том, как он распространил справедливость среди подданных и избавил население от тяжести налогов. Древний врач персов Бурзави оставил нам автобиографию в предисловии к своей книге «Калила и Демна». В ней он много говорит о поисках истины, о том, как усомнился в правдивости религии своих предков и поэтому принял другую религию.
Арабы также оставили большой след в развитии жанра автобиографии28. Важным представляется наблюдение исследователей о том, что историческое знание у арабов в течение многих веков выражалось в форме биографий и автобиографий.
Характеризуя в целом развитие автобиографии в литературах Востока, подчеркнем, что здесь автобиографический жанр не выделился в «чистом» виде, автобиографические сюжеты являлись составной частью синкретических видов письменности.
На Западе история автобиографии восходит к периоду античности. Многие античные авторы раскрывали в своих произведениях становление собственной индивидуальности. Так поступал Гораций в стихах и Цицерон в письмах. Юлий Цезарь в книге Хелал М. Введение в современную литературную критику. Каир, 1962; Насир М Изучение арабской литературы. Бейрут, 1963; Эль Нагар X. История и биография, Каир, 1964; Закария И. Проблема человека, Каир, 1972. «Записки о галльской войне» описал походы, войны, гражданскую войну между ним и Помпеем, продемонстрировал интриги друзей и козни врагов.
По нашему мнению, большое влияние на развитие жанра автобиографии в Европе оказала «Исповедь Блаженного Августина» (399). Можно согласиться с мнением историка литературы Жоржа Мика: возникновение самосознания личности, которое ярко отразилось в этом произведении, стало возможным только в контексте христианской религиозности. Исповедь Августина отличается откровенностью, правдивостью и психологическим анализом. Он показывает историю жизни как единое религиозно-психологическое целое, начиная с раннего детства. Августин подробно и откровенно говорит о любви к матери, о борьбе против страстей и грехов, о искании философской правды и о предыстории принятии христианства.
В историко-литературных исследованиях уже отмечалось, что в средневековой европейской литературе значение автобиографии было незначительно. Мы можем назвать лишь немного автобиографических произведений.
История создания, цели и жанровые особенности «Архипелага ГУЛАГ»
Солженицын начал писать «Архипелаг ГУЛАГ» весной 1958 года, но работа скоро прервалась, так как материала, основанного на собственном опыте автора и его друзей, по мнению Солженицына, было недостаточно.
С конца 1962 г., после выхода в свет повести «Один день Ивана Денисовича», автор начал получать множество писем бывших заключенных с предложениями встретиться и поведать о лагерно-тюремном опыте.. В течение 1963 - 1964 годов благодаря этим письмам и в результате персональных встреч с бывшими зеками был собран огромный материал, полученный от 227 очевидцев. В дополнение к своему опыту Солженицын взял на себя груз воспоминаний других людей: «И эту книгу я пишу из одного сознания долга — потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть» (Т. 2. С. 141. В дальнейшем цит. по: Солженицын А.С. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. М, 1990.).
Осенью 1964 года был составлен окончательный план произведения — в семи частях. К марту 1967 года шесть первых частей были в основном закончены. В мае 1968 г. в Рождестве-на-йстье отпечатана окончательная редакция всех трех томов. В августе 1973 года при трагических обстоятельствах первый вариант книги попал в руки госбезопасности. Сам автор пишет о конфискации книги: «В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни: дракон вылез на минуту, шершавым красным язычищем слизнул роман, еще несколько старых вещей — и ушел пока за занавеску. Но я слышу его дыхание и знаю, что зубы его намечены на мою шею, только еще не отмерены все сроки. И с душою разоренной я силюсь кончить это исследование, чтоб хоть оно-то избежало драконовых зубов. В дни, когда Шолохов, давно уже не писатель, из страны писателей растерзанных и арестованных поехал получать Нобелевскую премию, — я искал, как уйти от шпионов в укрывище и выиграть время для моего потайного запыхавшегося пера, для окончания вот этой книги» (Т. 2. С. 141).
Арест рукописи книги подтолкнул публикацию ее на Западе, и вскоре после того, как это произошло, автор был выслан из СССР. За границей продолжался поток писем и личных свидетельств, и это, вместе с некоторыми печатными материалами, известными на Западе, побудило автора к добавлениям и доработке первоначальной редакции «Архипелага ГУЛАГ». Окончательная редакция была опубликована в 1980 году.
Хотя А.И. Солженицыну чрезвычайно способствовали письма и воспоминания многих свидетелей этой жестокой и бесчеловечной драмы, тем не менее книгу он вынужден был писать один, а автор сокрушался по этому поводу: «Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям и потом на редакционном совете, друг другу помогая, выправить всю. ... Но время тому не пришло. И кому предлагал я взять отдельные главы, — не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в мое распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать — отклонил и он. ... А нужна была бы целая контора. Свои объявления в газетах, по радио («откликнетесь!»), своя открытая переписка — так, как было с брестской крепостью. ... Но я не только не мог я иметь всего того разворота, а и замысел свой, и письма, и материалы я должен был таить, дробить и сделать все в глубокой тайне. И даже время работы над ней прикрывать работой будто бы над другими вещами... » (Послесловие).
Работа над книгой давалась Солженицыну трудно, но ощущалась им как долг: «Уж я начинал эту книгу, я и бросал ее. Никак я не мог понять: нужно или нет, чтоб я один такую писал? И насколько я это выдюжу? Но когда вдобавок к уже собранному скрестились на мне еще многие арестантские письма со всей страны, — понял я, что раз дано это все мне, значит я должен» (Т. 3. С. 371). Таким образом, собранный огромный устный и письменный неопубликованный материал уже сам по себе обязывал автор высказаться от имени людей, доверивших ему свою исповедь.
Интересно, что «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын воспринимает не как свой личный труд — «эту книгу непосильно было бы создать одному человеку» — а как «общий дружный памятник всем замученным и убиенным». Автор надеется, что, «став доверенным многих поздних рассказов и писем», сумеет поведать правду об Архипелаге, прося прощение у тех, кому не хватило жизни об этом рассказать, что он «не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался» (Т. 1. С. 7, 11). Эта же мысль выражена в Нобелевской лекции: «И мне сегодня, сопровожденному тенями павших, и со склоненной головой пропуская вперед себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать они?» .