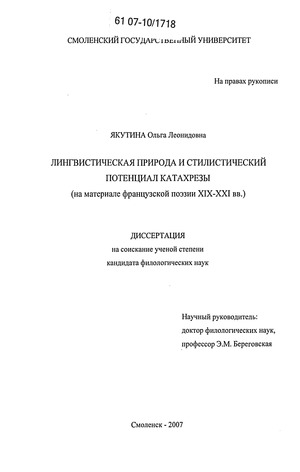Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Характеристика лингвистической природы катахрезы 21
1. Семантические особенности катахрезы 21
1.1. Катахреза метафорического происхождения 28
1.2. Катахреза метонимического происхождения 32
1.3. Катахреза-парадокс 35
2. Морфо-синтаксические модели катахрезы 37
2.1. Катахрезные сочетания с прилагательными цвета 44
3. Особенности функционирования катахрезы в поэтическом тексте 55
4. Катахреза - тропо-фигура 66
Выводы 72
ГЛАВА II. Катахреза в системе бинарных экспрессивных словосочетаний 75
1. Катахреза и оксюморон 75
2. Катахреза и синестезия 95
Выводы ПО
ГЛАВА III. Катахреза в контексте индивидуального стиля 113
1. Катахреза в поэтике Алена Боске 113
1.1. Общая характеристика идиостиля Алена Боске
1.2. Место катахрезы в системе стилистических средств Алена Боске 127
2. Катахреза в поэзии Лео Ферре 136
Выводы 148
Заключение 151
Библиографический список 157
Список использованных словарей 168
Список источников примеров
- Катахреза метафорического происхождения
- Особенности функционирования катахрезы в поэтическом тексте
- Катахреза и синестезия
- Место катахрезы в системе стилистических средств Алена Боске
Введение к работе
На нынешнем этапе своего развития лингвистика ставит на одно из первых мест проблему коммуникативного (функционального) аспекта языка и речи. В связи с этим стилистические фигуры и другие стилистические приемы все больше привлекают внимание современных лингвистов.
Предметом нашего исследования стал такой сложный стилистический феномен, как катахреза. Одно из первых упоминаний о ней мы находим в "Риторике" Лами, где катахреза считается самым свободным из всех тропов, "когда разум не принимает подобного выражения, но необходимость заставляет им пользоваться" [Лами 2002, с. 127]. Таким образом, существование этого феномена зафиксировано еще в античных риториках, но природа его окончательно не выяснена и сегодня. Катахреза не пропадает из поля зрения лингвистов в течение нескольких веков, однако она ни разу не стала объектом детального глубокого изучения. Большое количество трактовок катахрезы можно встретить в словарно-энциклопедической литературе. Отдельные наблюдения над катахрезой, ограничивающиеся двумя-тремя страницами, мы находим в работах Э.М. Береговской [Береговская 2004; Береговская 2005], А.П. Сковородникова [Сковородников 2005 Б], В.П. Москвина [Москвин 2000], М.Р. Желтухиной [Желтухина 2003]. Среди французских лингвистов, занимавшихся проблемой тропов и уделивших некоторое внимание катахрезе, можно выделить Барберри, Дюмарсе, Фонтанье, Гиро, Женетта и др. [Barberi 1821; Dumarsais 1988; Fontanier 1988; Guiraud 1954; Женетт 1998]. Однако каких-либо монографий или хотя бы специальных статей, посвященных этому сложному, но интересному стилистическому феномену, нам не известно, причем ни на материале французского, ни русского языков. Между тем катахреза довольно широко распространена в
текстах французской поэзии, особенно в поэтических текстах декадентского периода.
В риторике и стилистике нет единой точки зрения на природу катахрезы как стилистической фигуры, а соответственно не существует и общепринятого, общепризнанного ее определения. Нет единообразия в этом отношении как в словарно-энциклопедическои литературе, так и в научных работах отдельных исследователей.
Анализ существующих в словарях и энциклопедиях дефиниций катахрезы позволил нам выделить шесть основных групп:
Одни [Ахманова 1969, с. 189; Культура русской речи 2003, с. 238] определяют катахрезу как "неправильное" употребление слова или выражения, "... которое неправильно объясняет подразумевающееся значение ..." [The Encyclopedia Americana 1961, с. 27];
Во вторую группу, насчитывающую большое количество сторонников, мы включили определение катахрезы как противоречивого сочетания слов в переносном значении, ошибочного или намеренного, или одновременное употребление в прямом и в переносном значении слов, логический смысл которых не согласуется и которые представляют, тем не менее, своеобразное смысловое единство [БСЭ 1937, с. 745; БСЭ 1956, с. 367; КЛЭ 1966, с. 445: Квятковский 1998, с. 153; Крысин 1998, с. 312; Павлович 1999, с. 131];
В некоторых словарях [Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон 1895, с. 722; Encyclopedia Americana 1961, с. 27; Grand Larousse 1993, с. 619] термин "катахреза" рассматривается относительно другого стилистического феномена - метафоры. Сторонники этой теории высказывают мысль о том, что катахреза является неправильным употреблением метафоры для обозначения какого-либо предмета, для которого язык подобрал специальный термин. В такой метафоре прямые смыслы вступают в противоречие друг с другом, создавая
образ, который "... не вяжется с остальной частью предложения..." [Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон 1895, с. 722];
К четвертой группе примыкают те, для кого катахреза есть стилистический прием, который заключается в том, что говорящий, производя своего рода "насилие" над словом (гр. kata-chresis), употребляет его в значении, выходящем за пределы его точного смысла. При этом само слово начинает обозначать другой предмет, имеющий некоторое сходство с предметом, который оно обозначало первоначально [Marouzeau 1943, с. 50; Марузо 1960, с. 131; Grand Larousse 1986, с. 619];
В пятую группу мы включили дефиниции катахрезы как стилистической (риторической) фигуры. Авторы этого определения [Маноли 1983, с. 37; Nouvelle encyclopedic Bordas 1985, с. 916; Le Robert 1986, с. 398] видят сущность катахрезы в ее фигуральном аспекте. Они утверждают, что для обозначения какой-либо идеи, у которой нет своего собственного слова-названия, мы прибегаем к употреблению слова в фигуральном значении, чем и является катахреза как риторическая фигура;
В некоторых лексикографических трудах [Ахманова 1969, с. 189; Mazaleyrat, Molinie 1989, с. 58] катахреза квалифицируется как троп, суть которого заключается в том, что слова употребляются в значениях, им естественно не принадлежащих.
Таким образом, мы видим, что катахрезе даются разные трактовки. В большинстве случаев ее квалифицируют как троп, либо фигуру, или менее определенно как стилистический (риторический) прием. Катахреза, как и большинство фигур речи, становится, если воспользоваться выражением А.П. Сковородникова, "жертвой" "системной неупорядоченности терминологии" в области стилистических фигур. Неупорядоченность эта выражается в том, что один и тот же риторический прием или фигура
обозначаются разными терминами или, наоборот, одним и тем же термином называются разные риторические приемы и стилистические фигуры. Еще одним вариантом, представляющим наибольшие трудности для исследователей и просто читателей различных словарей, являются случаи отнесения феноменов разной речевой природы к одному и тому же классификационному разряду [Сковородников 2004, с. 5].
Выяснить, что представляет собой катахреза на самом деле -"стилистический прием", "синтаксическую фигуру" или "троп", и является первой целью нашего исследования.
На основе анализа существующих работ попытаемся определить свое понимание данной проблемы.
Понятия "стилистический прием", "синтаксическая фигура", "троп" являются базовыми понятиями лингвостилистики. Исследователи неоднократно подчеркивали необходимость разграничения этих понятий и даже предпринимали попытки его осуществить [Копнина 2001, с. 12-31; Сковородников 2004, с. 5-12].
Слово "фигура" в переводе с греческого языка означает "очертание", "оборот", "образ". В языкознании нет исчерпывающе точного и общепринятого определения фигуры. Оно включает в себя следующие моменты: во-первых, особое стилистически значимое построение словосочетания, предложения или группы предложений в тексте [РЯ. Энциклопедия 1997; Квятковский 1998; Крысин 1998]; во-вторых, усиление выразительности за счет этих стилистических оборотов, выходящих за рамки практически необходимых норм [Квятковский 1998; Крысин 1998; Большой толковый словарь РЯ 2001; Толковый словарь живого великорусского языка 2003]. Сам термин употребляется в различных смыслах. Однако есть тенденция к закреплению этого термина и к выявлению его лингвистического смысла. Указанная неопределенность коренится как в истории термина "фигура речи" (и шире "фигуры"), так и в
стремлении языкознания усвоить понятие, сложившееся вне его рамок [ЛЭС 2002, с. 542]. Этот термин был привнесен в античную риторику из искусства танца и вошел в употребление в эллинистическую эпоху, когда развивалось учение о фигурах как необычных оборотах, украшающих речь и способствующих ее убедительности [Культура русской речи 2003, с. 687-688; СЭС РЯ 2003, с. 452]. Именно античные науки внесли существенный вклад в разработку вопроса об использовании фигур речи и их классификации. Ни античным, ни современным ученым не удалось прийти к общепринятой точке зрения на природу, терминологическое обозначение и классификацию фигур.
Сходная ситуация сложилась и с тропами. В переводе с греческого "троп" означает "поворот", "оборот", "образ". Этот термин известен давно, со времен зарождения риторики. Именно в античных риториках; были определены основные теоретические положения, связанные с тропами. Как указывает Н.Ф. Кошанский, именно нужда изобрела тропы, так как в природе больше предметов и действий, нежели в языках слов. "Вначале перенесли слова от одного значения к другому по нужде, потом по воображению, сближая два понятия, собственное с переносным, что доставило приятное разуму, разум нашел в нем удовольствие. Таким образом, изобретение нужды обратилось в роскошь, составило украшение и риторика назвала его тропами" [Цит. по Ахтырская 1999, с. 64].
Аристотель был первым, кто дал описание художественной речи как отклоняющейся от обычной при помощи "слов необычных, в частности, иноземных и устарелых или вновь образованных". Понятие же "тропа" было впервые дано Марком Фабием Квинтилианом. Он определял троп как такое изменение собственного значения слова или словесного оборота в другое, при котором получается обогащение значения [Цит. по Ахтырская 1999, с. 8].
Как античные риторы, так и современные лингвисты выделяют следующие черты, характерные для тропов: во-первых, сочетание двух разных планов - прямого и переносного, характеризующих их смысловую структуру; во-вторых, усиление выразительности за счет переноса значения с одного объекта на другой, с которым первый связан тем или иным смысловым отношением [Ахманова 1969; Квятковский 1998; Крысин 1998; ЛЭС 2002; Толковый словарь живого великорусского языка 2003].
Античные риторы, не достигнув единообразия в классификации тропов, впоследствии придерживались деления различных средств создания экспрессивности на "тропы" ("обороты") и "фигуры", а собственно фигуры - на фигуры мысли и фигуры слова. К тропам относились отдельные слова, употребленные необычным образом, а к фигурам - сочетания слов. Если при изменении этого сочетания менялся и смысл, то мы имели дело с фигурой мысли, в противном случае это была фигура слова [Guiraud 1954, с. 21; Пугачева 1999, с. 18-19]. Об этом свидетельствуют классификации, данные в риторических трудах 17-19 вв.
Надо заметить, что не только авторы XVII века не смогли прийти к единому мнению по вышеназванной проблеме. Споры относительно классификации тропов продолжаются и по сей день. Риторическое наследие - богатый и щедрый источник, однако, например, в романтическую и постромантическую эпоху оно воспринимается как тормоз в развитии стилистики. По мнению Г.Г. Хазагерова, именно смешение (часто неосознанное) положений, покоящихся на разных эстетических основаниях, и является причиной подобных разногласий, так называемым "узким местом" теории тропов, включая и современное ее состояние [Хазагеров 1984, с. 14]. Ученый сравнивает роль классификации тропов и фигур в филологии с тем, чем до недавнего времени была для математики теорема Ферма, которую не удавалось доказать ни в
положительном, ни в отрицательном смысле. В средневековых описаниях тропы и фигуры составляли номенклатуру из двухсот и более единиц. Многие из этих терминов использует и современная филология, стремясь преодолеть противоречия в классификации тропов и выявить систему в отношениях между ними и между тропами и фигурами [Ахтырская 1999, с.
9].
Авторы современных таксономии либо следуют старым моделям, либо делают попытки сформулировать новые логические матрицы для деления стилистических приемов [Пугачева 1999, с. 20]. Причем количество тропов существенно колеблется в зависимости от тех критериев, по которым они выделяются.
Льежская группа во главе с Ж. Дюбуа классифицирует фигуры, исходя из конститутивных действий (сокращения, добавления, сокращения с добавлением или перестановки), в результате которых они формируются [Общая риторика 1986].
Ж. Мазалейра и Ж. Молинье подразделяют фигуры на микроструктуры (традиционные фигуры способа выражения и построения) и макроструктуры (традиционные фигуры мысли) [Mazaleyrat, Molinie 1989].
Большой интерес здесь представляют разработки русской лингвистической школы. В 18-19 веках было написано много риторик, представляющих важные этапы на пути развития теории русской словесности. Уже в первой русской риторике Макария (датируется 18 веком) встречается классификация словесных и сказательных тропосов. К первым относили восемь: "метафора, металепсисъ, синекдоха, метонимия, антономазия, катахрезисъ (выделено нами - Я.О.), ономатопеия и перифразисъ" [Василенко 1998, с. 88]. Эта классификация совпадает с классификацией "тропосовъ" в риториках братьев Лихудов.
Обращаясь к истории вопроса, можно выделить еще один важнейший критерий деления - протяженность контекста, необходимого для понимания переносного смысла выражения. В соответствии с этим критерием различались "тропы речений " и "тропы предложений " [Чернец 2001, с. 8]. Так, в авторитетном "Словаре древней и новой поэзии" Н.Ф. Остолопова (1821) к тропам речений, состоящим в "перенесении одного слова от собственного знаменования к другому", отнесены метафора, метонимия, синекдоха, антономазия, катахрисис (выделено нами - Я.О.) и металепсис. Тропы же предложений "состоят в перенесении целого предложения от собственного значения к другому". Таковы аллегория, парафразис [перифраз], ипербола [гипербола], емфазис, ирония; эти тропы "называются иначе фигурами" [Чернец 2001, с. 8]. Те же тропы речений и предложений перечислены М.В. Ломоносовым в его "Риторике" ', [Ломоносов 1957].
Однако это далеко не единственная классификация. Об условности, . нечеткости границы между собственно тропами и родственными им стилистическими приемами красноречиво свидетельствуют разные перечни тропов, предлагаемые в учебниках и терминологических словарях. Например, И.В. Арнольд рассматривает фигуры и тропы с точки зрения парадигматических и синтагматических отношений [Арнольд 1990]. Согласно ее теории изобразительные средства основаны на ассоциации выбранных автором слов и выражений с другими близкими им по значению и, следовательно, потенциально возможными, но не представленными в тексте словами, поэтому их можно охарактеризовать как парадигматические. Выразительные средства являются синтагматическими, т.к. они основаны на линейном расположении частей и эффект их зависит именно от расположения.
Э.М. Береговская соотносит все явления экспрессивного синтаксиса с принципом симметрии/асимметрии, где симметрия выступает в качестве
таксономической опоры. Автор делит все стилистические приемы на четыре группы: тропы, обусловленные только семантически; синтаксические фигуры, обусловленные только структурно; фигуры и тропы, обусловленные семантически и структурно и, наконец, зевгма вместе с катахрезой (выделено нами - О.Я.) и оксюмороном, обусловленные и семантически, и морфологически, и структурно [Береговская 2004].
Ю.М. Скребнев подразделяет тропы по их содержательной характеристике на количественные и качественные. Количественными тропами, т.е. переименованиями, усиливающими или ослабляющими характеристики именуемого, являются гипербола и мейозис. Тропы второй группы демонстрируют качественное отличие ситуативно обозначенного от традиционного (словарного, буквального) означаемого данной единицей. Группу составляют метонимия, метафора и ирония [Скребнев 1987, с. 63]. Как видим, Ю.М. Скребнев не причисляет катахрезу ни к количественным, ни к качественным тропам. К тому же автор категоричен в отношении остальных стилистических понятий, подчеркивая, что никакие другие стилистические понятия в данную классификацию тропов не входят. Такие понятия представляют собой либо частную разновидность тропа (синекдоха, олицетворение, антифразис), либо гибридное тропеическое образование (гиперболическая метафора и т.п.), либо нечто реализующееся в синтагматике (литота, перифраз), либо, наконец, нечто, имеющее формально-синтаксические ограничения (эпитет) [Скребнев 1987, с. 64]. Исходя из теории Ю.М. Скребнева, катахрезу можно отнести к гибридным тропеическим образованиям. В "Словаре лингвистических терминов" О.С. Ахмановой мы встречаем аналогичное определение катахрезы как "... разновидности гиперболической метафоры" [Ахманова 1969, с. 189].
Классификации некоторых исследователей базируются на способности тропов быть "общими украшениями" [Guiraud 1954; Чернец 2001]. Этот термин также берет свои истоки в старой риторике. Так, в "Риторике" Лами мы находим следующую фразу: "Искусственные украшения - это тропы, фигуры, гармоничное расположение слов, составляющих речь, это одухотворенная мысль, выраженная непривычным способом..." [Лами 2002, с. 244]. В риторической традиции тропы рассматривались как "украшение" выражаемых в произведении "идей", "орудия души, бесконечно воспламеняемой самыми разнообразными страстями" [Пастернак 2002, с. 46]. Они были обязательны и в поэтической, и в ораторской речи, поскольку благодаря им "идеи представляются много живее и великолепнее, нежели просто" [Чернец 2001, с. 14]. В различных стилях, использовавшихся в соответствующих жанрах, для образования тропов подбирались слова, которые не могли нарушить единства ("чистоты") стиля. Ведь, как учил М.В. Ломоносов, "к вещам высоким и важным непристойно переносить речение от вещей низких и подлых, например, небо плюет непристойно сказать вместо дождь идет" [Ломоносов 1957, с. 340].
По мнению П. Гиро, в основе теории "украшений" находятся фигуры. Автор предлагает различать "простые украшения", основывающиеся на использовании "цветов риторики", то есть фигуры слова и мысли, и "сложные украшения", характеризуемые употреблением тропов [Guiraud 1954, с. 21].
И.С. Рижский же понимает под украшениями выражения, в которых одно речение изображает не только два понятия, но в то же время дает чувствовать читателю и некоторое соотношение между ними. Это может быть "особливый подбор и расположение в речи не только слов, но и целых предложений, которые кроме изображаемых ими вещей, представляют еще нечто нашему вниманию". Первый из подобных родов
украшений риторы называют тропом, а второй фигурой. Ученый различал следующие тропы: метафору, аллегорию, катахрезис (выделено нами -Я.О.), синекдоху, гиперболу, иронию, антифразис и сарказм. По мнению автора, чтобы узнать, к какому роду отнесен троп, необходимо представить себе не только его собственное значение, но и несобственное, а затем установить между ними связь [Цит. по Ахтырская 1999, с. 62].
Подобную систематизацию стилистических приемов предлагает и другой известный русский автор, занимавшийся проблемами риторики, А.С. Никольский. В своем учебнике риторики "Краткая логика и риторика для учащихся в Российских духовных училищах" (1790) он выделяет пять главных тропов, или, как он выражается, "риторических пособий", способствующих большему украшению речи: метафору, синекдоху, метонимию, иронию и гиперболу [Цит. по Ахтырская 1999, с. 62].
Н.Ф. Кошанский, профессор русской и латинской словесности, рассматривал троп как перенесение слова (иногда и мысли) от собственного значения к несобственному по четырем случаям: по подобию (метафора), по качеству (метонимия), по количеству (синекдоха) и по противоположности (ирония). Главных тропов четыре, а прочие, которых еще пять, являются видами, или изменениями первых [Цит. по Ахтырская 1999, с. 63].
Существующие в лингвистике классификации стилистических фигур, тропов и других приемов не ограничиваются вышеперечисленными [см., например, Пугачева 1999, с. 18-23; Тавасиева 2002, с. 15-17; Копнина 2004, с. 21-33].
Анализ указанных нами трудов позволяет выявить тенденцию в современной стилистике безусловно относить к тропам только метафору и метонимию; синекдоху - к разновидностям метонимии, игнорируя остальные стилистические приемы, в том числе катахрезу. Причиной подобного разногласия между исследователями в понимании сути, статуса
того или иного приема является, по нашему мнению, стремление преодолеть индуктивный подход к тропам, ввести частные случаи, разновидности в виды. Именно поэтому антономасия рассматривается как разновидность синекдохи, эвфемизм - перифразы, катахреза - метафоры и т.п.
Это связано также, на наш взгляд, со стремлением исследователей отыскать "исходный" троп или "первотроп" [ЛЭС 2002, с. 543]. Например, по мнению У. Эко, в качестве "исходного" тропа может рассматриваться метонимия. В этом смысле ряд лингвистов делает особый акцент на синекдохе. Так, по Ц. Тодорову, удвоение этого тропа образует метафору. Льежская группа во главе с Ж. Дюбуа выводит из синекдохи и метафору, и метонимию. А. Анри определяет метафору как двойную метонимию [ЛЭС 2002, с. 521]. Не зря первоначально общим обозначением для всех тропов служил термин "метафора". Под ним подразумевалась большая часть тех языковых явлений, которые позднее будут обозначаться термином "троп". Возможно, именно поэтому в некоторых дефинициях катахрезу называют метафорой (разновидностью метафоры) [Ахманова 1969; Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон 1895; Encyclopedia Americana 1961; Grand Larousse 1993].
В риторических же трудах французских лингвистов [Barbed 1821; Dumarsais 1988; Fontanier 1988] термин "катахреза" служил общим обозначением для всех тропов. Интересен тот факт, что понятия катахрезы в ее современном понимании не существовало. Фонтанье, например, относил к катахрезе всякий троп, основанный на расширении смысла, на возникновении промежуточного звена между прямым и переносным смыслом слова. Катахреза, таким образом, предстает перед нами в самых разных формах: то это синекдоха, то метонимия или метафора. Фонтанье называет их "катахреза синекдохи", "катахреза метонимии" и т.п. Например, катахреза метонимии - le Tribunal (для называния судей), 1а
Comedie (для называния места, где играют комедию); катахреза синекдохи - or, argent (для обозначения золотой или серебряной монеты) [Fontanier 1988]. Последний великий французский ритор спорил по поводу катахрезы с Дюмарсе, который в свое время включил в число словесных фигур катахрезу, определяемую им как неправомерное или расширительное словоупотребление (лист бумаги, ножка стола). Дюмарсе рассматривал катахрезу лишь как способ, с помощью которого можно заставить фразу "... отметить другие отношения, которые имеют некоторую аналогию с основным значением предложения и которые достаточно отчетливо отмечены значением слова, связанного с этим предложением" [Dumarsais 1988, р. 90]. У Фонтанье катахреза служит, как он сам говорит, "... основанием для всей (его) системы тропов" [Fontanier 1988, р. 210]. Именно поэтому он резко возражает против этого включения как противоречащего самим основам теории фигур. Катахреза у него - это не что иное, как вынужденное употребление одного из трех основных установленных видов фигур (метафоры, синекдохи, метонимии). (Это) "вынужденный троп, навязанный необходимостью, то есть нехваткой точного слова" [Fontanier 1988]. Мысль о том, что фигуры порождены дефицитом и нуждой, восходит еще к Цицерону и Квинтилиану. Фонтанье продолжает эту мысль, утверждая, что когда мы говорим "лист бумаги" или «ножка стола», мы пользуемся вынужденной метафорой, ибо соответствующее точное слово не существует более или пока еще не существует. А «фигуры», какими бы обиходными они ни были и какими бы знакомыми ни сделала их привычка, могут заслуживать и сохранять свое звание лишь постольку, поскольку они употребляются свободно и не навязаны в какой бы то ни было степени языком [Fontanier 1988]. Бари и Кревье были более критично настроены по отношению к катахрезе, назвав ею неестественную метафору, то есть не вынужденную, а чрезмерную [Женетт 1998, с. 210].
Барбери также относил к катахрезе целую группу фигур, основанных на отношениях сходства, подобия: будь то неправильное употребление слова, либо расширение смысла или имитация. На всем известном примере "etre a cheval sur une chaise, sur un ane, etc." он доказывает, что говорящий имеет возможность, основываясь на отношении сходства между предметами, явлениями, передать содержание мысли словом, которое не имеет к нему прямого отношения. Он избавлен, таким образом, от необходимости изобретать новое слово, которое, возможно, не закрепится в языке. Например, мы используем слово "лист, листок" не только когда идет речь о деревьях, но через сходство, имитацию это слово начинает употребляться при обозначении плоских и тонких предметов, напоминающих по форме листья деревьев и растений. Автор призывает в свидетели детей, для которых нет ничего легче, чем перенос значения с одного слова на другое. Ведь никто не учил их говорить: "Je suis a cheval sur les genoux de papa", и они совершают подобные переносы по сто раз на дню. Причем Барбери идет дальше, относя к катахрезе слова, значение которых давно уже стало узуальным и не воспринимается как отклонение от нормы. Так, глагол aller имеет прямое значение «^перемещаться с одного места на другое>. Но, сравнивая положение дел с движущимися предметами, мы говорим "les affaires vont bien", либо "on va danser", как "on va a la campagne". Глагол avoir <иметь что-либо в наличии> обычно относится к материальным вещам, предметам, которыми можно обладать. Например, "J'ai... ou Je possede de 1'argent". И здесь же, используя этот самый глагол, мы скажем: "J'ai des defauts", "J'ai soif, как если бы речь шла о реальных предметах [Barberi 1821].
Французские исследователи считали троп общим, родовым понятием по отношению к частному, видовому - фигуре.
Противоположную точку зрения мы встречаем в работах других ученых. В их классификации тропы не рассматриваются по отдельности, а
входят в состав стилистических фигур. А.Ф. Мерзляков, употребляя понятие "фигура" в широком смысле слова, подразделяет фигуры на три класса, где ко второму классу фигур, в котором действие распространяется на силу воображения, принадлежат тропы, или "такие фигуры, в которых, вместо понятия, собственно соединяемого с каким-нибудь словом, употребляется другое ближайшее понятие, для того, чтобы доставить предмету более живости и привлекательности" [Цит. по Ахтырская 1999, с. 63]. К самым "употребляемым и прекраснейшим" тропам автор относит метафору. Другие тропы, по его мнению, основываются в большей мере на смежности - это метонимия и синекдоха.
А.П. Сковородников, в противовес изложенным выше точкам зрения, предлагает исследовать выразительные средства языка/речи и их терминологическое обозначение с точки зрения системного подхода. По мнению ученого, понятия стилистической фигуры и тропа целесообразно рассматривать в качестве гипонимов (разновидностей) по отношению к родовому понятию (гиперониму) стилистического приема [Культура русской речи 2003, с. 687].
Итак, принимая во внимание взгляды античных риторов и современных филологов на такое стилистическое явление, как катахреза, мы можем сделать выводы о том, что катахреза - сложный стилистический феномен, о котором известно следующее:
для большинства исследователей катахреза - это троп;
катахреза - это, скорее, сочетание, соединение слов, понятий, нежели нестандартное употребление одного слова или выражения;
катахреза - это сочетание противоречивых, но не контрастных слов, употребляющихся в значениях, им естественно не принадлежащих;
- катахреза - такое сочетание слов, в котором в противоречие вступают прямые смыслы. Результатом такого противоречивого соединения значений является создание образа.
Отправной точкой анализа мы будем считать общепринятое определение катахрезы как тропа, заключающегося в сочетании противоречивых, но не контрастных по природе слов в переносном значении, которые представляют своеобразное смысловое единство и создают образ.
Дальнейшее исследование позволит нам лучше понять изучаемое нами явление и подтвердить, опровергнуть либо дополнить данное первоначально определение.
Актуальность изучаемой нами проблемы определяется недостаточной изученностью катахрезы как стилистического явления.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно представляет собой первое монографическое описание катахрезы, выполненное на основе анализа значительного по объему материала. В работе осуществляется многоаспектный анализ этого сложного стилистического феномена, затрагивающий вопросы его лингвистической природы и стилистических возможностей.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что дается комплексное описание катахрезы с точки зрения ее структуры, морфо-синтаксических, семантических и типологических особенностей, стилистических функций, что должно дополнить и развить теорию тропеического словоупотребления. Полученные в результате исследования данные относительно природы катахрезы могут быть использованы при изучении этого феномена на материале других языков.
Исследование катахрезы открывает новые возможности перед практической стилистикой в общеобразовательном плане (в вузовском
преподавании истории и теории литературы) и лингвостилистическим анализом как поэтических, так и прозаических художественных текстов, их интерпретации. Результаты могут быть использованы в теоретических курсах лингвостилистики и риторики, а также при составлении и совершенствовании лингвистических словарей и справочников. В этом состоит практическое значение работы.
Цель исследования - многоаспектный анализ сущности катахрезы с точки зрения лингвостилистики.
Названная цель определила задачи исследования:
анализ существующих данных о катахрезе и уточнение ее дефиниции;
семантическая, морфологическая, функциональная характеристика катахрезы и выявление ее частотных моделей;
определение места катахрезы в системе бинарных экспрессивных словосочетаний;
выявление стилистических возможностей катахрезы в индивидуальных стилях франкофонных авторов.
Материалом исследования послужили 600 катахрезных сочетаний из французских поэтических текстов XIX-XX и начала XXI веков (более 100 поэтических сборников французских поэтов).
Основным комплексным методом исследования является описательно-аналитический метод, основанный на наблюдении, сопоставлении, обобщении, интерпретации и типологизации языковых и речевых фактов. По мере надобности используется и метод симптоматической статистики.
Катахреза метафорического происхождения
Мы расходимся с мнением Э.М. Береговской по поводу того, что "катахрезное словосочетание носит чаще всего (подчеркнуто нами - О.Я.) метонимический характер" [Береговская 2003, с. 113]. Анализ фактического материала показал, что чаще всего катахреза носит метафорический характер. Случаев употребления катахрез метафорического происхождения более чем в два раза больше случаев употребления катахрез метонимического происхождения (Ср. 44% к 18% соответственно).
Метафора не только стремится подчинить своему влиянию развернутые фрагменты текста, но и накладывается, наслаивается на тропы других типов, осложняя их. При этом метафора может оказаться и тем нижним слоем, на который накладывается другой троп [Метафора в языке и тексте 1988, с. 154].
Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что метафора может накладываться на катахрезу, что зачастую создает трудность в отделении катахрезы метафорического происхождения от чистой метафоры.
Метафора понимается как троп, образующийся в результате употребления слов в переносном значении по принципу сходства денотатов (референтов) и их функций.
Опираясь на классификацию метафор, включающую в себя именную, предикативную, генитивную, глагольную и адъективную метафоры, мы выделяем, соответственно, катахрезы, в основе которых лежат вышеупомянутые виды метафоры.
Наиболее явное значение эквивалентности утверждается предикативной метафорой (5% случаев), где тема и образ соединены при помощи глагола etre, а также именной (2% случаев), где переносный смысл содержат сами существительные. Они представлены в изучаемом нами явлении катахрезы в единичных случаях: "Та chevelure etait un buisson de soleil" (E. Verhaeren).
Генитивная конструкция с предлогом "de" (17% употреблений) оказывается одним из наиболее ярких показателей установления далеких связей между понятиями и создания метафорического контраста. Она синтаксически подвижна и легко вступает в связь с другими метафорическими конструкциями, способствуя созданию развернутого образа.
Генитивная конструкция, опираясь на закономерности расширения предметной области приложения признаковых слов, осуществляется по следующим семантическим переносам: антропоморфизм, т.е. перенос обозначения с человека на неодушевленные субъекты, явления природы. Возникновение при этом оценочных смыслов вполне естественно, так как ценностная картина мира всегда в той или иной форме включает человека: "Saison de blaireau du loir/Et des premiers doigts du froid" (M. Fombeure), "Des mots etaient graves dans le sang de la pierre" (Y. Bonnefoy). Человек постепенно собирает и концентрирует вокруг себя предикаты предметов и животных, но и сам он охотно делится своими предикатами с предметами, животным миром, абстрактными понятиями. [Арутюнова 1999, с. 361]. - перенос от конкретного к абстрактному и наоборот: "Гor de la fatigue" (Dib), "le soleil de fiancailles" (J. Tardieu), "odeur du temps" (S. Gainsbourg), "un manteau de somnolence" (O.-V. de Lubics-Milosz), "un collier de silence" (A. Cesaire), "un ruissellement d etoiles" (J. Segura). - синестезия - такое понимание механизма катахрезы, который предполагает восприятие реалий "разными каналами", т.е разными органами чувств [Сковородников 2005 Б, с. 123]: "Le soir fait un bruit de soie" (D. Boulanger), "Chanson a boire" (P. Scarron), "Tout nu etait le vin", "J entends les pierres qui echangent une musique chaude" (A. Bosquet). (Это стилистическое явление подробно описано в Главе II, 2). - перенос признака с объектов физического мира на другие объе_кты. При этом происходит наложение на образ таких параметров, как количество, пространственное расположение: "la foret de tes cheveux" (R. de Gourmont), "les buissons de Pazur" (J.-J. Rabearivelo), "le feuillage de tes bras" (A. Cesaire). Особо хотим отметить параметр цвета, который привлекает французских поэтов, например: "couleur d adieu" (N. Cendo), "couleur de l avenir" (L. Aragon), "couleur du temps" (G. Apollinaire), "couleur de pluie" (J. Charpentreau), "couleur d enfance" (A. Rochedy).
Благодаря подобному соединению несходных понятий метафорический контекст в основе катахрезы обращает внимание читателей на возможность наличия у субъекта таких свойств, которые ранее не допускались.
Адъективная метафора в основе катахрезного сочетания является одной из наиболее часто встречающихся во французской поэзии 19-21 веков (53% употреблений). Метафоризирующая роль прилагательного в ней состоит в придании абстрактным явлениям, объектам реального мира эмоций, свойств и качеств, присущих человеку. В качестве иллюстрации приведем следующие примеры: "une voix maigre", "aux seins mourants" (R. Desnos), "un vent jaloux" (Henry J.-M. Levet), "...jusqu aux nues couleurs d artifice" (A. Blanc), "Ma transparente et mon ombreuse voix lisse et nue" (C. Roy).
Особенности функционирования катахрезы в поэтическом тексте
Лингвистика XX века, накопив большой опыт исследования языка на уровне его структуры, системы, обратилась к функционально коммуникативному аспекту языка и стиля. Как точно подметил акад. В.В. Виноградов, "связи и отношения языковых элементов однородной стилистической окраски опираются не на структурные качества языка, не на формы и не на лексические и грамматические значения, а на социально-экспрессивные оттенки, на свойства функционального использования языковых средств в многообразии видов общественно-речевой практики" [Виноградов 1955, с. 67-68]. А.П. Сковородников поддерживает и развивает эту мысль, констатируя на основе своих исследований, что "совокупность РП (риторических приемов - О.Я.), при всех различиях их структуры и семантики, объединена выполнением экспрессивной функции с охватом широкого спектра ее разновидностей". И тут же ссылается на слова Б.И. Барткова о том, что система имеет не только структуру, но и функцию [Сковородников 2005 А, с. 172].
Понятия функция, функциональный, функционирование, а отсюда и функциональный подход употребляются в языкознании по меньшей мере в трех значениях: 1) функция языка как организованного целого, выполняющего свое предназначение, то есть социальная функция; 2) роль отдельной языковой единицы в системе языка, так называемая лингвистическая функция [Кожина 1987, с. 35]; 3) стилистическая функция, которую определяют как назначение, роль особым образом организованных средств языка, обладающих стилистическим значением, в реализации конкретного стилистического задания в речи (тексте) [Копнина 2001, с. 158].
Роль катахрезы в художественном тексте обусловлена не только спецификой ее сущностных свойств (смысловой емкостью, стилистической маркированностью, эмоционально-экспрессивной насыщенностью), но и многообразием выполняемых ею функций. При исследовании функциональных характеристик катахрезы на основе французских поэтических текстов XIX-XX и начала XXI веков нас интересует больше и прежде всего ее стилистическая функция, которая неоднозначно понимается разными исследователями.
В самом общем смысле слова стилистическую функцию определяют как роль языковых средств, организованных соответствующим образом в целях достижения различного в каждом конкретном случае эффекта при сохранении общего интеллектуального содержания. В узком смысле под стилистической функцией понимается использование элемента для выражения или различения некоторого значения, каким является дополнительная к предметно-логическому содержанию высказывания стилистическая информация.
Среди стилистических функций катахрезы можно выделить общие и частные стилистические функции. При этом мы учитываем возможность различий в терминологии обозначенных нами функций, так или иначе рассматриваемых различными исследователями при изучении тех или иных стилистических средств.
Общими (основными, постоянными, инвариантными) [Копнина 2001, с. 160] стилистическими функциями традиционно считаются изобразительная и выразительно-характеризующая [Молотаева 1987, с. 58-62]. Изобразительная функция тропов вообще и катахрезы в частности заключается в образном переименовании денотата средствами косвенной номинации, позволяющими более глубоко познать суть предмета изображения и представить его важнейшие черты в наглядно-чувственной форме. Эта функция неотделима от выразительно-характеризующей функции, функции стилистической отмеченности, выделенное, назначение которой - служить средством раскрытия идейно-эстетической концепции автора, средством экспликации содержательно-концептуальной информации произведения. Благодаря этой функции привлекается и удерживается внимание адресата.
Катахреза и синестезия
Стилистический феномен катахрезы близок по своей природе явлению синестезии. Термин "синестезия" как общеупотребительный, но зачастую без точного его определения, уже около ста лет используется в научном аппарате эстетики, прежде всего в работах, посвященных синтезу искусств. В чисто историческом плане проблема синестезии вообще и ее разновидности - "цветного слуха" (т.е. слухозрительных аналогий) была впервые открыто заявлена и привлекла пристальное внимание исследователей лишь в последней четверти 19 века. Идея практического единения чувств (а через это и синтез искусств) обрела реальные контуры в творчестве французских декадентов - Ш. Бодлера, А. Рембо, П. Верлена и др. Все началось со знаменитого сонета французского поэта А. Рембо "Гласные" (1871г.) [Rimbaud 1992, р. 96]: A noir, Е blanc, I rouge, U vert, О bleu: voyelles, Je dirai quelque jour vos naissances latentes: A, noir corset velu des mouches eclatantes Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, A - черный, белый - E, И - красный, У - зеленый, О - синий; тайну их скажу я в свой черед: А - бархатный корсет на теле насекомых, Которые жужжат над смрадом нечистот. (перевод А.А. Кублицкой-Пиоттух) или А - черный, белый - Е, И - красный, У - зеленый, О - синий... Гласные, рождений ваших даты Еще открою я... А - черный и мохнатый Корсет жужжащих мух над грудою зловонной. (перевод Е.Г. Бекетовой) или В "А" черном, белом "Е", "И" алом, "У" зеленом, "О" синем я открыл все тайны звуков гласных. "А" - черный бархат мух, докучных, сладострастных, Жужжащих в летний зной над гнойником зловонным. (перевод Д. Дмитриева) [Рембо 1982, с. 82, 395-396]. Наверное, это единственное в истории стихотворение, комментарии к которому превышают объем его самого во многие сотни раз. Но именно популярность "цветного" сонета напомнила о том, что и многие другие поэты еще до Рембо декларировали "слияние чувств" в привычной для читателя форме, например, сонет Ш. Бодлера "Соответствия" 1857г.:
Les parfums, les couleurs et les sons se repondent. II est des parfums frais comme des chairs d enfants, Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, - Et d autres, corrompus, riches et triomphants... [Baudelaire 1980, p. 8-9].
Именно французские поэты "заразили" своих русских коллег синестезией. К. Бальмонт, А. Белый, Ю. Балтрушайтис, а вслед за ним - В. Брюсов, А. Блок возвели синестезию в статус концептуального поэтического приема. Подобным способом символисты стремились не только обновить свой творческий инструментарий, но и раскрыть ранее неведомые возможности словесности [Абдуллин 1996, с. 121]. Ассоциации звуковых, зрительных, равно как и вкусовых, обонятельных и осязательных ощущений были смелым экспериментом, существенно раздвинувшим горизонты русской поэтики. Художники слова стали заимствовать средства творческой выразительности у живописцев, скульпторов, музыкантов, обогащая свой язык сложными и необычными образами.
В конечном счете, в эстетике на рубеже XIX-XX вв. сложилась такая ситуация, что символистская "алхимия слова" [Галеев 1987, с. 27], привлекшая внимание своей необычностью и неестественностью, послужила своего рода спусковым механизмом интереса к исследуемому явлению и заставила теорию искусства впервые заметить синестезию как свой предмет.
Синестезия - термин, пришедший из психологии, дословно означает "соощущение" (от греч. - syn-вместе + aesthesis-ощущение). Однако этимологическая расшифровка термина отнюдь не исчерпывает его содержания. До сих пор нет единообразия в определении понятия синестезии. Поначалу пытались объяснить синестезию именно как реальное "соощущение", привлекая физические аналогии звука и света (мол, "и то и другое - волновые явления"). Затем привлекли анатомию, медицину ("возможно, перепутались нервные волокна от глаз и уха"). По другой версии, это есть патологическое проявление атавизма ("рецидив первобытного сенсорного синкретизма") или, возможно, пусть и полезная, но психическая болезнь ("на самом деле, разве это нормально - разве можно звуком резать, разве может звук быть тонким и светиться?"). Отсюда такие предрассудки на уровне энциклопедических и даже академических изданий: "Синестезия - отклонение в сенсорной системе; синестезией страдали Гофман, Бодлер, Бальмонт, Блок, Скрябин, Римский-Корсаков и т.д.". Существовало объяснение синестезии как некоего изотерического свойства психики (мол, "это доступно только избранным, кто приобщен к "тайному знанию"). Как бы то ни было, синестезия и ее частное проявление "цветной слух" признавались аномалией - будь то с положительным или отрицательным знаком [Галеев 1982, с. 14-20; Галеев 1985, с. 12-18; Галеев 1987, с. 28-54; Галеев 1999, с. 19-21].
Место катахрезы в системе стилистических средств Алена Боске
В поэзии Алена Боске нашли применение многие приемы, характерные для поэзии XX века вообще, и для поэзии течений авангарда в частности. Они прежде всего представляют собой формы выражения принципа неполной определенности, являющегося одной из существенных особенностей поэтического языка вообще и языка поэзии XX века в особенности. "Поэтическая речь и есть речь в собственном смысле слова; великое значение ее в том, что она ничего не доказывает словами; слова группируются здесь так, что совокупность их дает образ; логическое значение этого образа неопределенно; зрительная наглядность неопределенна также. Мы должны сами наполнить живую речь познанием и творчеством" [Кожевникова 1995, с. 88].
Этот принцип характерен и для языка поэзии Алена Боске. Однако поэт пошел дальше других авангардных школ в сопоставлении несопоставимого, соединении разнородных качеств, сближении, казалось бы, принципиально чуждого, что выразилось в первую очередь в частом использовании им катахрез. Наибольшее количество катахрезных сочетаний обнаружено в сборнике "Je ne suis pas un poete d eau douce" (тексты с катахрезой составляют 10% от общего количества стихотворений).
Изучив семантические особенности катахрезных сочетаний поэтики Боске, мы пришли к выводу, что выявленная нами ранее общая для французской поэзии тенденция подразделения катахрез на три группы -катахрезы метафорического происхождения, катахрезы метонимического происхождения и катахрезы-парадоксы (см. Глава I, 1) - сохраняется и в индивидуальном стиле поэта. Причем у него преобладают катахрезы-парадоксы (54% от общего числа катахрезных сочетаний). Мир поэзии Алена Боске весь состоит из реалий окружающего нас мира, только эти реалии даны в неожиданных, на первый взгляд как бы случайных и произвольных сочетаниях, носящих порой фантастический характер: "La rosee се matin est terroriste", "Les cadavres sont doux comme des primeveres", "Le deuil te va comme un cheval tres gris", "Mon ame sent l insecte", "la lune est democrate" и т.п.
Присутствие катахрез в его стихах нельзя назвать случайным. Они гармонично вписываются в эстетическую систему мастера, где неожиданность и парадоксальность сближений являются средством передачи портретных черт современного мира, которые можно донести до читателя только в максимально сгущенном, сверхконцентрированном виде. "Чтобы целиком уместить в небольшом лирическом стихотворении весь наш мир, тысячекилометровый в пространстве и тысячелетний во времени, надо сдвинуть все планы, сместить все пропорции, сопрячь несопрягаемое, и тогда в столкновении контрастов вспыхнет та искра, которая яркой вспышкой озарит бездну под названием "жизнь" [Винокуров 1984, с. 5].
Анализ функционирования катахрезы в стихотворениях Алена Боске показал, что катахрезные сочетания выполняют почти все функции, которые мы выделяли для катахрезы в художественном тексте.
Большое разнообразие частных стилистических функций, реализующих общие стилистические функции, представляет, на наш взгляд, наибольший интерес.
Появляясь в заголовке, например, в стихотворении "Le роете comestible", катахреза составляет зачин, задает общую идею всего поэтического текста, выполняя при этом интригующую функцию. Интрига поддерживается на протяжении всего стихотворения, подхваченная цепным повтором, синтаксическим параллелизмом, эпифорой и полиптотом: L enfant attrape un papillon: cela se mange. Et le requin, l enfant: cela se mange aussi. Et Dieu attrape le requin, pour le manger,
A moins que ce ne soit - qui sait? - pour le principe. На сцену опять выходят основные действующие лица театра Боске - Бог и Поэт, противоборство-единство которых поэт не устает воспевать. Автор вовлекает читателя в круговерть своих размышлений: "Mais Dieu, repondrez-vous, qui done le mangera,/pour que la chaine continue, et le poete/n arrete pas son beau poeme en plein milieu?", иитпмизируя тем самым поэтический текст. Боске понимает, что на эти вопросы нет ответов. Завершающая стихотворение катахреза "les poemes sont mangeables" образует кольцо, своеобразный Мебиус, где каждое последующее поколение будет безрезультатно пытаться найти ответ на эти вечные вопросы, каждый раз возвращаясь к отправной точке.
Катахреза зачастую выполняет оценочно-характеристическую функцию в поэтике Боске. Причем мы обнаружили одну закономерность: негативно-оценочная функция катахрезных сочетаний, подчеркивающих отрицательное отношение автора к описываемому, заметно превалирует над позитивно-оценочной. У Боске все мрачно: "l azur degenere", "nos pensees toxiques", "la neige hypocrite", "l altitude vomit", "le ble croasse", "lie suicidee", "la musique blessee". Эта "экзотика слова" [Дикова 1996, с. 62] чрезвычайно существенна. Она направлена на создание ощущения безысходности, тоски по светлому и чистому, чувства отчаяния, удушья в этом мире, где даже "les gratte-ciel sentent l alcool, trois fois vomi". Патетика усиливается катахрезами, дающими краткую, точную характеристику нашего существования: "L existence est salive", "l existence est un long excrement", "Cet univers est ton boudoir".