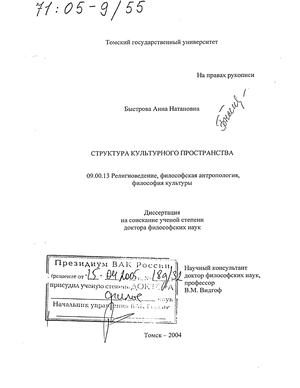Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Дефиниции культуры в системе культурологического знания (философско-категориальный анализ) 18
1.1. Основные школы в культурологии 18
1.2. Культура как совокупность артефактов 26
1.3. Культура как деятельность 46
1.4. Культура как система коммуникаций 56
1.5. Системные определения культуры 62
1.6. Поиск релевантного метода исследования Культуры 65
Глава П. Пространственно-временные критерии осмысления мира 91
2.1. Культура как философская проблема 91
2.2. Бытие культуры и истории 99
2.3. Историко-ретроспективный взгляд на пространственно-временные критерии осмысления бытия 114
2.3.1. Пространство и время в предфилософском мышлении 114
2.3.2. Пространство и время в античной философии 117
2.3.3. Категории пространства и времени в философской парадигме И. Канта 121
2.3.4. Пространство и время в философии XIX-XX веков 129
Глава III. Типология пространства 143
3.1. Античный космос в культурно-философской картине мира 143
3.2. Парадигма природы в культурно-философском пространстве мира 152
3.3. Специфика социального пространства 165
3.4. Феномен виртуального пространства 174
3.5. Культурное пространство: общефилософская характеристика 187
Глава IV. Философско-категориальный статус понятия культурного пространства 206
4.1. Культурное пространство природы 206
4.2. Культурное пространство социума 226
4.3. Культурное пространство коммуникации 252
4.4. Культурное пространство интеллекта 270
4.5. Культура как системная целостность 285
Глава V. Человек в культурном пространстве мира 296
5.1. Проблема человека в философско-культурологической мысли 296
5.2. Универсум культуры и универсальность человека 319
5.3. Личность в контексте культуры 330
Глава VI. Образование в системе Культурного пространства 345
6.1. Противоречия и возможности системы образования в современной культуре 345
6.2. Образовательные парадигмы в культуре мира 354
6.3. Гуманистическая педагогика в культурном пространстве СОВРЕМЕННОСТИ 373
Заключение 386
Библиография 390
- Основные школы в культурологии
- Культура как деятельность
- Поиск релевантного метода исследования Культуры
- Пространство и время в античной философии
Введение к работе
Внимание к проблемам культуры стало знаковым явлением для гуманитарного знания конца XX - начала XXI века. Экономическая, социальная, политическая, а позже техническая, технологическая и научная сферы, в разное время претендовавшие на роль интегративного начала в социуме, породив множество противоречий и конфликтов, обнаружили свое несоответствие этому предназначению. Изменяющийся облик общества выявил приоритет культуры во всех сферах и проявлениях человеческой жизни. Соответственно, возрастает и интерес к культуре как системообразующему элементу, придающему целостность всей общественной жизни. На культуру возлагаются надежды, связанные с поиском стратегий деятельности человечества для преодоления обостряющихся противоречий, являющихся результатами самой этой деятельности.
Еще одно основание для возрастания интереса к культурной проблематике в обществе - информационный «взрыв», вызвавший пристальное внимание к формам, способам и процессам функционирования информации в обществе, а, следовательно, - к языку, литературе и искусству как специфическому культурному дискурсу. В этой сфере также были вскрыты и осмыслены кризисные процессы, которые требовали своего решения, возможного на базе синтеза естественных и гуманитарных наук, постулированного еще В. И. Вернадским. Такого рода синтез осуществим исключительно в системе культуры, предполагающей целостность восприятия мира.
Количество дефиниций культуры и богатство ее теоретических интерпретаций, существующих в настоящее время, демонстрируют актуальность нашего исследования. Однако это же обстоятельство обнаруживает и такие аспекты бытия культуры, которые либо оказались за пределами научных интересов исследователей, либо не привлекли к себе достаточного внимания. Такого рода проблемой оказалась проблема культурного пространства.
Чаще всего теоретики культуры уделяли внимание временному исследованию культуры, подчеркивая тем самым ее изменчивость, подвижность. Однако многомерность культуры не может быть определена исключительно в темпоральных характеристиках. Их актуализация растворяет культуру в событийном, процессуальном потоке артефактов разной степени значимости, представляя ее как явление только становящееся, но не «ставшее». Феномен культуры, обретшей качественную определенность, невозможно постигнуть, не принимая во внимание его пространственных параметров; именно пространственная парадигма позволяет увидеть культуру как системную целостность, обладающую особой структурой, определенными видами однородности и, одновременно, - многомерности.
Пространственные характеристики культуры позволяют выявить и обосновать целостность культуры как ставшего, обладающего полнотой, развертывающего многообразие составляющих её элементов, связи и отношения между ними. Категория культурного пространства может стать структурообразующим принципом исследования упорядочивающей, гармонизирующей всю систему человеческого мира сущности культуры. В этой связи исследование культурного пространства как одной из основных форм бытия способно восполнить существующие пробелы в теоретическом осмыслении культуры как целостности.
Проблема структуры культурного пространства требует пристального внимания, поскольку в системе все возрастающей значимости культуры как целого она осуществляет базовую функцию в построении этой целостности.
Обращение к пространственной парадигме культуры и её структуре перекликается с новыми интенциями в понимании онтологии целостного восприятия мира.
Долгое время в научной картине мира пространственные его критерии были связаны с естественнонаучным знанием, с парадигмой геометрического евклидова пространства, а затем пространства Римана и Лобачевского. Для
исследования социальных процессов более сущностными представлялись временные характеристики. Начиная со второй половины XX века, стало яс-но, что временные и пространственные закономерности в равной степени составляют сущность как природных (физических, химических, биологических), так и психических, и социальных процессов. Обнаружилась неразра-ботанность, с одной стороны, проблемы временных закономерностей для природных неравновесных систем, а с другой - пространственной специфики социума, человека и культуры. Несоответствие такого рода вскрыла синерге-тика, предложившая свои методы исследования сверхсложных систем. На фоне этих изысканий возникли новые контуры философии культуры, обнажившие актуальность исследования ее онтологических сторон.
Выявление и обоснование статуса культуры как системообразующего интегрального начала сферы человеческого бытия позволяет и в практической деятельности людей выделить и актуализировать тенденции конструктивного порядка, составляющие сущностную модальность бытия культуры. Поэтому проблема структуры культурного пространства относится к числу важных философских проблем, возникающих при изучении современной культуры.
Степень научной разработанности проблемы
Объектом философского исследования культура становится в XIX — начале XX века. В более раннем периоде она осмыслялась как часть других теоретических построений. Как социальное явление, требующее отдельного внимания, культура предстала в трудах мыслителей XVII-XVIII веков (И. Г. Гердер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, И. В. Гете, П. Гольбах, И. Кант, В. Гумбольдт и др.).
Теория Ч. Дарвина, выдвинув идею эволюции в живых системах, про-
'# извела значительное воздействие и на взгляды тех, кто исследовал экономи-
ческие или социальные процессы, а успехи археологии и этнографии привели
научную мысль к пониманию эволюции культуры, её прогресса. Рассуждения, базирующиеся на сравнении древних культур и современности, образа жизни так называемых примитивных племен и европейцев, народов Востока и Запада, ставят вопрос о поиске общих системных оснований культуры. Наибольшим достижением в этом направлении стала экономическая теория К. Маркса. Однако в ней культура осмыслялась как результат экономического процесса, явление, обладающее вторичностью по отношению к производству и труду. Параллельно с этим развивалась романтическая и неоромантическая трактовка культуры, идущая от Ф. Шиллера и течения Sturm und Drang к Ф. Шлегелю, Ф. В. Шеллингу, А. Шопенгауэру и Ф. Ницше, разделившему культуру на дионисийскую и аполлоническую. В этих и других теориях все более противопоставлялась культура и натура, постепенно выявлялась роль языка (В. Гумбольдт, В. Дильтей), место и роль ценностей в культуре (Г. Риккерт). В теоретических построениях Г. Когена уже не философия культуры становится объектом исследования, а культура выступает как философия, как сознание, «направляемое математикой», совершающее шаг от явления, существующего в реальном мире, к системам «чистого разума». Однако ни баденская концепция структурности философии и культуры, ни мар-бургская школа, трактовавшая культуру как систему, так и не пришли к выявлению пространственных характеристик культуры.
Одной из наиболее продуктивных теорий в XIX веке может считаться теория Н. Я. Данилевского, впервые предложившего классификацию локально-исторических типов культур, но и в этой теории вопрос о культурном пространстве не был поставлен со всей определенностью.
Первые попытки дать понятие культурного пространства можно встретить в структурной антропологии (К. Леви-Строс) и у этнографов, но в этой научной сфере не предлагается рассмотрение культурного пространства как специфической категории или как формы бытия культуры. Труды антропологов начала XX века (П. Тейяр де Шарден, Э. Б. Тайлор и др.) рассматривали
культурное пространство, по выражению Ж. Делёза, как «географическую экзотику». В трудах А. Дж. Тойнби существует понятие «культурного поля», но оно также не предполагает рассмотрения качественной определенности пространства культуры.
Значительное место в отечественной литературе, посвященной философии культуры, занимает разработка общих вопросов, поиск единого основания, содержательный анализ концепций культуры, в том числе и современных. Среди авторов этих исследований можно назвать таких как А. И. Арнольдов, Л. М. Баткин, В. В. Бычков, Б. Л. Губман, А. Я. Гуревич, П. С. Гуревич, М. С. Каган, А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили, Э. С. Марка-рян и др.
Во многих современных статьях и монографиях по проблемам культуры словосочетания «культурное пространство», «культурный круг», «культурное поле» становятся не просто приемлемыми, но и привычными, однако явление, обозначенное соединением этих понятий, до сих пор не принадлежит к числу исследованных. Часть монографий, в которых упоминается культурное пространство, посвящена исследованию общих проблем культуры, пространство употребляется в них либо как фигура речи, либо как метафора. Другие исследователи обращают внимание на локальные характеристики культурного пространства: геокультуру (В. Н. Кузнецов, X. Дж. Ма-киндер, Ф. Ратцель, Н. С. Трубецкой, Н. В. Устрялов, С. Хантингтон, К. Ха-усхофер и др.); распространение и функционирование культурной информации (А. Моль); организацию культурного ландшафта (Д. С. Лихачев, И. И. Свирида и др.). Следует назвать также философские труды, в которых ставится задача анализа социального пространства (Г. Е. Зборовский, А. Н. Лой, В. К. Потемкин и А. Л. Симанов и др.). Однако везде культурные процессы рассматриваются «во вторую очередь», а исследовательский интерес сосредоточен на описании преимущественно экономических или социальных сторон общества, взятых под определенным углом зрения.
Между тем в классических работах М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева, Л. Н. Гумилева, у полевых этнографов (П. Тейяр де Шарден, Э. Б. Тайлор, К. Леви-Строс и др.), социологов (Э. Дюркгейм, П. Сорокин и др.) уже были заданы определенные предпосылки для рассмотрения культурного пространства. Столь же интересную рефлексию по различным проблемам пространст-венности представляют труды постмодернистов (Ж. Делёз, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ж. Деррида, В. А. Подорога). Кроме того, современные исследования сверхсложных открытых неравновесных систем (каковыми являются общество и культура) позволили увидеть основные параметры проблемы, а также её продуктивность для осмысления важнейших сторон человеческого бытия.
Анализ источников, близких к нашим задачам показывает, что вопросами культурного пространства занимались, помимо этнографов и антропологов, историки, искусствоведы, философы, изучающие эстетику, религию, духовную сферу общества, герменевтику. Но даже в исследованиях, специально посвященных проблемам культуры, эта тема пока еще не заняла подобающего ей места. Трудность анализа проблем, связанных с культурой, заключается в том, что до сих пор не выработана её дефиниция, обладающая необходимой полнотой. По сути дела каждый автор, обращаясь к проблемам культуры ведет речь о каких-то конкретных её проявлениях или о таких сторонах, которые интересуют его как исследователя. Теории, вырабатывающие системные определения культуры, имеют незначительный удельный вес в философии культуры. Кроме того, в них практически отсутствует всесторонняя проработка онтологических сторон культуры.
Среди множества различного рода теорий культуры наиболее разработанными являются аксиологические, деятельностные, семиотические, информационные теории. Несомненной заслугой большинства теоретических изысканий является фундаментальный вывод о том, что культура обладает системными свойствами. В научной литературе представлен значительный
набор моделей культуры: эволюционистских (Э. Б. Тайлор, Дж. Фрэзер, Г. Спенсер и др.), функционалистских (Б. Малиновский, Т. Парсонс), социологических (О. Конт, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, М. Вебер), цивилизационных (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). К этому следует прибавить попытки построения синергетических моделей, оформившихся в последнее время (И. Пригожий, И. Стенгерс, С. П. Курдюмов, В. С. Степин, Е. Н. Князева, И. В. Мелик-Гайказян и др.). Каждая из этих моделей содержит позитивные положения и взгляды, необходимые для понимания системных свойств культуры.
Объектом исследования является бытие культуры — специфической разновидности бытия человека и общества.
Предмет исследования - структура культурного пространства как формы существования универсума культуры.
Среди тех, кто впервые употребил понятие культурного пространства, был Ф. Бродель, в своем труде, посвященном цивилизации, отметивший, что цивилизация - это «район, культурное пространство, собрание культурных характеристик и феноменов». Однако заметно, что для Броделя культурное пространство связано исключительно с локализацией определенных феноменов, с территорией их распространения.
Культурное пространство до сих пор практически не стало темой и проблемой философского исследования. Культура как социальный феномен зачастую осмыслялась в её оппозиции природе, независимо от того, какой аспект этого противостояния становился предметом анализа: сохраненные историей и современностью артефакты, процесс деятельности, система коммуникаций или отдельные конкретные разновидности и элементы (искусство, наука, мораль и пр.). Основной характеристикой культуры выступала категория времени, осмыслявшая процесс ее существования. В этом ключе центральными становятся вопросы возникновения, становления, развития, расцвета, завершения, гибели культуры или её отдельных элементов. По извест-
ному выражению Н. Бердяева, настоящее как бесконечно мало продолжающееся мгновение не может обладать реальностью, поскольку существует лишь в «зазоре» между прошлым и будущим.
Наше исследование посвящено категории культурного пространства, составляющей определенность и целостность культуры. В данной работе с позиций философии культуры обосновывается специфика только еще становящейся пространственной характеристики культуры. Вместе с тем исследование такого рода категории предполагает и выявление её структурных элементов, сущности и феноменологии каждого из этих элементов.
Автор исходит из того, что исследование категории культурного пространства имеет и теоретическое, и практическое значение. В диссертационной работе представлены как традиционные, проверенные многими поколениями ученых взгляды на культуру, её основные характеристики и дефиниции, так и новые теоретические положения, позволяющие выявить и обосновать целостность и определенность культуры во всех формах её проявления.
Цели и задачи исследования
Цель работы состоит в выявлении основных структурных особенностей культурного пространства как целостности.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
осуществить классификацию основных дефиниций культуры, на основании чего выдвинуть дефиницию, представляющую культуру как целостность, выработать способ релевантного её исследования;
выявить модальность и основные онтологические характеристики культуры;
обосновать философско-категориальный статус культурного пространства;
представить структуру культурного пространства; выяснить особенности каждого элемента структуры;
установить специфику взаимодействия сверхсложных открытых систем (природа - человек - общество - культура), а также характер связей между ними;
определить место человека в системе культурного пространства мира;
раскрыть возможности системы образования как механизма взаимодействия структурных элементов культурного пространства.
Методологическая основа исследования
В качестве основного методологического принципа автор использовал диалектический системно-структурный подход к анализу культуры, бытий-ствующей как в динамике, так и в статике. Диалектический метод позволяет выявить взаимодействия необходимого и случайного, возможного и действительного, темпорального и пространственного, становящегося и ставшего.
Автор опирался с одной стороны, на диалектику Лейбница и Канта, с другой стороны, в качестве фактора, «снимающего» ограниченность лейбни-цеанской диалектики, были использованы отдельные положения синергети-ческого подхода.
Культура в нашем исследовании выступает как сложная саморазвивающаяся система, в которой любой её элемент является культурной монадой. Лейбницианское понятие монады представляется наиболее адекватным для изучения явлений культуры, поскольку в каждом культурном явлении присутствует принятая Лейбницем для монады одухотворенность; - в нашем исследовании она актуализируется как человеческая компонента, имманентно присущая любым артефактам. «Мировая линия» Лейбница, на которой каждая точка обладает неповторимостью и повторяемостью, отлична от других и тождественна им, замкнута по отношению к внешним влияниям и одновременно обусловлена всеми предыдущими и последующими единицами.
Принцип предустановленной гармонии, принятый в философии Лейбница позволяет выявить модальность культуры как упорядочивающего начала.
Для сегодняшнего уровня развития наук установление одного лишь фактора линейности развития может воспрепятствовать полноценному теоретическому анализу. Разработанные методы синергетических исследований дают возможность интерпретировать постулированные Лейбницем отступления от линейности общего развития как бифуркационный процесс, с одной стороны, усложняющий процесс бытия культуры, с другой — выявляющий её полноту в системе бытия культуры. Развитие культуры в рамках такого подхода понимается как нелинейный процесс, характерный для любой сверхсложной неравновесной самоорганизующейся открытой системы.
Для анализа культурного пространства использовались в качестве основания общефилософские теории пространства-времени, выработанные мировой философией и развивавшиеся от геометрических постулатов к представлениям о физическом, химическом, биологическом и социальном пространстве-времени. При исследовании своего предмета автор опирался на труды геополитиков, социологов, семиологов, психологов и культурологов, а также на теоретические положения таких ученых, как Ж. Адамар, Н. С. Булгаков, В. М. Видгоф, Г. Гадамер, Г. В. Гегель, Т. Гоббс, В. Гумбольдт, А. Я. Гуревич, М. С. Каган, И. Кант, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Г. В. Лейбниц, А. Н Лой., А. Ф Лосев., Ю. М. Лотман, М. К. Мамардашвили, А. Моль, X. Ортега-и-Гассет, И. Пригожий, П. Сорокин, А. Дж. Тойнби, Э. Фромм, О. Шпенглер, К. Ясперс и др.
Научная новизна исследования
1. Предложена авторская классификация основных школ и направлений в культурологии, имеющая методологическое значение. Обоснованы особенности каждой из школ и направлений, выявлены их достоинства и границы интерпретации. На базе этой классификации представлен специфический метод исследования культуры.
Выработан концептуальный подход к осмыслению культуры как состояния человеческого бытия, что углубляет существующую теорию культуры и позволяет построить целостную модель культуры в её пространственно-временных характеристиках.
Предложена типология пространства в философии и культурологии, имеющая теоретико-методологическое значение для философии и культурологии.
Культурное пространство представлено как системная целостность четырех уровней: культурное пространство окружающей среды, культурное пространство социума, культурное пространство коммуникации и культурное пространство интеллекта. В контексте настоящего исследования важнейшим принципом является взаимодействие всех составляющих и, одновременно, их качественное своеобразие.
Исследование культурного пространства в процессе его теоретического изучения вычленение в нем специфических уровней продемонстрировало, что данная структура может быть осмыслена как системообразующее начало культуры, позволяющее концептуализировать её целостность. В результате этого исследования появляется возможность, выделив основные виды бытия: бытие природы, бытие социума, бытие человека и бытие культуры, более полно рассмотреть способ и формы бытия культуры.
Основные теоретические положения работы позволяют предложить практические пути и средства введения субъекта в систему культурного пространства, что продемонстрировано автором в учебном пособии «Мир культуры: Основы культурологии».
Теоретическая и практическая значимость исследования
Материалы и выводы диссертации позволяют выявить один из основных видов бытия культуры во взаимодействии её с бытием природы, человека, общества. Предметная область культурного пространства не принадлежит
к числу разработанных. Данное диссертационное исследование вносит определенные изменения в традиции рассмотрения культуры и её основных феноменов. В контексте теории значимыми являются следующие положения: -теоретическая разработка понятия «культурное пространство»;
исследование специфики этого явления в соотнесении с геометрическим, географическим, социальным пространством;
рассмотрение структуры культурного пространства;
выявление особенностей всех уровней и форм культурного пространства и осуществления анализа как объективного, так и субъективного аспектов этого явления;
- в работе собран материал, касающийся эволюции теоретических
представлений о пространственно-временных формах различных видов бы
тия;
в исследовании применен диалектический метод Лейбница в его более современной интерпретации, «снимающей» сугубо идеалистическую трактовку культурной единицы (монады);
предложена дефиниция культуры, уточняющая и углубляющая уже имеющиеся в репрезентативной литературе, которая предполагает выработку необходимых и достаточных оснований для изучении культуры;
культура представлена как сверхсложная открытая саморазвивающаяся система.
Теоретические выводы автора могут быть учтены и использованы в специализированных исследованиях культурных процессов, в дальнейшей разработке и изучении философско-культурологических проблем культуры.
Практическую значимость представляет собой учебное пособие «Мир культуры: Основы культурологии», рекомендованное Министерством образования Российской Федерации для студентов высших учебных заведений. Пособие написано в соответствии с основными теоретическими положениями диссертационной работы.
Положения, выносимые на защиту
Культура представляет собой состояние человеческого бытия, обла-дая как и любая форма бытия не только временными, но и специфическими пространственными характеристиками.
Типология пространства основывается как на сложившихся в естественных науках представлениях о геометрических и географических его характеристиках, о социальном пространстве, обладающем специфической модальностью, так и на вычленении виртуального и культурного пространства. Все типы пространственности как и все типы бытия взаимодействуют, взаимопроникают, но не перекрывают друг друга, обладая единством в неповторимости.
Культурное пространство обладает особой структурой, включая в себя культурное пространство природы, культурное пространство социума, культурное пространство коммуникации и культурное пространство интеллекта. Каждая разновидность культурного пространства имеет свою специфику и внутреннюю организацию.
Культура выступает как специфическая целостность природного, социального и человеческого начал, сохраняющих качественное своеобразие. Она актуализируется как феномен, объединяющий эти начала, обладая системным свойством, являясь гармонией «мер природного и социального» (Гераклит).
В системе культурного пространства человек является системообразующим началом, агентом, конструктом и субъектом культуры. Место человека в культурном пространстве определяет центр и периферию культуры.
Система образования, реализуя механизм преемственности в социальной жизни, должна обладать возможностями введения человека в систему культурного пространства и, таким образом, осуществлять целостность культуры.
Структура диссертации
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и библио-
графии, составляющей 273 наименования. Объем диссертации составил 407 страниц стандартного компьютерного набора.
Основные школы в культурологии
Сложность и многообразие исследуемого явления породили множество самых различных попыток выяснить его границы и качественную определен ность. Однако в настоящее время вряд ли можно говорить о вполне сложив шихся культурологических школах. Многочисленность различных парадигм еще не демонстрирует искомой полноты и достаточности в изучении культу ры. Даже среди тех теорий, которые содержат близкие или похожие взгляды, заметны разночтения в осмыслении феномена культуры. Сам термин «культурология», обозначающий специфический круг изучаемых проблем, возник только в начале XX века в трудах Лесли Уайта. До него проблемы культуры рассматривались в системе антропологии, этнографии, истории, философии, социологии, а также герменевтики и лингвистики. До настоящего времени направления философско-культурологических исследований, которые объединяются каким-либо одним признаком, пока не вполне устойчивы, чем объясняются различия в принципах классификации этих направлений.
Так, Н. Г. Багдасарьян выделяет следующие школы культурологии: культурно-историческую (В. Дильтей, Ф. Гребнер, представители французской «школы Анналов»); социологическую (П. Сорокин, Т. Парсонс, М. Вебер); а также структурально-символический подход к рассмотрению культуры (Ф. де Соссюр, Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж. Лакан, Ю. М. Лотман), который «имеет большой спектр ветвлений и множество последователей в разных аспектах его разработки»1.
В труде Л. Л. Штудена в качестве основных научных школ названы: «органическая» или эволюционистская (Э. Тайлор, Дж. Фрэзер, Г. Спенсер и др.), функционалистская (Б. Малиновский, Т. Парсонс) социологическая (О. Конт, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, М. Вебер), цивилизационная (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби), психоаналитические (3. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) В этой классификации автор учитывал принципы построения моделей культуры2.
Следовательно, во взглядах на классификацию школ и направлений в культурологии также нет определенности, поскольку первый из них фиксирует исторический аспект развития взглядов на культуру, а второй - принцип подхода к культуре. Однако они не всегда осмысляют её как специфический феномен, тогда как именно осмысление культуры в качестве особой формы бытия, предпринятое в современной науке, может продемонстрировать специфику культуры.
Такого рода интенция позволяет выделить наличие надприродной школы (Э. Б. Тайлор, М. Хераскович, В. Оствальд и др.), аксиологической, (В. Томас, А. Швейцер, М. Хайдеггер, С. Франк, П. А. Флоренский и др.) нормативной (К. Юнг, Г. Рохэйм, К. Вислер, Р. Бенедикт и др.), деятельностной (М. С. Каган, Э. Маркарян, В. М. Видгоф, В. Межуев), а также эвристической, семиотической, информационной. Присовокупив к этому взгляды на культуру как на феномен, процесс, образ жизни, текст и т.д., мы приходим к выводу, что в системе культурологии пока отсутствуют сложившиеся «ансамбли», а существуют различные «сольные» выступления. Однако и эта точка зрения будет не вполне соответствовать реальности, поскольку практически все многоразличные авторы стремятся «схватить», описать и охарактеризовать одно из самых сложных явлений мира, систему, которая осмысляется как сверхсложная неравновесная открытая система. Такая система обладает не только бесконечным количеством разного рода, степени значимости, содержательности, смысловой определенности формами, отношениями и элементами, но и испытывает на себе воздействие столь же сложных систем, какими являются мир природы, социум и человек. Разница подходов и взглядов вполне обусловлена, поскольку каждый из авторов выделяет в этом многообразии ту основу, которая принята им как системообразующая, интегративная, организующая всю систему в целом. Процесс, происходящий в настоящее время в изучении культуры, аналогичен процессу становления фундаментальных и частных наук о мире, начавшемуся еще в античности и не оконченному до сих пор.
Можно считать, что начало научного взгляда на культуру было положено С. Пуффендорфом, отделившим понятие cultura от всякого рода дополнений и представившим культуру как явление, которое отлично от природных и зависит от развития наук и ремесел. Однако теории он не создал, не имея для этого никаких оснований. Мыслителям XVII и XVIII веков из всех вопросов подобного рода более актуальным представлялось осмысление путей и методов познания мира, и только затем — роли и места человека в мире и обществе и атрибутивной стороны взаимодействий между ними. В этом контексте не могли быть обойденными и проблемы культуры, представлявшейся одним из атрибутов человека. Накапливались сведения о различиях в обычаях, религиозных взглядах, художественных традициях племен и народов, направлениях их развития и форм существования (В. Гримм, Я. Гримм, И. Гердер). Такие изыскания, фактический материал для которых представляла археология, этнография, сведения, добытые путешественниками, принесли соображения о существовании так называемых «примитивных» народов, «примитивных» культур, а также высоко оцененной древней культуры античности и эллинизма. Исследования, посвященные культурным феноменам, касаются по преимуществу искусства (работа И. Винкельмана «История искусств древности» 1763 года) или зависимости нравов какого-либо народа от условий внешнего характера (труды Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж.Руссо, К. Л. Гельвеция). Однако на фоне общего оптимизма во взглядах на развитие человечества, основанного на прогрессе наук и воспитующем воздействии среды, диссонансом звучит точка зрения Руссо, считавшего культуру репрессивным началом, подавляющим естественные природные качества человека.
Единственным, кто увидел культуру как результат всеобщего развития и проследил её путь от природных феноменов к истории и культуре человека, был И. Гердер. Идея эволюции и прогресса человека и культуры после него надолго утвердится в теории. Как точно замечает М. Ткачева, «в представлении Гердера учение о человеке и есть учение о культуре, антропология совпадает с культурологией»1. Можно с полным основанием считать, что именно Гердер оказался основателем практически всех направлений культурологических изысканий будущего. Многие теоретики, продолжая традиции просветительства, видели культурную динамику как постоянный прогресс.
Особенно явственно это прозвучало в XIX веке, во взглядах Гегеля и Маркса, а затем, в XX веке в трудах марксистских теоретиков (например, у Г. В. Плеханова) и тех, кто отождествлял прогресс культуры с научно-техническим прогрессом (П. К. Энгельмейер). Новые учения XX века (например, синергетика) считают, что в культуре, как и в других сверхсложных системах, не может быть однонаправленного линейного движения, поскольку в различные периоды осуществляются не только прогрессивные, но и иные тенденции.
Культура как деятельность
Обширную группу определений культуры составляют те, которые основообразующим началом культуры считают человеческую деятельность. Именно в двух наиболее явно выраженных аспектах человеческий образ жизни оказывается отличным от природного: в результатах действий в мире (артефактах) и в особенностях процесса деятельности. Действительно, ни одно животное не создает «второй природы», обладающей мерой объективности физического мира. Только человек изменяет и «продолжает» мир «первой» природы, только его действия направлены на овеществление, опредмечивание всех своих «сущностных сил». Следовательно, сущностью человеческого образа жизни является деятельность, связанная с универсальными возможностями человека: практическая, экономическая, художественная, психическая и т.д. М. С. Каган совершенно справедливо замечал: «Если следовать старинной традиции и искать для человека лаконично-однословное определение, способное указать на главное его отличие от всех других живых существ, то вместо таких формул, как Homo sapiens (человек разумный) или Homo faber (человек создающий), Homo logens (человек говорящий) или Homo ludens (человек играющий), Horn sociologicus (человек социологический) или Homo psichologicus (человек психологический), мы предложили бы определение Homo agens, т.е. действующий человек» . Обратим внимание на два момента: во-первых, на многообразие форм и видов человеческой деятельности и, во-вторых, на то, что при выделении этого многообразия снова приходится идти путем простого перечисления. С такой же трудностью имеет дело и надприродное определение культуры.
Кроме того, чтобы сформулировать деятельностное определение культуры, снова необходимо сопоставить культуру и природу, и здесь снова возникнут те же границы возможных интерпретаций, что и в предыдущей группе определений. При рассмотрении деятельности, как определяющего культуру явления, становится заметно, что «если относить к культуре только все внеприродное, то многие феномены культуры окажутся как бы несуществующими» .
Нет сомнения лишь в одном: культура — результат только человеческой деятельности. Совершенно ясно и другое: если человек имеет биологическое начало, т.е. является частью природы, то его мышление, а также мораль, религия, искусство не входят в природную составляющую человека. Это позволяет Э. С. Маркаряну отметить: «В понятии "культура" абстрагируется именно тот механизм деятельности, который не задается биологической организацией, (курсив наш- А. Б.) и отличает проявления специфически человеческой активности. Вместе с тем общий процесс человеческой деятельности осуществляется благодаря особой комбинации и неразрывному взаимодействию биологических и надбиологических механизмов при ведущем значении последних». В этом смысле деятельность человека направлена не только на то, чтобы изменять природу, вносить в нее свое, человеческое начало: деятельность включает в себя и действие, направленное на самого себя, на «пересоздание» (термин французского теоретика А. де Бенуа) собственной природы. Об этом же говорит и наш соотечественник В. М. Межуев: «Культура - это производство самого человека во всем богатстве и многосторонно-сти его общественных связей и отношений...» . Он считает что «мир культуры - это мир самого человека», его особой деятельности, в которой соединились его биологическая потребность активности и надбиологическая потребность в созидательных действиях, выступающих не как водораздел человека и природы, а, скорее, как взаимодействующие и взаимообусловленные стороны человеческой жизни.
В этих и иных представлениях о культуре, существующих в деятельно-стной парадигме также прослеживаются значительные разночтения, связанные с тем, что именно можно относить к деятельности, а что - только к активности человека, с тем, где проходит граница между чисто биологическими (природными) особенностями человека, а где - сугубо культурными и т.д.
Например, Н. Я. Данилевский высказывался о культуре в том смысле, что «разрядов культурной деятельности насчитывается не более и не менее четырех»3. Со всей определенностью он ограничивает культурную деятельность сферами религиозной, культурной «в тесном значении этого слова», включающей в себе теоретическое — научное, художественное, техническое отношения к миру. Кроме того, к культурной он относил политическую и общественно-экономическую деятельность. Однако позже в культурную деятельность начали включать и характеристики более обширного круга, например, определение американского лингвиста Э. Сепира, расширяющего деятельностный взгляд на культуру до комплексного единства деятельности и убеждений: культура — это «социально унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений, составляющих ткань нашей жизни».
Так же, как в предыдущей парадигме, здесь можно отметить как наиболее широкое определение, так и более конкретизированную марксистскую трудовую теорию культуры и наиболее узкое определение культуры как творческой деятельности. ( См. рис. 1.2.)
Рассмотрение культуры как «способа человеческой деятельности» (Э. Маркарян), как «технологии деятельности» (3. Файнбург), как преобразующей природу деятельности (Э. Баллер) вполне оправдано, поскольку человек по природе своей — «животное, способом существования которого является продуктивная деятельность, а не спонтанная жизненная актив-ность» . Животное удовлетворяет лишь витальные потребности, человеку же в силу причин, которые нет необходимости здесь рассматривать, пришлось выработать механизм «социального наследования», преемственности. Эта преемственность осуществляется только в процессе и на основе деятельности, породившей такую форму бытия как культура.
Следовательно, как замечает М. С. Каган, культура производна от деятельности человека. Но это не означает, что рассматривать культуру можно через какой-либо один вид деятельности, имея в качестве интеграла трудовую или духовную деятельность, коммуникацию или общение.
Однако в культурологической мысли сложилась достаточно разветвленная система определений культуры, берущих за основу фактор человеческой деятельности.
Современные исследователи человеческой деятельности считают, что она представляет собой системное единство пяти видов: преобразовательной, познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и художественной. Кроме того, в каждом из видов деятельность разделяется на репродуктивную, продуктивную, а также деструктивную (Э. Фромм). Таким образом, принятие любой человеческой деятельности в качестве культуры приводит в тем же самым выводам, что и тотальное принятие результатов деятельности за целостность культуры: целостность ускользает от её анализа. В системе дефиниций представленные основания выступают как необходимые, но отнюдь не достаточные элементы искомой полноты.
Поиск целостности привел к тому, что, выделив вначале из всех видов деятельности лишь практическую, с течением времени и развитием науки характеристика культурной деятельности шла путем увеличения числа её видов. Успехи психологической теории, включение в систему психических структур бессознательной мотивации человеческого поведения (Фрейд) привели к тому, что психика не только начинает мыслиться как некая глобальная система, перерастающая рамки индивидуального опыта (В. Вернадский, К. Юнг), но и как некая культурная составляющая, которая является одновременно зависящей от сознания, конфликтующей с ним и созидающей культуру (т.е. самоё себя).
Поиск релевантного метода исследования Культуры
Диалектика в философии недавнего прошлого считалась единственно возможным методом любого познания как завоевание марксизма, который стал официальной государственной философией. Категоричность в абсолютизации марксистской диалектики привела к утрате именно тех особенностей метода, которые настоятельно пропагандировались.
Одним из оснований критики классической немецкой философии было известное замечание Энгельса о том, что в философии Гегеля метод пришел в противоречие с системой. Однако советская философия повторила противоречие именно такого рода. Маркс писал в свое время, что создание диалектического материализма не предполагает окончательного этапа философии. Советские же идеологи марксизма чаще всего останавливались на пороге осторожных интерпретаций основных марксистских положений, забывая о том, что развитие науки в значительной степени противоречит застывшим цитатам. Таким образом, квазимарксизм, декларировавший бесконечность развития мира и познания, ограничил свободу познания рамками совершенных в XIX веке научных достижений. И пока можно было втиснуть в ограниченно понятый марксизм постоянно увеличивающиеся результаты познания мира, ортодоксия могла удовлетворять видимость всеобщего метода познания мира. Однако когда социальные прогнозы оказались не только нереализованными, но и нереализуемыми, произошел некий методологический сбой. Вместе со старой ортодоксией «выплеснули» также и ребенка - диалектику как метод, позволяющий рассматривать сложные открытые системы в их развитии, многообразии элементов, непрерывности и дискретности и т.д.
Именно таким явлением мира, который предстает перед нами как сверхсложная открытая система, находящаяся в постоянной динамике, является культура. Сложность изучения культуры заключена еще и в том, что она существует лишь в человеческом обществе, она коррелирует с природной данностью, сопоставима с человеком. В этом своем качестве познание культуры становится сложнейшей мировоззренческой задачей, от наиболее полного рассмотрения которой зависит не только будущее культуры, но и будущее всего человечества. Мировоззрение, включающее в свою системную целостность познавательный, ценностный и поведенческий блоки, охватывает всю систему отношений человека к миру - это не только познание мира или система ценностей. Существенный блок мировоззрения составляет его поведенческая сторона. В ней реализуется знание на любом его уровне - от глобальных теорий до предрассудков и от расхожих мнений о мире до осмысления глубин мироздания. Но само знание, хоть и является процессом деятельности, в поведенческой системе полностью осуществиться не может, ибо, кроме логически организованных целей, включает в себя также и мотивации, оценки, эмоции, а одновременно нормы, идеалы и пр. Поэтому на поведенческом уровне познавательное и ценностное отношения реализуются в единстве, и это единство становится выражением культуры как субъекта, так и общества в целом.
Задача философии в данном случае - не просто выбор и обоснование того или иного мировоззрения. Её задача - поиск парадигмы, позволяющей осмыслить культуру как целостность, определить её структурные элементы, принципы построения и функционирования культуры как системы. Специфика культуры как сферы философской рефлексии, прежде всего, заключается в том, что мир культуры, взятый в его целостности, представляет собой сверхсложную открытую систему, находящуюся в постоянной динамике. Поэтому философский анализ этого феномена не может себе позволить брать для изучения некую даже весьма значительную часть этой целостности. Исследование отдельных элементов культуры является необходимым, но не достаточным для постижения явления в максимально возможной полноте.
В истории изучения культуры происходило своего рода «восхождение от конкретного к абстрактному», теперь же наступает время и необходимость следующего этапа - движения от сформулированных абстракций частного порядка к богатому, осмысленному системно и целостно конкретному.
Первичная «конкретность» культурологического знания исследовала и описывала различного рода эмпирику: предметный и художественный мир, зависимость специфики культуры от религиозного мировоззрения, знаковые системы культуры, её локально-историческую конкретику и т.д. В процессе исследования культурной конкретики выяснилось, что феномен культуры «является чрезвычайно сложным, полифункциональным, полиструктурным образованием. При этом целостное видение проблемы, как правило, исчезало или же находилось в тени исследовательского интереса» . Как далее замечает автор, наиболее глубокий уровень познания и изучения проблемы может осуществить лишь «целостно-интегративный» подход, который в состоянии осмыслить движение познания от анализа к синтезу.
Обычно при рассмотрении культуры во внимание принимаются следующие аспекты:
1. Природная среда как условие возникновения культуры, как её контекст, как объект воздействия и осмысления.
2. Формы жизнеобеспечения, орудия труда, созданные человеком из материалов природы; развитие и совершенствование самого человека в соответствии с «требованиями» орудий труда для более эффективного их использования. Виды трудовой деятельности и формы организации этой деятельности.
3. Нормы и обычаи, сформировавшиеся в процессе жизнедеятельности.
4. Социальное устройство как способ и условие жизнеобеспечения.
5. Возникновение особой картины мира, религиозной, художественной, научной, её воздействие на общество, её место и роль в этом обществе.
6. Формы мышления и оценки мира (менталитет).
7. Формы познания мира. 8. Знаки и знаковые системы, отражающие все аспекты челове ческого существования, все формы коммуникации, уровень познания мира, характеризующий текст и контекст, в котором осуществляет себя человек и общество, в котором сохраняется культура.
Все это существует в мире как условие выживания человечества, как процесс и способ этого выживания, как смысловая сторона жизни человека и общества, как «книжная полка» (А. Моль), как саморазвивающаяся система.
Совершенно ясно, что можно исследовать каждую из названных нами сторон общего культурного процесса. Однако если мы ставим перед собой задачу рассмотрения мира культуры в динамике и статике, в системной целостности, то метод исследования такого рода феномена может быть только таким, который позволяет учесть наличие противоположностей, противоречий и их взаимодействий и закономерного, и случайного характера.
Пространство и время в античной философии
В античной философии были впервые переосмыслены донаучные представления о пространстве и времени. По точному замечанию А. Эйнштейна, в этот период «понятие "пространство" приобретает смысл, не зависящий от какого-то конкретного материального объекта; следуя этому подходу, с помощью естественного обобщения понятия "пространства коробки" прийти к понятию независимого (абсолютного) пространства, обладающего неограниченной протяженностью, в которой содержатся все материальные объекты»1. Таким образом, Эйнштейн отметил главную особенность пространственных представлений античности - перенесение в теорию и идеализацию предметно-чувственных практических сторон бытия.
Уже для Парменида, поделившего все, что можно помыслить, на бытие и небытие, бытие пространственно, и обладает протяженностью, небытие же - лишено этих характеристик. Оставшийся от его трудов фрагмент «О природе [Проэмий]» посвящен преимущественно анализу понятия бытия. Именно в рассуждениях о том, что бытие не возникало, поскольку оно было всегда, философ слегка намечает пространственные критерии этого бытия. Он рисует в своей поэме бытие как неделимое, однородное:
И неделимо оно, коль скоро всецело подобно:
Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше,
Что исключило бы сплошность, но все наполнено сущим.
Но в границах великих оков оно неподвижно2.
Пространство, таким образом, оказывается лишь атрибутом бытия и не может быть рассмотрено самостоятельно. Философские споры о природе движения привели атомистов к представлениям о наличии пустоты, в котором и должно осуществляться движение (Левкипп и Демокрит). Тит Лукреций Кар с полной убежденностью говорит о том, что если бы не было пустоты, то «тела не могли бы нигде находиться и не могли бы никуда двигаться»3. Самое большое воздействие эти взгляды произвели на последующее развитие и становление классической физики.
Однако существовала и другая концепция во взглядах на бытие и, соответственно, на категорию пространства. Например, Анаксагор уже в первой фразе своего сочинения пишет: «Все вещи были вперемешку, бесконечные и по множеству, и по малости, так как и малость была бесконечной. И пока все было вперемешку, ничто не было ясноразличимо по причине [своей] малости: все обнимал аэр (туман) и эфир, оба бесконечные»1. Говоря о величинах всяких вещей, Анаксагор замечает, что «и у малого ведь нет наймень-шего, но всегда есть еще меньшее ... Но и у большого всегда есть большее» . И. Д. Рожанский отмечает, что Анаксагор, создавая свою модель Космоса, заполняет его пространство «круговым вращением», «вихрем», некоей субстанцией, включающей в себя и «плотную материю», и «эфир», являющиеся «беспредельными и по множеству, и по величине»3. Сходные с идеями Анаксагора представления о «наполненности» пространства некоей субстанцией мы находим также и у Аристотеля. Но для Аристотеля понятие пространства как такового вообще отсутствует. Он знает только понятие места (topos), поскольку все предметы находятся где-нибудь, и любое движение - это перемещение вещи относительно других вещей. Для Аристотеля место - это не тело и не элемент, следовательно, оно либо форма тела, либо его материя, либо протяженность между границами, либо граница внешнего относительно него тела: «Тело, снаружи которого находится какое-нибудь другое объемлющее его тело, находится в (некотором) месте. Тело, у которого этого нет, — не находится). Кроме того, - отмечает Аристотель, — «всякое место имеет верх и низ, каждое тело по природе перемещается и остается в свойственном ему месте, а это и составляет верх и низ»4.
Наибольшую определенность в понимании пространства в античной науке внесла геометрия Евклида, надолго определившая представления о пространственных характеристиках в математике, физике и философии. Пространство Евклида состоит из точек, прямых, геометрических фигур и тел. Евклид не считает пространство структурированным явлением, хотя и делает выводы о его непрерывности, неограниченности и трехмерности.
Однако философы разделяли не все положения Евклида о свойствах пространства. Например, тот же Аристотель не принимал положения о геометрической бесконечности пространства, считая, что «бесконечно перемещаться по прямой нельзя (ибо такого рода бесконечности не существует, а если бы она и была, ничто [таким образом] не двигалось бы, ибо невозможного не происходит, пройти же бесконечную [прямую] невозможно)»1.
Античные представления о пространстве заложили основы понимания этой категории на последующие века. Даже при отсутствии согласия с основными теоретическими положениями этой эпохи, они все же выступают отправной точкой для любого философского анализа проблем, связанных с пространственной проблематикой.
Ни в одном из философских трудов этой эпохи нет ни малейшего намека на понимание каких-либо других ипостасей пространства, кроме чисто геометрических или физических. Нигде не присутствуют пространственные характеристики социума, коммуникации, интеллекта и, тем более, культуры в целом. Но без учета этих размышлений оказывается невозможным и построение основных критериев культурного пространства как особой формы континуальности, однородности (или неоднородности), структурности, выяснения критериев границ, конечности или бесконечности и прочего.
Как мы отмечали выше, эпоха Возрождения, разрабатывая перспективу в системе изобразительных искусств, начала формировать новый интерес к пространственным характеристикам мира. Но более близкими к соображениям об особенностях пространства, а также о пространственных критериях духовного мира оказались теоретические представления XVII - XVIII и в особенности И. Канта, которые перевели понимание пространства с уровня непосредственной предметности мира на уровень научного познания мира в «чистых», «доопытных» формах.