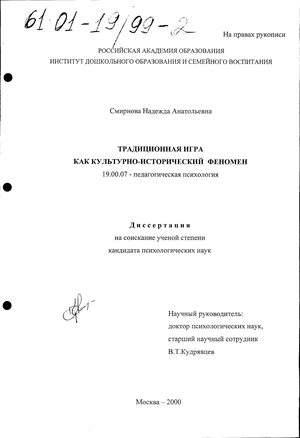Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Традиционная игра как предмет полидисциплинарных исследований 11
1.1. Основные направления в изучении традиционной игры 11
1.2. Историко-культурологический аспект исследования традиционной игры 15
1.3. Связь историко-культурологического и психолого-педагогического подходов к анализу традиционной игры 54
Глава II. Развивающий потенциал традиционной игры и его психологическое содержание в исторической перспективе 71
2.1. Традиционная игра как модель зоны ближайшего и более отдаленного развития 71
2.2. Традиционная игра: источники развития продуктивного воображения 88
Заключение 95
Выводы 97
Библиография 99
- Основные направления в изучении традиционной игры
- Традиционная игра как модель зоны ближайшего и более отдаленного развития
- Традиционная игра: источники развития продуктивного воображения
Введение к работе
Актуальность и постановка проблемы. Необходимость возрождения историко-культурных, прежде всего - этнокультурных традиций в сфере обучения и воспитания подрастающих поколений сегодня уже не нуждается в специальном обосновании. На передний план выдвигается другой вопрос: как от лозунгов и благих пожеланий перейти к созданию такого содержания образования (дошкольного и школьного), которое органично сочетало бы в себе ориентации на общечеловеческие и национально-культурные ценности? И если построение такого образовательного содержания возможно, то как ввести его в контекст современной педагогической практики с учетом тенденций приоритетов социального развития, характеризующих актуально проживаемую и переживаемую нами эпоху?
Наиболее простой путь - это непосредственное ознакомление детей с историческими традициями народной культуры (фольклором, играми, обычаями и др.) в том виде, в каком они сохранились сегодня или же бытовали некогда. Подобный путь избирается на практике довольно часто. Однако с известной точки зрения он вызывает сомнения. Дело в том, что при этом элементы духовно-практического опыта этноса нередко превращаются в экзотическое дополнение к основному воспитательно-образовательному содержанию. В результате может быть создан эффект их внешней привлекательности для детей (например, народный миф или сказка могут удовлетворять стихийную любознательность ребенка). Но этим вряд ли будет исчерпано решения задачи формирования у подрастающего поколения подлинных начал национального сознания и самосознания.
Ситуация обостряется тем, что современное человечество в открытой форме испытывает кризис этнической идентичности, который проявляется в разнообразных симптомах депрессивного спектра (А.В.Сухарев, 1998). Этот кризис далеко не всегда является следствием внутриэтнической дезинтеграции, непосредственного разрушения традиционных национально-культурных укладов и т.д. Он имеет закономерную естественно-историческую природу и в этом смысле характеризует «норму» исторического развития. Его неотвратимость фактически обосновал выдающийся английский историк А.Тойнби (1991. С. 20), который писал, что если раньше общество осознавало себя замкнутым универсумом, то в наш век оно идентифицирует себя с частью более широкого универсума. Поэтому любые изоляционистские акции, предпринимаемые на социально-педагогическом уровне в целях «возрождения» национального менталитета (например, вытеснение базисного образовательного компонента этно-региональным или сведение первого ко второму - синдром преподавания «национальной таблицы умножения», по выражению А.П.Чехова) равноценны попыткам повернуть историю вспять и как таковые не только бесперспективны, но и чреваты опасными последствиями. Каков же выход из этой ситуации?
Обращение к этнг ультурным традициям, по нашему мнению, не должно носить самоцельного характера, когда просто актуализируется некоторый пласт исторической памяти народа. Целевым приоритетом здесь является не оживление прошлого как такового, а обогащение ими духовного мира современного ребенка, содержания различных форм его деятельности (игры, учения и др.). Возрождение этих традиций необходимо прежде всего в тех областях обучения и воспитания, где они абсолютно незаменимы, т.е. где исторически сложившиеся развивающие функции традиционного этнического опыта (культуры) не могут быть продублированы современными педагогическими средствами. Этим определяется актуальность научного изучения данных функций.
С позиций историко-социологического, культурологического и т.п. анализа этнокультурные традиции представляют самостоятельный исследовательский интерес. Для психолого-педагогического подхода они значимы настолько, насколько в них воплощены исторически заданные формы включения детей в жизнь общества, а тем самым и этноспецифические стратегии формирования индивидуального сознания. Далее, психологию и педагогику интересует потенциальный вклад этих традиций в развитие у ребенка целостной системы универсальных человеческих способностей. Отметим, что именно через развивающую компоненту национальной культуры единство «общечеловеческого» и «этноспецифического» реализуется наиболее полно. Только с учетом этого работа по возрождению этнокультурных традиций в условиях современной образовательной практики будет иметь предметный смысл.
Сказанное относится и к такому феномену национальной культуры, как традиционная игра (ТИ). ТИ по своей природе многомерна и полифункциональна (Г.Н.Волков, 1974; С.Л.Новоселова, 1992, 1994 и др.). С одной стороны, она несет в себе символическую информацию о прошлом культуры, обеспечивает трансляцию из поколения в поколение исторических черт национального менталитета и этноспецифических ценностей (С.Л.Новоселова, 1994; О.Н.Кышпанакова, 1994). Благодаря ей ребенок удовлетворяет свои потребности в практической деятельности, познании окружающего мира (вплоть до создания собственной «концепции мира», по J.Piaget, 1983), в осмыслении собственного места в нем при помощи способов, исторически выработанных той этнической общностью, к которой он принадлежит. С другой стороны, - и этот аспект изучен слабее - ТИ служит своеобразной объективированной моделью перспективы детского развития (зоны ближайшего и более отдаленного развития), «верхняя» граница которой носит динамический, подвижный характер.
Известно, что любая задача так или иначе проектирует определенный уровень психического (например, интеллектуального) развития ребенка. Это справедливо и в отношении игровых задач. Однако в отличие от учебных, тренировочных и т.п. заданий в игровых задачах требуемый уровень развития не фиксируется жестко и однозначно (хотя игры, особенно традиционные, часто содержат в себе элемент научения и тренажа). Поэтому ТИ выступает как средство расширения возможностей ребенка в преобразовании, познании и смысловом освоении действительности в категориях данной этнокультуры. С этим в самом общем виде и связаны развивающие функции ТИ.
Развивающий потенциал ТИ акцентировался классиками педагогической науки (К.Д.Ушинский, 1948, 1950; П.Ф.Каптерев, 1905; А.С.Симонович, 1874, 1909; Е.Н.Водовозова, 1873 и др.). К его анализу обращались такие ведущие дошкольные педагоги, как Е.И.Тихеева (1965), А.П.Усова (1966, 1976, 1981), Р.И.Жуковская (1975). Свой вклад в широкую педагогическую разработку этой проблемы внесли современные исследователи (Е.А.Аркин, 1948; Г.Н.Волков, 1958; Г.Н.Симаков, В.М.Григорьев, 1966, 1976; А.Э.Измаилов, 1991; А.Н.Фролова, 1995; З.-Б.Ф.Контуаутене, 1977; О.Н.Кышпанакова, 1994; С.А.Шмаков, 1968 и др.).
С разных сторон она изучалась и психологами (J.S.Bruner, AJolly, K.Sylva, B.Setton-Smith, 1976; I.Ivic, 1987; Д.Б.Эльконин, 1978, 1989; С.Л.Новоселова, 1992, 1994; Н.Н.Палагина, 1992; К.О.Монтенегеро, 1984; С.В.Григорьев, 1991; М.А.Нарбашева, 1993; А.В.Черная, 1999 и др.). Важные материалы, касающиеся развивающих функций ТИ, представлены также в работах историков, этнографов, культурологов, фольклористов и смежных с ними специалистов (М.Мид, 1988; Й.Хейзинга, 1992; Е.А.Покровский, 1887, 1897; Г.С.Виноградов, 1925, 1929, 1930; О.И.Капица, 1928; А.Г.Оршанский, 1923;И.С.Кон, 1988 и др.).
Примерно с первой половины XIX столетия российские исследователи приступают к систематическому сбору и публикации народных детских игр (и произведений детского фольклора), в ряде случаев пытаясь высветить их развивающие функции. Классическими образцами этого жанра можно считать сборники игр, составленные В.И.Далем (1898), Е.А.Покровским (1895), В.Н.Всеволодским-Гернгроссом (1933) и др.
Вместе с тем как многообразные факты, которые накоплены в интересующей нас области, так и гипотезы, нацеленные на их объяснение, нуждаются в дополнительном осмыслении и обобщении. Это могло бы способствовать дальнейшему углублению конкретно-исторического подхода к исследованию проблем обучения, воспитания и психического развития ребенка. Необходимо и обогащение фактологической базы в изучении развивающих функций ТИ путем расширения диапазона региональных выборок.
Наше внимание к этим функциям вызвано тем, что именно они определяют самобытный культурный и психологический статус ТИ. В связи с этим отметим, что в психологической литературе их развивающий потенциал и другие фундаментальные характеристики преимущественно изучались в своей особенной, а не всеобщей форме (попытки воссоздать отдельные грани последней принадлежат Д.Б.Эльконину (1978), С.Л.Новоселовой (1994) и некоторым другим авторам). Чаще исследователи стремились спроецировать на обширную феноменологию народных игр те общие особенности игры, которые уже были установлены в детской психологии и педагогике. Другими словами, эти особенности просто конкретизировались в эмпирическом материале, а не выводились в ходе его исторического анализа (что отвечало бы философско-диалектическому принципу единства исторического и логического). Кроме того, психологическое изучение природы ТИ не опиралось на установки комплексного, полидисциплинарного подхода, который наиболее адекватен изучаемой реальности, поскольку ТИ по своей сути представляет собой единый культурно-психологический феномен. Оно было вынуждено принимать «эмпирическую многоаспектность» (Я.А.Пономарев, 1976) проблематики ТИ просто как данность, в лучшем случае - как внешне заданный исследовательский контекст.
Исходя из этого, целью настоящего исследования является раскрытие культурно-психологического статуса ТИ на основе полидисциплинарного подхода.
Объект исследования - исторически сложившиеся формы ТИ.
Предмет исследования — развивающий потенциал ТИ.
Задачи исследования:
1. Обосновать необходимость и определить направления полидисциплинарного изучения ТИ в их содержательной взаимосвязи.
2. Провести анализ ТИ как специфической модели зоны ближайшего и более отдаленного развития ребенка.
3. Сформулировать обобщенное представление о ТИ как всеобщей форме творческого освоения детьми культуры и ее развивающих функциях.
4. Выявить источники развития в ТИ творческого воображения как универсальной психической способности и центрального психологического новообразования дошкольного возраста.
Гипотеза исследования. ТИ на определенных исторических этапах выступает в качестве всеобщей формы творческого овладения детьми общественно-культурным опытом, т.к. ориентирует ребенка на освоение не только его сложившегося, но и складывающегося, открытого к развитию содержания - пространства новых культурных смыслов. При этом ТИ служит своеобразной моделью зоны ближайшего и более отдаленного развития ребенка, которая несет в себе «культурный код» (В.П.Зинченко, Е.Б.Моргунов, 1994) детского развития.
Методологическую основу исследования составляют центральные положения культурно-исторического и деятельностного подходов к пониманию психического развития (Л.С.Выготский, 1972, 1983, 1984а, 19846; С.Л.Рубинштейн, 1957, 1959, 1976, 1989а, 19896; А.Н.Леонтьев, 1981, 1983а, 19836; А.Р.Лурия, 1974; П.Я.Гальперин, 1976, 1977; А.В.Запорожец, 1978, 1986а, 19866; Д.Б.Эльконин, 1989; В.В.Давыдов, 1986, 1996, 2000), а также представления о социально-исторической природе детской игры (В.В.Зеньковский, 1995; П.П.Блонский, 1964; Л.С.Выготский, 1972, А.Н.Леонтьев, 1944, 1981; Д.Б.Эльконин, 1948, 1965, 1978, 1989; А.В.Запорожец, 19666, 1986а), сущности и проявлениях креативной тенденции в процессах освоения культуры (В.В.Давыдов, В.Т.Кудрявцев, 1997; В.Т.Кудрявцев, 1997абв, 1998, 1999абв).
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение историко-социологических, этнографических, культурологических, психологических, педагогических данных об особенностях ТИ, содержащихся в литературных источниках.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые получило свое развернутое обоснование понимание ТИ как объективированной модели перспективы детского развития (зоны ближайшего и более отдаленного развития ребенка) в тесной связи с ее рассмотрением в качестве всеобщей формы творческого освоения ребенком родового человеческого опыта (культуры).
Теоретическое значение исследования обусловлено его направленностью на полидисциплинарный анализ ТИ как культурно-психологического феномена, на обсуждение проблематики ТИ в широком историко-культурном контексте, а не только со стороны ее специальных воспитательных функций.
Практическое значение исследования заключается в том, что его результаты позволяют наметить культуросообразные пути внедрения ТИ в практику развивающего дошкольного образования.
Аргументированность и достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается многообразием данных, которые анализируются в работе и отражают различные социально-исторические и психолого-педагогические проекции ТИ, а также методологической выверенностью исходных оснований этого анализа.
На защиту выносятся следующие положения:
1. ТИ выступает предметом полидисциплирнарного анализа, который позволяет адекватно воспроизвести ее полифункциональную природу.
2. Задаваемое в ТИ психолого-педагогическое содержание (знания, умения, навыки, способности и т.д.) может полностью не совпадать с теми целевыми педагогическими установками и ценностными ориентациями, которые непосредственно воплощает в ней взрослое сообщество.
3. Указанное несовпадение является источником расширения педагогических возможностей ТИ и одновременно - амплификации
перспективы детского развития. Оно способствует предоставлению ребенку необходимой свободы, самостоятельности и инициативы в ходе «игрового» освоения общественного опыта, которое приобретает творческий характер.
4. ТИ представляет собой средство развития продуктивного воображения как механизма осмысления и оценки своих собственных действий с позиций других людей, в пределе - всего человеческого рода.
Апробация и внедрение в практику теоретических положений и результатов исследования проводилось на базе сети дошкольных образовательных учреждений Управления дошкольного образования г. Дубны (Московская область), дошкольного учреждении УВК «Школа-лаборатория «Лосиный остров» № 386, на заседаниях лаборатории методологии исследования детского развития в образовательных процессах Института дошкольного образования и семейного воспитания РАО (1995-1999), на лекциях и семинарских занятиях по возрастной психологии для студентов психологического факультета МГПУ.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, выводов, библиографии.
Основные направления в изучении традиционной игры
Игровая деятельность человека в целом и ТИ в частности всегда приковывала к себе внимание представителей гуманитарного знания. Как отмечает С.Л.Новоселова (1994), генетический метод анализа позволяет воссоздать различные планы развития игры: в филогенезе (игра животных, особенно приматов), в антропогенезе (реконструкция игр детей на разных этапах развития homo sapiens), в период исторического становления общества (игры, зафиксированные в истории культуры и современные народные игры), в онтогенезе современного ребенка (игры детей в семье и в детском саду). Уже из этого видно, что феномен игры потенциально способен объединить вокруг себя интересы самых разных научных дисциплин.
Все это относится и к ТИ. В настоящее время ТИ оформилась (по большей части - стихийно) в качестве предмета полидисгщплинарного анализа. Ее изучение проводится с позиций педагогики, психологии, исторической социологии, этнографии, культурологии, культурной антропологии и др. По сути, полидисциплинарный, комплексный характер носит программа «Традиционные игры», инициированная Всемирной организацией дошкольного воспитания (ОМЕР), которой руководит известный И.Ивич - автор известной книги «Человек как существо символическое» (см.: I.Ivic, 1987). Среди ее разработчиков - известные специалисты, имеющие многолетний опыт исследования ТИ на основе комплексного подхода - А.Марьянов, Х.Реттер, Б.Сеттон-Смит.
Если экстраполировать вышеприведенную схему С.Л.Новоселовой на область анализа ТИ, то из нее «выпадет» филогенетический план (что вполне объяснимо), а антропологический - будет касаться воссоздания исходных исторических предпосылок ТИ в виде архаической игры (подробнее о ней речь пойдет ниже). В фокусе внимания при этом окажутся в первую очередь собственно исторический и онтогенетический планы развития игры.
На данный момент выделился ряд направлений разработки проблематики ТИ представителями разных дисциплин.
Первое направление связано с реконструкцией места ТИ в системе социокультурных процессов, осмыслением ее в качестве механизма функционирования и развития общественного целого (М.М.Бахтин, 1965; Г.Клаус, 1968; Ю.А.Левада, 1984; В.И.Устиненко, 1980; И.Хейзинга, 1992 и др.). Феноменологическую базу этому направлению задают исследования историков, антропологов, в том числе - культуроантропологов, этнографов (Ph.Aries, 1973; М.О.Косвен, 1927; К.Леви-Стросс, 1985; М.Мид, 1988; И.С.Кон, 1988; Традиционное воспитание..., 1988; Этнография детства..., 1983 - 1992 и др.) и фольклористов (Е.А.Покровский, 1887Ю 1895; Г.С.Виноградов, 1925, 1929; 1930; О.И.Капица, 1928; А.Г.Оршанский, 1923 и др.), а также развернутые экскурсы психологов и педагогов в историю игры (Е.А.Аркин, 1935; Д.Б.Эльконин, 1978). Эти исследования позволяют также соотнести представления об общественно-историческом статусе ТИ с понятием о ее социализирующих функциях.
Второе направление преследует своей целью раскрытие фундаментального педагогического значения и общей психологической природы ТИ. Это направление берет свое начало в трудах К.Д.Ушинского (1948, 1950), П.Ф.Каптерева (1905). К нему примыкает и известная, хотя и ставшая библиографическим раритетом книга Д.Колоцци (1911) и др. В своем классическом исследовании «Психология игры» (1978) Д.Б.Эльконин прослеживал сущностные характеристики игры в ее историческом развитии преимущественно на материале ТИ. Среди современных авторов, изучающих проблематику ТИ в подобном русле, можно назвать B.Setton-Smith (1984), I.Ivic (1987), Г.Н.Волкова (1974), А.Э.Измайлова (1991), С.Л.Новоселову (1994) и др.
В работах третьего направления отражены общие принципы и способы включения ТИ в педагогический процесс на разных ступенях образования Его зачинателями следует считать К.Д.Ушинского (1948, 1950) П.Ф.Лесгафта (1952), А.С.Симонович (1909), Е.Н.Водовозову (1873). Традиции, заложенные этими учеными, были продолжены Е.И.Тихеевой (1965), А.П.Усовой (1976), Р.И.Жуковской (1975), Д.В.Менджерицкой (1982), Г.Н.Волковым (1958, 1974), В.М.Григорьевым (1966, 1976)и др.
Традиционная игра как модель зоны ближайшего и более отдаленного развития
Проблема развивающих функций ТИ конституирует психолого-педагогический аспект ее исследования. Их изучению функций посвящено значительное число психологических и педагогических исследований (С.Л.Новоселова, 1992, 1994; Г.Н.Волков, 1958, 1974; Г.Н.Симаков, 1984; М.О.Монтенегеро, 1984; С.В.Григорьев, 1991; Н.А.Нарбашева, 1993; Н.Г.Шишниашвили, 1973; З.-Б.Ф.Контуаутене, 1977; С.М.Ахундова, 1975; С.А.Газиева, 1973; С.Г.Гагиев, 1963; С.Капан, 1973; О.Н.Кышпанакова, 1994; Н.Н.Палагина, 1992; К.Сейскмбаев, 1987; П.Турсунов, 1964; Н.А.Асадулаева, 1998; А.В.Черная, 1999 и др.). Однако в большинстве этих работ рассматривались лишь отдельные, хотя и значимые грани развивающего потенциала ТИ. В своей всеобщей форме он практически не подвергался теоретико-психологическому анализу.
С точки зрения этого анализа, весьма важна дискуссия, развернувшаяся почти четыре десятилетия назад на симпозиуме «Психология и педагогика игры дошкольника», который был организован Институтом дошкольного воспитания АПН (1963) (см.: Психология и педагогика игры дошкольника, 1966).
Один из главных дискутантов Г.П.Щедровицкий, обосновывая социально-педагогические представления о природе игровой деятельности, утверждал: «Игра есть деятельность ребенка, но деятельность, задаваемая через особые средства и формы общественного воспроизводства, навязываемая ему системой «инкубатора» (последовательность ситуаций обучения и воспитания -Н.С.), принимаемая и усваиваемая им. В этом плане игра является чисто педагогической формой, можно сказать, созданием педагогики и педагогов. Она исторически сложилась и развивалась для управления формированием детей» (Г.П.Щедровицкии, 1966а. С. 97).
Позиция Г.П.Щедровицкого и разделяющих ее исследователей была подвергнута критике А.В.Запорожцем, который в Предисловии к сборнику, составленному по материалам симпозиума, отмечал: «Отправляясь от правильного положения относительно социальной детерминации процесса развития детской игры... указанные авторы приходят к неверному, по нашему мнению, выводу, что игра есть искусственное образование, лишенное собственной логики развития и специально создаваемое обществом в воспитательных целях, а затем как бы навязываемое ребенку в готовом виде. Тем самым игнорируется специфика игры как формы детской самодеятельности и собственные законы ее развития, без учета которых невозможно разработать эффективные методы педагогического руководства игрой» (А.В.Запорожец, 1966а. С. 4). Сходное несогласие выражает и Ф.И.Фрадкина (1966. С. 291): «...Правильнее было бы ставить вопрос о сотрудничестве со взрослым, как об этом говорил Л.С.Выготский, а не о «навязывании» ребенку, как об этом говорил... Г.П.Щедровицкии».
На наш взгляд, за этой поляризацией взглядов на игру кроется ее реальная противоречивость. Примечательно, что и сам Г.П.Щедровицкии вынужден был сделать весьма примечательную оговорку: «Как особая педагогическая форма игра определяется массой разнообразных факторов, действующих в разных направлениях и с разной «силой». Это и производство игрушек, определяющееся часто не педагогическими, а экономическими или идеологическими факторами, и архитектурно-планировочная деятельность в строительстве детских садов и яслей, и условия работы воспитателей в детских садах, и программы обучения в педучилищах и специальных школах, и традиции отношения взрослых к детским занятиям, и многое другое. Из-за обилия всех этих факторов, влияющих на игру, она как педагогическая форма оказывается плохо управляемой и начинает «жить» по стихийным законам, нарушающим общую систему «инкубатора»» (Г.П.Щедровицкий, 1966а. С. 67).
Но только ли в стихийности дело, только ли влияние ближайших факторов выводит игру из-под педагогического «контроля», делает ее «плохо управляемой»? Нет ли в этой стихийности и невозможности жестко управлять игрой определенной закономерности? Попытаемся подробнее рассмотреть это применительно к анализу развивающих функций ТИ.
Традиционная игра: источники развития продуктивного воображения
Тезис о связи игры с развитием творческих способностей детей приобрел уже хрестоматийное звучание. Вполне закономерно, что при этом игра рассматривается, прежде всего, как источник становления продуктивного воображения ребенка (Л.С.Выготский, 1991; А.Н.Леонтьев, 1944, 1981; Д.Б.Эльконин, 1978; В.В.Давыдов, 1996; Н.Н.Самсонов, 1923; Е.Е.Кравцова, 1991; Н.Н.Палагина, 1992; и др.).
В отечественной психологии возникновение воображения принято связывать с созданием условной ситуации в игровой деятельности. Так, Л.С.Выготский писал, что «рождение воображаемой игровой ситуации происходит в результате того, что в игре предметы, а значит и операции с этими предметами включены в действия, которые обычно осуществляются в других предметных условиях и по отношению к другим предметам» (Л.С.Выготский, 1978. С. 21). Действие в воображаемой ситуации, требующее произвольного намеренья, волевых мотивов, поднимает игру «на высший уровень развития, выносит ее на гребень волны, делает девятым валом развития дошкольного возраста» В игре ессо homo (Вот человек!)» (Там же).
А.Н.Леонтьев (1944) квалифицировал игру как определяющую силу в развитии воображения. Он отмечал, что «...не из воображаемой ситуации рождается игровое действие, а наоборот - из несовпадения операции с действиями рождается воображаемая ситуация (А.Н.Леонтьев, 1944. С. 41).
Вместе с тем творческое воображение ребенка предстает для исследователя, по крайней мере, в двух основных функциях. Первая функция традиционно изучалась в психологии, это - продуцирование принципиально новых образов действительности. Вторая функция (именно как функция воображения) изучена намного слабее, это - умение ребенка осмысливать и оценивать свои собственные действия с позиций других людей, в пределе -«обобщенного другого» (G.H.Mead, 1965), всего человеческого рода (Э.В.Ильенков, 1991). Эта функция - характеризующая воображение как универсальную психическую способность (Э.В.Ильенков, 1991; В.В.Давыдов, 1996; В.Т.Кудрявцев, 1999г) - обычно закреплялась за самосознанием, рефлексией и др., но не исследовалась как собственно креативное устремление ребенка, как творческий процесс. Между тем ее анализ приобретает особую значимость в плане разработки проблемы связи воображения и игры.
В психологии до сих пор имеет место отождествление воображения со знаково-символической функцией (его критика и способы преодоления представлены в работах В.Т.Кудрявцева, 1999г). Особенно отчетливо оно проявляется в ходе исследования «работы» воображения на материале игры. В создании условной ситуации на основе использования знака - например, когда играющий ребенок использует палочку как лошадку, еще нет никакого творчества, для этого не нужно и воображение. Он руководствуется простейшими соображениями удобства - на палочке можно «ездить». Творческая задача состоит для него в другом - в том, чтобы представить себя в образе наездника, эмоционально вжиться в этот образ. Замещающее действие с палочкой - лишь вспомогательное средство ее решения (В.Т.Кудрявцев, 1999г). Такое «раздвоение», позиционирование субъекта игры и осуществляется «силой воображения».
В задачах «на замещение» замещающий предмет нередко оказывается безразличным к природе замещаемого (и наоборот), а их соотнесении производится ребенком по чисто произвольным основаниям. Эти задачи в большинстве своем не предполагают проявления творческой активности со стороны ребенка. Способы их решения легко репродуцируются, шаблонизируются в отличие от способов решения творческих задач - всегда уникальных и невоспроизводимых.
Это хорошо продемонстрировано в экспериментах В.Т.Кудрявцева (неопубликованная работа). Детям шестилетнего возраста предлагалось перечислить возможные способы употребления ластики. Дети ограничивались указанием на «традиционный» способ его употребления - стирание карандашных линий. Тогда их внимание обращалось на заранее приготовленный игрушечный столик, за которым сидели куклы. Однако на столике отсутствовала игрушечная посуда. Экспериментатор говорил детям, что куклам пора обедать, но есть им не из чего. Затем экспериментатор клал ластик перед одной из кукол и спрашивал детей, может ли он быть использован в этой ситуации в качестве чашки. Получив утвердительный ответ, экспериментатор вновь просил детей назвать или продемонстрировать возможные способы употребления ластика. Дети без особого труда «замещали» ластиком чашку, ложку, вилку, нож, супницу и т.д. После этого стол убирался, и экспериментатор опять обращался к детям с аналогичным заданием. На сей раз зона предметно-игрового замещения расширялась - дети свободно «замещали» ластиком самые различные предметы - самолет, пирожное, шапочку (один ребенок для убедительности даже положил ластик себе на голову), комнатный цветок и т.д., ничуть не заботясь об объективных основаниях этого замещения. Затем экспериментатор говорил детям: «Так ластик можно использовать в игре, «понарошку». А как его можно использовать в действительности, «не понарошку»?» Дети снова ограничивались указанием на «традиционный» способ использования ластика.