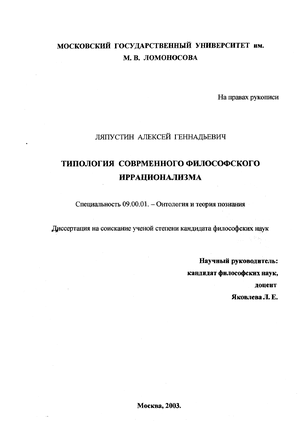Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Современный иррационализм как философская традиция 17
1. Истоки формирования иррационализма как философской традиции 18
2. Основания типологии современного философского иррационализма 28
Глава II. Экзистенциальный тип философского иррационализма: движение от антитезы абсурда и мышления к синтезу 41
1. Антитеза мышления и экзистенции у С. Киркегора 42
2. Феноменологическая установка на синтез рационального и иррационального в философии абсурда Ж.-П. Сартра и А. Камю 60
Глава III. Интуиционистский тип иррационализма: движение от антитезы интуиции и рассудка к их синтезу... 82
1. Роль чувственной интуиции в постижении иррационального. 85
2. Диалектика логического и мистического в интуитивистском иррационализме 105
Глава IV. Художественно-поэтический иррационализм: поиск адекватных форм выражения 126
1.Специфика символического проявления иррационального.. 128
2. Философский статус «поэтического мышления» как сферы конституирования иррационального 142
Заключение 166
Список используемой литературы
- Основания типологии современного философского иррационализма
- Феноменологическая установка на синтез рационального и иррационального в философии абсурда Ж.-П. Сартра и А. Камю
- Диалектика логического и мистического в интуитивистском иррационализме
- Философский статус «поэтического мышления» как сферы конституирования иррационального
Основания типологии современного философского иррационализма
Как реакция на господство дионисийского культа возник гомеровский эпос. Здесь хотя и присутствуют мифы, но они являются таковыми только по форме, содержание же их можно определить как лотосовое. У Гомера мы видим постоянную победу олимпийско- светлой стороны над демонической, иррационально- темной стороной героя. Гомеровский герой отождествляет свое «я» с рационально- осмысленным поведением. Если это поведение и обусловлено какими- либо иррациональными моментами, то они явно незначительны и не оказывают существенного влияния. Поэтому именно с Гомера начинается эпоха греческого рационализма. Гомер систематизировал олимпийскую религию, определив за богами конкретные функции и сферы их влияния. Таким образом, «Илиаду» и «Одиссею» можно назвать своеобразными священными книгами олимпийской религии. Мир Олимпийских богов, каким мы его знаем по поэмам Гомера, является следствием процесса упорядочивания и гармонизации прежде буйных, хаотических, жестоких божественных сил. Возникает, в частности, представление о боге, который печется о судьбе человечества, что, несомненно, является следствием наступившего к тому времени в Греции патриархата, породившего представление о разумности и гармоничности мира богов. В свете сказанного кажется неслучайным то, что Гомера считают одним из важнейших предфилософов, чье творчество стимулировала появление философии, которая реализует «принцип логоса», в терминологии К. Хюбнера, состоящий, по мнению немецкого исследователя, в поиске «для всего доказательства, обоснования, разумного объяснения»1.
Другая мифологическая система, отличная от гомеровской, была построена орфиками. Последние считали себя последователями легендарного Орфея, который, как известно, был первосвященником и основателем культа Диониса. Именно на основе мифа о Дионисе, который повествует о растерзании этого бога титанами и титанидами и воскрешении его в каждом человеке, орфики построили свои мифологические системы. Все это, казалось бы, дает основание предположить, что орфизм был попыткой вернуться к дионисий-ским культам. Однако уже при поверхностном анализе орфизма становится очевидным, что этот культ - отцовский, в отличие от материнского культа Диониса. В качестве онтологического первоначала в орфизме выступает Зевс, отождествляемый с Дионисом, который оказывается также и завершением бытия («Зевс первый и Зевс же последний). Поскольку Бог был растерзан для того, чтобы возникли мироздание и человек, то для восстановления справедливости все должно погибнуть и вернуться к первоначалу. В целом же в орфизме заметна тенденция к рациональности, сознательности, осмысленности, что выражено в положении о принципиальной познаваемости мира, в основе которого лежит разумное, а потому умопостигаемое. Учитывая также и то, что в орфизме существовали четкие моральные нормы и предписания, а основной акцент ставился на созидании чего- то позитивного, невозможно не сделать вывод о принципиальном различии, и даже о противоположности орфизма дионисизму. Исходным пунктом данного различия, на наш взгляд, является то, что дионисизм, будучи материнским культом, являлся иррациональным, а орфизм, исходя из мужской, отцовской природы первоначала, был рациональным явлением. Орфическое учение, также как и мифология Гомера, стало одним из главнейших источников, где без труда обнаруживаются философские зачатки. Это и различие двух человеческих сущностей: дионисийской (божественной) и титанической (низменной), и учение о теле как темнице души, и учение о метемпсихозе, и другие.
Открыв логос, который побеждает миф и вытесняет его с господствующих позиций, древнегреческая мысль продолжает двигаться в этом направлении, следуя традиции, идущей от Гомера. У Гераклита впервые появляется категория логоса, и она становится центральным понятием в философии эфесского мыслителя. Гераклит наполняет логос сравнительно новой характеристикой, а именно бытийственной, онтологической. Логос у Гераклита - это разумная необходимость, закономерность, управляющая миром. Интересно заметить, что ранее, в мифологической традиции (даже у Гомера) в качестве такой необходимости выступала судьба, которая была не разумной, а слепой. У Гераклита логос фактически отождествляется с судьбой, и это понятие наполняется новым, немифологическим содержанием. Можно сказать, что гераклитовский логос вобрал в себя различные мифологические характеристики, предельно рационализировав их. Не случайно Платон говорит о Гераклите: «Я как будто вижу Гераклита, произносящего некоторые древние изречения мудрецов из времен Кроноса и Реи, приводимые также и Гомером» .
В дальнейшем традиция возвышения логоса над мифом нашла выражение в философских концепциях большинства древнегреческих философов. Рациональные доказательства становятся единственными средствами обоснования, а мифы полностью вытесняются ими. Не вдаваясь подробно в анализ тех или иных философских концепций, можно привести ряд примеров дальнейшей рационализации древнегреческой философии. Это и элейская школа во главе с Парменидом с его учением об умопостигаемом бытии и основополагающем тезисе о тождестве бытия и мышления (что спустя 2300 лет Г.В.Ф. Гегель выразил в словах: «все разумное действительно, все действи тельное разумно»). Это Анаксагор с учением об Уме как первопричине и перводвигателе всего сущего. И, наконец, это софисты, знаменующие собой период греческого Просвещения. Но здесь, как правильно показывает известный антиковед Е.Р. Доддс, происходит разрыв с народным сознанием, которое, в отличие от сознания просвещенного, философского, еще не окончательно порвало с дионисизмом. Абсолютный рационализм софистов оказался недоступным для демоса, ибо народ, рядовой грек, привык смотреть на мир и собственную душу как на загадку, тайну, «которая была в нем и скорее владела им, чем он владел ею»1. В защиту своей мысли о разрыве и несовместимости софистической традиции и народного сознания Е.Р. Доддс приводит убедительные факты: пробудившееся влечение к неофициальным мистическим культам, оживление доолимпийских (прадионисийских) верований, проникновение в эллинскую культуры малоазийский и фригийских оргиаи-стических культов. Разрыв философии с народным сознанием ставит философию перед дилеммой: или усугубить этот разрыв, или же отказаться от абсолютного рационализма, нашедшего свое выражение в философии софистов, и вступить на путь диалога с иррациональным. Вероятно, из всех греческих философов лишь один
Феноменологическая установка на синтез рационального и иррационального в философии абсурда Ж.-П. Сартра и А. Камю
Понятия рационального и иррационального являются одними из наиболее трудноопределимых понятий. Это, вероятно, связано с тем фактом, что в разные периоды развития философской мысли эти понятия приобретали различные смысловые оттенки. Смысловая наполненность понятий рационального и иррационального напрямую связана с проблемой их соотношения. «Рациональное и иррациональное в некотором смысле не отличаются от других соотносительных понятий, которые, будучи взятыми одно в отрыве от другого, не выражают никакого реального содержания»1. Доказательством этому служит их определяемость друг через друга, т. е. если мы определяем «рациональное» как «нечто», то «иррациональное», в этом случае, будет определяться как противоположность «нечто», или «нечто» со знаком «минус». Таким образом, понятие «иррационального» оформляется, исходя из своей отрицательной позиции по отношению к рациональному. Выше указывалось, что иррационалистическая тенденция приходит как соответствующий ответ на абсолютизацию рационального, точно также, как рационализм становится результатом реакции на повысившуюся чувствительность к иррациональному. Также как классический рационализм стал реакцией на сильную ирра-ционалистическую тенденцию христианского средневековья, современный иррационализм возник как реакция на односторонний рационализм Нового времени. Примечательно, что философский иррационализм в современности складывается как мощное течение, имеющее свою собственную тенденцию развития и структуру (ранее речь могла идти только о локальных проявлениях иррационального). Данное обстоятельство заставляет поставить вопрос о причинах появления иррационализма в современности. В советское время эта проблема, имеющая принципиальное значение, решалась только в социально- экономическом аспекте: консолидация иррационального в нечто философски самостоятельное на Западе происходит тогда, когда «восходящие» тенденции социального развития капитализма сменяются «нисходящими», т. е., другими словами, когда наружу выходят противоречия, появившиеся внутри самого капиталистического общества1. Для более полного исследования данной проблемы необходимо обратиться к другим ее аспектам.
Надо отметить, что говорить об общих причинах появления иррационализма в целом представляется несколько поверхностным, ибо каждое направление иррационализма имеет свои собственные предпосылки. Так, например, творчество Ф. Ницше имело своим истоком мироощущение, характерное для XV века, где все иррациональное воспринималось как проявление космического мрака, неизвестных и чуждых человеку сил природы (то, что М. Фуко называет трагическим опытом безумия ). Психоанализ 3. Фрейда (который, правда, принадлежит еще рационалистической традиции, но, тем не менее, выходит за пределы классической рациональности, исследуя явно иррациональный феномен человеческой психики - бессознательное), по всей вероятности, возник на основе признания главной дилеммы Нового времени: либо любовь разумная, либо любовь неразумная, из чего следует, что источником всякого безумия служит какое- либо нарушение в сфере сексуально-сти . Но есть нечто общее, что роднит все направления современного иррационализма - это укорененность в классической эпохе. Для иллюстрации этой ситуации очень хорошо подходит терминология 3. Фрейда. Начиная с эпохи Нового времени все иррациональное подавлялось, «вытеснялось в подсознательное». Иррациональное, по выражению М. Фуко, переживало в этот период свое «великое заточение»4. Но это явление имело и другую сторону: «заточение» иррационального давало ему возможность обособиться от рационального, провести четкую границу между этими двумя сферами. Если в эпохи Средневековья и Возрождения рациональное и иррациональное были слиты воедино и не воспринимались в отрыве друг от друга (акцент ставился на их диалектической взаимосвязанности), то в Новое время, в период изоляции, рациональное и иррациональное, наконец, обретают собственные владения. И в силу того, что иррациональное продолжительный период времени игнорировалось, в современности оно вырывается на поверхность, охватывая все сферы духовной жизни человека. Подавление, доведенное до крайности, неизбежно вызывает взрыв; его- то мы и наблюдаем со времен С. Киркегора, А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. М. Фуко, исследуя феномен безумия в классическую эпоху, так описывает эту ситуацию: «Чем дальше от него (безумия -А.Л.) отстраняются, тем определеннее становится его место; всеми своими обличиями и отличительными чертами оно обязано не приближающемуся к нему внимательному, пытливому взгляду, но выделяющему его безразличию. Причем максимальная дистанция по отношению к нему устанавливается как раз накануне его «освобождения»...»1. «Взрыв» или «всплеск» иррационального остро чувствовал К.Г. Юнг, который назвал это явление «открытием во-рот преисподней» . При этом совершенно естественно начинать отсчет постклассической эпохи именно со времени смерти Г.В.Ф. Гегеля (1831 год). Именно гегелевская система воплощает собой апогей рационализма, тот предел, достигнув которого, философия уже не могла двигаться далее в этом направлении. Рационализм в философии Гегеля достиг своего логического завершения, его панлогизм стал абсолютной точкой развития классической философии. Это подтверждается тем фактом, что «там, где буржуазная философия еще вообще не отреклась от рационалистической традиции, ее рационализм остался старым, «классическим», лишь разбавленным водой чисто вербальных ревизий»3. Таким образом, там, где современная философия не покинула рационалистическую линию, можно говорить, что она осталась в рамках классики, так как не произошло изменения именно в системе мыслительных рациональных навыков.
Существует и другая причина появления иррационализма в современности. Она также лежит на поверхности, и также связана с предшествующей ей традицией. Основным пафосом эпохи Нового времени является абсолютизация роли науки. Последняя понимается как единственная область знания, способная непротиворечиво и достоверно объяснить явления этого мира. Но наука работает только с опытными данными, и, следовательно, не проникает во внеэмпирические, метафизические области. Нужда в последних постепенно уменьшается, так как пропорционально увеличиваются знания, накопленные в эмпирических данных. В XIX веке пиетет перед наукой достиг апогея. Физика казалась полностью построенной и обладающей безграничными возможностями для познания мира, дарвинизм дал научное объяснение эволюции организмов и происхождению человека. Но в начале XX века оказалось, что наука, по выражению М. Хайдеггера, не мыслит. «Так, например, физика функционирует в пространстве, времени и движении. Но что такое движение, пространство, что представляет собой время, этого наука как наука решить не может. Таким образом, наука не мыслит; ее методы не дают возможности мыслить в указанном смысле слова»1. Рациональность науки оказывается ограниченной, причем не в силу недостаточного уровня ее развития, а в силу самой природы научного подхода к действительности. Наука не постигает, и в принципе не может постигнуть того, что открывается религии и искусству. Наука, которая на протяжении почти трех веков была оплотом рациональности (более того, научность и рациональность были синонимами), оказывается построенной на основаниях, которые научно не могут быть доказаны и не выводимы из эмпирических данных, т. е. сам фундамент науки научным не является. В этом свете совершенно естественной кажется антисциентическая установка современности, которой характеризуется иррационалистическая философия нашего времени.
Диалектика логического и мистического в интуитивистском иррационализме
Таким образом, мы сталкиваемся с двумя противоречивыми описаниями действительности, являющимися следствиями деятельности различных познавательных способностей человека: интеллекта и интуиции. Первое описание свойственно для механистического, второе - для органистического мировоззрения. Понятно, что при таком противопоставлении двух мировоззрений не избежать противопоставления науки, которая зиждется на механицизме, и философии, которая, по мнению А..Бергсона, должна ориентироваться на органицизм. Характеризуя чувство симпатии, свойственное инстинкту и интуиции, французский мыслитель формулирует следующую антиномию: «... или философия не имеет к этому отношения, или ее роль начинается там, где кончается роль науки»1. Если средством познания действительности для науки является интеллект, то основным средством такого познания для философии должна стать интуиция. Бергсон признает, что философия никогда не сможет познать свой предмет так, как наука познает свой, ибо интеллект «остается лучезарным ядром, вокруг которого инстинкт, даже очищенный и расширенный до состояния интуиции, образует только неяс-ную туманность» . Необходимо развивать способность интуиции, что невозможно, по мнению французского мыслителя, без помощи интеллекта, который один только и способен дать импульс для ее развития. Интеллект, осуществляющий свою деятельность сознательно, должен научить сознательности интуицию, в этом смысле «она использует механизм самого интеллекта. .. »3. Рассудок и интуиция, таким образом, одинаково необходимы для познания: рассудок нас толкает на дальнейшие исследования, а интуиция обогащает нас новыми знаниями. В этих положениях мы видим стремление Бергсона диалектически соединить интеллект и интуицию. То же стремление прослеживается и в попытках французского мыслителя сочетания науки и философии в единое целое, что, по его словам, позволит приблизиться к идеалу истинного знания. Эти положения Бергсона несколько смягчают бергсоновский алогизм. «Алогизм Бергсона - более тенденция, чем категорическая догма. Могучее обаяние наук, авторитет классических традиций философии сдерживали алогические тенденции Бергсона, не дали им развернуться в откровенное и резкое восстание против интеллекта» . Конечно, А. Бергсон как философ XX века был далек от воинствующего иррационализма XIX века, представители которого (С. Киркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) в прямом смысле объявили войну разуму, интеллекту (вспомним слова С. Киркегора из «Заключительного ненаучного постскриптума»: «Именно интеллект, и ничто другое, помимо интеллекта, есть то, что следует опровергнуть» ). Данное обстоятельство дает повод ряду исследователей творчества Бергсона объявить его позицию далекой от антирационализма. «Взаимодействие интеллекта и шггуиции, как нам представляется, отличает концепцию А. Бергсона от всего интуитивизма. В ней не противопоставляется интуиция всему человеческому интеллекту, а выявляется сфера ее дея-тельности» . Из предшествующего анализа учения французского мыслителя об интуиции видно, что целью Бергсона является как раз резкое противопоставление интуиции интеллекту, прослеживается стремление развести их по разным полюсам, ибо они являются противоположными тенденциями в эволюции животного мира. Хотя эти тенденции и происходят из единой, что объясняет сочетание различных признаков в каждом конкретном существе, но сами эти признаки не столько дополняют друг друга, сколько взаимопротивопоставляются. То же замечание касается и объединения философии и науки: декларируя возможность и даже необходимость подобного объединения, Бергсон забывает о том, что их методы противоположны, а также различны и сами объекты познания: у философии это жизнь, характеризуемая длительностью и изменением, а у науки - мертвая неподвижная материя. Поэтому уместно согласиться с Н.О. Лосским, который считает, что «идеал объединения выставлен им (А. Бергсоном - А.Л.) только на словах, на деле же своею гносеологиею он отрезывает пути для ее осуществления, так как отрицает объективное значение понятий рассудка, выражающих сферу идеально го сверхвременного бытия» . Такого бытия, по Бергсону, просто не существует, оно сконструировано самим интеллектом, который не в состоянии мыслить иначе, чем через идеальные формы. Истинное же бытие, единственно реально существующее, являет собой непрерывный поток изменений, имеющих творческий характер, состоящий в создании новых, неповторяющихся событий. Следовательно, интуитивизм Бергсона можно отнести к гносеологическому дуализму, ибо он характеризуется резкой и непреодолимой гранью, разделяющей интеллект и интуицию, идеальное и реальное, положительные науки и философию, рациональное и иррациональное содержание знания.
Завершая краткий анализ философии А. Бергсона, необходимо еще раз вернуться к чувственному характеру интуиции в его учении. Дело в том, что французский мыслитель говорит также и о суперинтеллектуальной интуиции, которую он отличает от интуиции чувственной. Бергсона по этому поводу пишет: «... должна существовать интуиция психического и вообще жизненного, которую интеллект, без сомнения, переложит и переведет, но которая, тем не менее, будет переходит за рамки интеллекта. Другими словами, должна существовать интуиция суперинтеллектуальная. Если такая интуиция имеет место, то возможно не только познание внешнее, познание яв-лений, но возможно также для духа овладение самим собой» . Следовательно, для познания внешней действительности, внешних явлений служит чувственная интуиция, а для познания психической внутренней жизни служит интуиция суперинтеллектуальная.
Философский статус «поэтического мышления» как сферы конституирования иррационального
«Оно», в терминологии 3. Фрейда) подавляется, уходит в глубинные недра психики. Не получая места в «Я», сознании, из- за запретов культуры, воспитания, вытесненное либидо становится тем означаемым, которое, используя обходной путь, ищет выражение в слове, нечаянно протискивается на язык в оговорках, остротах, и, наконец, получает место в символическом. Таким образом, человек имеет дело не с самим реальным либидо, а с его превращенными формами, и вместо обмена сущностями (удовлетворением желания) человек вынужден вращаться в кругу превращенных форм желания - слов, символов, жестов, ритуалов. В этом состоит, по мнению Фрейда, главная причина неудовлетворенности культурой. В реальном, природном мире пульсирует ничем не ограниченное желание, рядом с удовольствием там находится смерть. С одной стороны, мы лишены возможности получения полного удовольствия (символическое задерживает и отфильтровывает энергию реального), но с другой стороны, мы предохранены от травмирующего воздействия природного, ибо на том месте желания, где мы могли бы быть «убиты», возникает символ, слово, и мы остаемся живы.
Итак, психоанализ дает нам представление о двух порядках человеческой психики: реальное - то самое исходное означаемое, которое не может пробиться в сознание, и символическое - означающее, которое отсылает к означаемому (здесь мы используем терминологию неофрейдизма, в частности, лакановский вариант замены фрейдовских сфер «Оно» и «Свех- Я» (Super- Ego) порядками реального и символического). Само означаемое недостижимо, оно скрыто в глубинных слоях человеческой психики. Человек вынужден вращаться в замкнутом круге, ибо означающее в действительности отсылает не к означаемому, а к другому означающему, это - к следующему и т. д. Мы можем бесконечно приближаться к означаемому по этой цепочке означающих, но, так как означаемое никогда не может получить полного означивания в означающем, мы никогда не сможем уловить это означаемое.
Однако сказанное не дает оснований полностью отделять символическое от реального, и, тем более, говорить о независимости их друг от друга. Сам механизм действия реального состоит в отсылке к другому значению, здесь работает принцип отклонения или отскока, следовательно, реальное невозможно определить без отнесения к другому, т. е. символическому. Также и символическое существует только в своем отношении к реальному, ибо порождение самой цепочки означающих возможно только при условии существования некоего горизонта, конечного, хотя и неуловимого, звена этой цепи, означаемого. Конституирование различных, хотя и взаимосвязанных слоев человеческой психики, конфликтного характера отношений между «Оно» и «Сверх- Я», ареной борьбы которых выступает сфера сознания «Я», преодолевает ключевой тезис классической философии о целостности личности. Эта идея 3. Фрейда об иллюзорности представления о едином «Я» стала отправной точкой для развития идей постструктурализма о де- центрированном «Я» (Ж. Деррида) и создании Ф. Гваттари и Ж. Делезом образа «ризомы» (корневища, подземного стебля), ставшего, по мнению И. П. Ильина, «эмблематической фигурой постмодерна»1. Но если образ ризомы демонстрирует отсутствие единой структуры человеческой психики, где нет единого центра, то фрейдизм и неофрейдизм рассматривают отношение реального и символического как устойчивую, хотя и гибкую, подвижную структуру. Данная структура не допускает противоречия между реальным и символическим, ибо противопоставление одного другому, доминирование одной из систем рассматривается в психоанализе как болезнь. Если доминирует система символического, то возникает избыток означающих, что вызывает явления галлюцинирования, бреда, безумия; если же предпочтение отдается системе реального, то возникает недостаток означающих, что является причиной различного рода страхов, фобий. Психоанализ настаивает на интеграции этих двух сфер, ставя целью излечения достижение соответствия между ними. В процессе психоаналитического сеанса, в диалоге между аналитиком и пациентом про Ильин И. П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996. С. 99. исходит обмен символами, словами. В соответствии с учением психоанализа в слове часто говорит бессознательное, которое может проявляться в двух формах: метонимии (нечто подавлено, вытеснено, но не полностью, а частично) и метафоры (нечто подавлено полностью и прорывается на поверхность сознания, используя язык образов). Аналитик, заставляя пациента вспоминать, используя при этом метод свободных ассоциаций, освобождает язык от давления сознания и, тем самым, позволяет бессознательному вырваться на поверхность. Когда пациент проговаривает свое воспоминание, он вменяет себе сознание собственного бессознательного. Важно отметить, что акт воспоминания происходит в присутствии Другого (в случае психоаналитического сеанса. Другой - врач- аналитик). Именно присутствие Другого делает речь принципиально обратимой, в речи происходит обращение высказывания с того, кто говорил, на того, о ком говорилось. Этот тезис является ключевым для Жака Лакана, который создает свой знаменитый образ зеркала, отражающий, по его мнению, наиболее отчетливо процесс речи и роль Другого в нем. Желание человека, как правило, направлено вовне, на других. «Первоначально, до подключения языковой деятельности, желание существует в плоскости воображаемого соотношения зрительной стадии — проецированным и отчужденным в другом»1. К примеру, младенец, выражая свое желание в крике, обращает его к другому, ибо только в этом случае возможно научиться распознавать собственное желание. Но необходим ответный акт: желание должно быть «отражено», возвращено обратно. Данное явление возможно только в случае использования речи, языка. «Но, слава Богу, субъект живет в мире символов, т. е. в мире говорящих людей. Вот почему его желание может быть опосредовано и признано. Иначе вся человеческая деятельность исчерпывалась бы беспредельным стремлением к уничтожению другого как такового»2. И действительно, речь может существовать только в случае признания другого, в противном случае, если она необратима, она становится невозможной, что со всей очевидностью продемонстрировал
Ж. Батай, который оценил намерение маркиза де Сада дать насилию право на речь как гигантскую неудачу, ибо насилие не признает другого в качестве равного. Насилие всегда безмолвно, т. е. совершается вне языка (к рассмотрению истолкования образа Сада Батаем мы еще вернемся). Поэтому Лакан прав в том, что в отсутствии обратимой речи человек возвращается в первобытное состояние, где руководствуется принципом «человек человеку волк», состояние, которое Т. Гоббс назвал состоянием войны всех против всех, ибо человек соперничает с другими в отношении объекта желания. Следовательно, символическое для Лакана является тем порядком, который опосредует отношение я и ты, где желание постоянно возвращается в систему языка (Лакан сравнивает речь с мельничным колесом, которое непрерывно прокручивает желание). Символическое выстраивает отношение я и ты в отношение взаимного признания, в порядок закона.