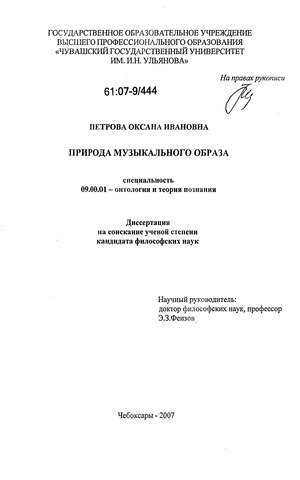Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Музыкальное произведение как объект философского анализа
1. Различные подходы к музыке в истории философско-эстетической мысли 10
2. Специфические особенности онтологии музыкального произведения 30
3. Репрезентативные возможности музыкального произведения 49
Глава II. Структура и генезис музыкального образа
1. Временная структура музыкального произведения 65
2. Музыкальный образ и его экзистенциальное наполнение 80
3. Музыкальный язык и герменевтика музыкального образа 95
Заключение 116
- Различные подходы к музыке в истории философско-эстетической мысли
- Репрезентативные возможности музыкального произведения
- Временная структура музыкального произведения
- Музыкальный язык и герменевтика музыкального образа
Введение к работе
Постановка проблемы и её актуальность. Проблема природы музыкального образа является одной из важных проблем не только современного музыковедения, но и философии музыки. На первый взгляд, музыка не является универсальным объектом философского познания. Действительно, как правило, философы, ставившие проблему природы музыки и предлагавшие её решение, рассматривали последнюю лишь как нечто вторичное и подчинённое другим философским проблемам и сущностям. Так, для Гегеля и Платона, например, музыка была всего лишь промежуточным звеном между царством понятий или идей (истинной реальностью) и миром видимостей (чувственной, неподлинной реальностью). Такой традиционный для европейской мысли подход к музыке как к чему-то вторичному и второстепенному объясняется доминированием в ней рационалистической традиции. Поэтому у большинства философов музыка фигурировала в их философских системах лишь постольку, поскольку это было необходимо для полноты и законченности этих систем. Даже у таких, казалось бы, приверженцев музыкальной темы в философии, как пифагорейцы, музыка выступала всего лишь как производное чисто рациональных сущностей - чисел. Не менее редукционистскую позицию занимал по тому же вопросу, также много сделавший для исследования математического аспекта музыки, Лейбниц. Несмотря на это, такие представители философского рационализма, как Пифагор, Платон, Аристотель, Августин, Гегель и некоторые др. оставили массу интересных наблюдений о природе музыки, вообще, и музыкального образа, в частности, а также глубокие рефлексии в связи с данными проблемами. Однако с приходом на философскую сцену таких мыслителей, как Шопенгауэр, Ницше и Бергсон, противопоставивших традиционному рационализму свою философию жизни, стало возможным говорить о философии музыки в собственном смысле слова.
Актуальность проблемы музыкального образа для современной философии обусловлена несколькими причинами, которые можно в целом разделить на две группы. Во-первых, речь идёт об определённом кризисе в сфере современной
музыки, вызванного не столько отсутствием новых музыкальных идей, сколько всё более распространяющимся опошлением музыкального пространства, его забиванием различного рода «звуковым мусором», от так называемой «попсы» до фрагментов серьёзной музыки, используемым в каком-то несоответствующем им культурном контексте. В настоящее время происходит то, что Теодор Адорно называет «фетишизацией» музыки, которая, по тем или иным причинам, утрачивает своё «былое великолепие» и низводится до уровня того, что Хайдеггер называл «подручностью». Современная цивилизация фактически отменяет серьёзную музыку, определив её как «классическую», т.е. уже сданную в архив. Получается, что современная музыка может быть только развлекательной и, опять же, «подручной». Этот процесс тотального опошления в сфере музыки можно рассматривать как часть общей тенденции к антиинтеллектуализму, характеризующему современную культурную ситуацию, в которой, по сравнению с другими эпохами, значительно ослабла роль интеллектуальной элиты, что, очевидно, явилось результатом тотального утверждения демократической идеологии. Победа такого антиинтеллектуализма в музыке будет иметь плачевные последствия для всего человечества, поскольку, как показано в данной работе, именно музыка позволяет проникать и конституировать те экзистенциальные сферы реальности, которые находятся «вне компетенции» рационального познания. Фактически именно серьёзная (классическая) европейская музыка создала тот тип психического переживания и самопереживания, которые характеризуют современного европейца. Поэтому можно представить, что произойдёт с этим европейцем, если он уже не сможет или не захочет адекватно воспринимать серьёзную музыку. Все эти размышления наводят на мысль о том, насколько тесно связаны между собой музыка и человеческая жизнь, музыка и экзистенциальное измерение бытия. Последнее, безусловно, зависит от восприятия музыки, но и сама музыка, с присущим ей образным строем, зависит от этого экзистенциального измерения. И в данной работе будет показано, как тесно переплетены между собой музыкальный образ и природа Dasein (человеческая жизнь).
Это подводит ко второй причине актуальности проблем музыкального образа. Она связана с распространением в современном гуманитарном познании методов герменевтики, сменяющей ныне столь долго удерживающий свои позиции в этой области структурализм. Проблема музыкального образа и природы музыки обострилась сегодня именно в связи с вхождением в эту область герменевтических принципов познания. В самом деле, чтобы понять, возможна ли музыкальная герменевтика, а если да, то какую форму она должна принять, необходимо раскрыть специфику музыкального образа и его возможностей вступить в пространство интерпретации. Именно на эти вопросы и попытается предложить свой ответ данная работа.
Степень научной разработанности проблемы. Вопрос о природе музыкального образа начал волновать людей с того времени, как они стали задумываться о том, что отличает музыку от простого шума или звуков, издаваемых различными живыми существами, в том числе, людьми. Само понятие образ в данной работе её автор понимает в смысле как репрезентации, так и презентации чего-либо. Отличие между двумя этими терминами в том, что репрезентации представляет нечто отсутствующее в данном месте и в данный момент. Так, портрет репрезентирует изображённого на нём человека. В то время как презентация представляет саму себя: примером презентации может служить показ мод. Это разделение крайне важно для понимания различных концепций музыки, рефлексия над которыми легла в основу данного дискурса. Эти концепции так или иначе объясняли необычные способности музыки (например, её способность проникать нам глубоко в душу, о которой писал Платон) репрезентативным или презентативным потенциалом музыкального произведения. Поэтому вопрос о природе музыки (её отличии от простого шума) и вопрос о музыкальном образе - это, по сути дело, две формулировки одного и того же вопроса. Как же объяснялось это отличие в истории философии? Первую дошедшую до нас концепцию, объясняющую природу музыки, в рамках европейской традиции создали пифагорейцы. Они впервые открыли связь между физическими характеристиками струн и других используемых для извлечения звуков предметов и высотой этих звуков. На основании этого пифагорейцы разработали теорию о том, что музыка способна репрезентировать мировую гармонию, выражающуюся в числах. Музыка для пифагорейцев, таким образом, была чувственной манифестацией числа. Сходную позицию занимали Платон и Лейбниц, который говорил, что музыка - это неосознанное занятие математикой. Такой подход следует назвать редукционистским, поскольку он не позволяет усмотреть саму специфику музыкального образа, которая не может быть сведена к количеству. Именно на это указывали представители философии жизни, которые также видели в музыке некую репрезентативную деятельность, однако, в отличие от рационалистов, рассматривали её в качестве высшей формы познания, позволяющей проникнуть за покрывало Майи, за пределы иллюзорного мира видимостей и репрезентаций, к самой Мировой Воле или Длительности, составляющей сердцевину реальности. Для всех главных представителей философии жизни (Шопенгауэра, Ницше и Бергсона), несмотря на все различия между их учениями, реальность представляет собой некий процесс, а не неподвижность, некое становление, а не бытие, и потому из всех искусств только музыка (кинематограф тогда еще не существовал) способна донести до нас суть реальности. Этот виталистский демарш оставил, однако, неразрешённым ряд проблем, которые пыталась затем разрешить феноменология. В частности, она указала на корреляцию между ноэмой музыки (звучанием) и её ноэзой (нотой), которые оказывались в неразрывной интенциональной связи. Тем самым произошёл синтез двух подходов к музыке: пифагорейского и виталистского. В данной диссертации мы шли по пути, проложенном в рамках виталистского и феноменологического подходов. Наибольшее влияние на автора оказали концепции музыки Шопенгауэра, Ницше, Бергсона, Романа Ингардена и некоторых др. В то же время большое значение имели работы, написанные в русле музыкальной герменевтики и герменевтического музыковедения. Существенными оказались здесь работы Карла Далхауса, Люсьена Брауна, Бернарда Веччионе, Матье Гийо, Пьера Жиро и др. На авторское понимание проблемы музыкального времени наибольшее влияние оказали концепции и идеи П. Булеза, К.Х. Штокхаузена, Л. Ноно, Я. Ксенакиса, Д. Лигети, Б.Циммермана.
Объект исследования: музыкальное произведение - как феномен действительности.
Предмет исследования: природа музыкального образа.
Цель: выявить специфические особенности музыкального образа, позволяющие рассматривать музыку как особый вид искусства, принципиально отличный от всех остальных видов искусства.
Задачи:
1. Эксплицировать репрезентативные возможности музыкального произведения.
2. Показать связь музыки и экзистенциального измерения человеческого бытия.
3. Выявить возможные герменевтические подходы к музыкальному произведению и показать их конститутивную роль для формирования музыкального образа.
Методологическая и теоретическая основа исследования. В основу исследования были положены феноменологический, герменевтический и интуитивистский методы. Частично были использованы также метод негативной диалектики Адорно и семиотический метод.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
1. Эксплицировано понимание музыки как формы неконцептуального
познания реальности.
2. Эксплицирована роль музыки в становлении пространства отношений между Dasein (человеческая экзистенция) и Lebenswelt (мир жизни) и в конституировании бытия-понимания.
3. Выявлены основные особенности музыкального образа в контексте феноменологического и герменевтического его истолкования. Положения, выносимые на защиту:
1. Репрезентативный потенциал музыкального произведения связан с его способностью представлять не внешние предметы и явления, а целостную реальность; возможность музыкальной презентации основана на интуитивном (неконцептуальном) усмотрении сущности и обобщении.
2. Связь между музыкой и экзистенциальным измерением обусловлена прежде всего способностью музыки направлять, организовывать, рационализировать и делать умопостигаемой человеческую волю.
3. Музыкальный образ имеет не субстанциональную, а событийную природу,
не будучи чем-то предданным, он оказывается релятивным интерпретации.
Теоретическая и практическая значимость работы.
В данной работе выявляются основные особенности музыкального образного строя, отличающие его от образных строев других видов искусства, прослежена связь между музыкой и становлением человеческой экзистенции, показаны когнитивные и репрезентативные возможности музыкального произведения, отношения между временной структурой музыкального произведения и его структурными элементами, проанализированы некоторые музыкальные тенденции современности. Проделанный в работе анализ позволяет проследить возможный путь дальнейшего развития музыкальной герменевтики и герменевтического музыковедения. Показывается, что именно музыкальный опыт лежит в основе и является незаменимым при формировании определённого аспекта самосознания и осознания своих внутренних переживаний. Показана также роль музыки в установлении экзистенциальных отношений человека с целостной реальностью. В ходе подробного анализа выявлена двойственная, чувственно-интеллектуальная природа музыкального времени, а также его роль в становлении музыкального образа. Практическая значимость работы связана с возможностью использования её положений при подготовке и проведении курсов по теории музыки и музыкальной герменевтике, а также в ходе конкретной практики герменевтического и аналитического истолкования музыкальных произведений.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографического списка использованной литературы. Объем диссертации 131 страница машинописного текста, библиографический список изложен на 12 страницах машинописного текста и включает в себя 160 наименований.
Апробация диссертации. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры философии и методологии науки Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в научных статьях автора, его учебно-методических рекомендациях и выступлениях на межвузовских научно-практических конференциях.
Различные подходы к музыке в истории философско-эстетической мысли
Включённая в комплекс человеческой культуры и пронизывающая все её сферы, музыка во многих смыслах является историческим феноменом. Её восприятие и её смысл не существуют в качестве чего-то абсолютно стабильного и неизменного, но, наоборот, претерпевают различные преобразования и метаморфозы. Одним из главных и определяющих факторов служит здесь метафизическая и эстетическая интерпретация смысла музыкального произведения. Поскольку музыка не является простой природной данностью, но предполагает переключение установки нашего восприятия (с естественной, на эстетическую, в узком смысле слова), то в восприятии музыки огромную роль играет имеющееся у нас предзнание, включающее музыкальное произведение в ряд особых объектов, именно объектов эстетического восприятия. Историческое развёртывание смысла музыки, однако, выходит за рамки такого, чисто эстетического, её восприятия, то есть восприятия в качестве произведения одной из разновидностей изящных искусств. Тем не менее речь всегда идёт о каком-то особом объекте восприятия, отличающемся от обычного естественного звучания, поскольку последнее не предполагает иной функции, кроме чисто ориентировочной.
Эта зависимость музыкального феномена от способа его интерпретации была вполне осознана лишь в XX веке. В начале этого столетия немецкие авторы Э.Вольф и К.Петерзен отметили тот факт, что древние греки своей интеллектуальной активностью в осмыслении «мусических искусств» эмансипировали музыку от ее архаической магически-ритуальной функции. (Чередниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. с.91) Другой известный музыковед Х.Х.Эггебрехт подчёркивает, что музыка неразрывно связана с теорией. По его мнению, «собственно музыка» начинается с появления науки о ней: «Тем совершенно новым, что внесла древнегреческая музыка, т.е. вообще музыка в собственном смысле слова, была теория». (Чередниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной эстетики, с. 134). Признание глобальной заслуги теории в становлении и бытии музыки в ее современном понимании привело к тому, что Эггебрехт ввел слово «теория» в свою основополагающую формулировку понятия «музыка» в немецком словаре «Riemann-Musiklexikon». Его многозначительная дефиниция такова: «Музыка на Западе - художественное оформление звучащего, которое имеет значение природного и эмоционального отклика мира и души в области слышания внепонятийной конкретности и которое в качестве искусства в данном значении обладает способностью быть отраженным и упорядоченным наукой (теорией), следовательно, содержать и в себе самом осмысленную материальность». (Riemann-Musiklexikon. Sachteil. s.601)
Однако проблема уяснения онтологии музыкального произведения останется непрояснённой, если мы ограничимся лишь этим узким пониманием музыки как результата её теоретического осмысления. Очевидно, что музыкальное произведение не может быть только следствием его интерпретации с точки зрения какой-то определённой рациональности и должно заключать в самом себе какой-то духовный потенциал. В этом смысле можно говорить об относительной автономии музыки от её культурной интерпретации. Тем не менее как таковая музыка всё же уже предполагает определённую интерпретацию, которая, однако, осуществляется на более глубоких уровнях человеческой психики, нежели различного рода культурные и языковые наслоения. Именно поэтому мы, в принципе, способны ощутить содержательную глубину и оригинальность музыкальных произведений, написанных в рамках совершенно чуждых нам культурных языков, хотя их восприятие, безусловно, может серьёзно затрудняться этой чуждостью. В любом случае адекватное восприятие того или иного музыкального текста предполагает определённое предзнание, во многом культурно и идеологически окрашенное. В архаических культурах в качестве такого определяющего восприятие музыки предзнания выступали различного рода мифологические и религиозные представления, а сама музыка фигурировала как некий «божественный феномен». Представление о сверхчеловеческом, божественном происхождении музыки было широко распространено в различных верованиях и религиях, у народов как западного, так и восточного полушария. В древнейшей индийской мифологии бытовало понятие о некоем «мистическом звуке», тождественном абсолютному духу - Брахману, из которого родился весь мир. Некоторые из племен американских индейцев считали источники пения сверхъестественными (в отличие от человеческой речи), ибо пение не было доступно животным.
В христианской музыкальной традиции подчеркивается, что музыка и пение дарованы высшими, ангельскими силами, что они боговдохновенны. В Ветхом Завете серафимы и херувимы окружают Господа, сидящего на высоком небесном престоле, и воспевают ему хвалу. В Новом Завете ангелы в Вифлееме поют славословие, когда родился Иисус Христос: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». «Обретенные свыше богодухновенные песнопения принадлежали не человеку, а высшей небесной иерархии, являлись музыкой «небесной», этим объясняется их анонимность. Задачей музыканта, равно как и иконописца, было не самовыражение, не воплощение индивидуального, личностного, а постижение и воспроизведение «небесных» песнопений, воссоздание божественного образа, передаваемого с помощью древних священных подлинников». (Вагнер К. Искусство Древней Руси. с. 177)
Именно божественное, ангельское пение стало прототипом пения церковного, храмового, получившего, в противоположность мирским песням, название «песнь новая». «Воспойте Господу новую песнь», «Пойте Господу песнь новую», - говорится в стихах псалмов. В результате такого поиска возвышенного, благочестивого, высоконравственного стиля храмового христианского пения появилась та серьезность и глубина музыкального выражения, которая сказалась на дальнейшей многовековой истории развития европейской музыки как музыки серьезной. Оттенок «божественности» сохранился в самой акустически чистой структуре певческого голоса, благодаря чему эпитеты «ангельский голос», «божественное звучание» стали привычными для характеристики музыки академической европейской традиции в самые разные периоды истории. «Adagio в сегодняшнем мотете поистине божественно и не менее божественно спето одной из монахинь под аккомпанемент органа, на котором играла другая», - так зафиксировал в своем дневнике впечатление от мотета Б.Мартини в 1770 году Ч.Берни. ( Верни Ч. Музыкальные путешествия, с.58-59) «Признайся, разве не целый океан она - музыка? А он, Бетховен, разве не властвует он над всем этим океаном? И разве не чувствуешь ты и здесь: начало божественное, дарующее нам дух творения, есть не что иное, как неукротимая страсть?», - такие строки читаем у Б. Брентано в книге 1840 года. (Цит. по: Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т.2. с.63)
Репрезентативные возможности музыкального произведения
Музыка по своей природе является звуковым, а не подражательным искусством. Поэтому музыкальный образный строй имеет принципиальные отличия от образного строя других видов искусств. Основу этого отличия составляет беспредметный, необъективированный характер рецепции музыкального произведения. Мы воспринимаем музыку особым образом, не как какой-то внешний нам предмет. Музыкальное произведение, разворачивающееся во времени, объединяет внутреннее и внешнее измерение реальности, поскольку слышимые нами звуки, будучи локализованы во внешнем пространстве, в то же время и прежде всего переживаются посредством «внутреннего созерцания», а значит имеют отношение к иному, необъективному, порядку реальности. Эти специфические особенности музыкального произведения заставляют поставить следующие вопросы: несёт ли в себе музыка какой-то репрезентативный смысл? Если ответ будет в каком-то смысле положительным, то что и как репрезентирует музыкальное произведение?
В каком смысле вообще можно говорить о музыкальном образе? Само понятие «образ» предполагает процесс изображения. Может ли музыка нести в себе изобразительный момент, если она не принадлежит к числу предметных искусств? Такой вопрос может показаться неуместным, если вспомнить, что и литературное произведение не существует в качестве объективной предметной реальности и тем не менее, несомненно, обладает изобразительными и репрезентативными способностями. Однако, в действительности, между литературным и музыкальным произведениями (несмотря на некоторые сходства) имеются принципиальные различия, делающие весьма проблематичным такого рода заключение по аналогии. Эти различия связаны прежде всего с тем, что в силу «отсутствия в музыкальном произведении языковых образований, в особенности, значений слов и предложений, в музыкальном произведении не могут выступить как его компоненты состояния интенциональных вещей, определяемые смыслом предложения, а также предметы (вещи, люди, события, процессы), которые данные состояния вещей изображают, respective обозначают названиями, используемыми в литературном произведении. В музыкальном произведении нет также места видам ... , актуализированным в литературном произведении посредством определённых, специально предназначенных для данной функции языковых факторов и являющихся одним из существенных компонентов произведения литературного искусства». (Ингарден. С.451)
Литература, таким образом, оказывается косвенно связанной с определённой предметной реальностью, с миром представления, который она репрезентирует присущими ей средствами. Музыка же, хотя и способна в некоторых, редких, случаях производить такую репрезентацию, по своей сути не связана с миром представления и репрезентирует (точнее, презентируетї) в первую очередь саму себя. В этом, по крайней мере, можно не сомневаться. Итак, в первую очередь и по преимуществу музыка предстаёт не как репрезентация, а как презентация, то есть заявляет о самой себе как о чём-то в своём роде; эта особенность музыки связана, очевидно, с тем, что она не изобразительна по своей природе (в чём сходна с архитектурой). В этом случае, однако, тоже можно говорить об особом типе репрезентации (а не только презентации), именно о репрезентации синтагматической (если можно воспользоваться здесь лингвистическим термином). Речь здесь идёт о репрезентативных отношениях внутри самого произведения, когда, например, одни звуки репрезентируют другие, то есть, попросту, отсылают к ним. Так, в начале 27 опуса Веберна серия высоких нот отсылает к серии низких. Понятно, что в данном случае совершенно нельзя говорить о каком-то выходе за пределы чисто музыкальной имманентности, осуществляемом в ходе процесса репрезентации.
Но не обладает ли музыка способностью и к другому типу репрезентации, представляя какую-то особую сторону реальности, ускользающую от других видов искусств? Именно этот вопрос поставил и дал на него положительный ответ Шопенгауэр. Можно сказать, что Шопенгауэр впервые увидел специфику музыки, возвышающую её не только над всеми остальными искусствами, но и над рациональным познанием. Хотя уже у пифагорейцев и Платона музыке отводилась весьма почётная роль репрезентировать космические гармонии (выражаемые числами) и выполнять важную воспитательную функцию, приучая ещё не сформировавшегося юношу к восприятию абстрактных отношений и понятий, т.е. подготавливая его к занятиям философией, музыка занимала здесь лишь промежуточную нишу между умопостигаемым миром вечной гармонии и порядка и чувственным миром хаоса. Музыка, по существу, выступала в качестве представителя умопостигаемой реальности в мире чувственных вещей и восприятий. Шопенгауэр впервые опрокинул эту иерархию умопостигаемого и чувственного, сделав волю, иррациональное и чувственное начало, более первичным (а следовательно, онтологичным), чем разум; а эмоцию и чувства более укоренёнными в реальности, чем понятия. В результате этого переворота музыка обрела своё положение в качестве высшего изящного искусства. Она, по Шопенгауэру, «стоит совершенно особняком от всех других». (Шопенгауэр. Собрание сочинений.Т.1.-С.254) Музыка не является просто бессознательным выражением числовых отношений (как понимал её, в частности, Лейбниц), она имеет более глубокую природу, чем числа, которые сами являются только знаками некой абсолютной реальности. Музыкальное воспроизведение мира «должно быть очень интимным, бесконечно истинным и верным, ибо всякий мгновенно понимает её; и уже тем обнаруживает она известную непогрешимость, что форма её может быть сведена к совершенно определённым правилам, выражаемым числами, и она не может уклониться от этих правил, не перестав совсем быть музыкой. И всё же точка соприкосновения между музыкой и миром, то отношение, в силу которого она является подражанием миру или воспроизведением его, таится очень глубоко. Музыкой занимались во все времена, но не отдавали себе в ней отчёта: довольствуясь её непосредственным пониманием, отказывались от абстрактного постижения этого непосредственного понимания». (Там же-С.254-255)
Временная структура музыкального произведения
Для выявления специфики музыкального образа важно рассмотреть его временную структуру. Как уже отмечалось, музыка как вид искусства тесно связана с интериорным (внутренним) измерением, в котором происходит развёртывание душевных переживаний, эмоций, мыслей и т.д. Поэтому музыка традиционно считается временным, а не пространственным (репрезентативным) искусством. На это же указывает временной и исчезающий характер музыки. Музыка живёт какое-то время и затем исчезает, скрываясь в небытии, для того, чтобы опять возникнуть в ходе нового своего исполнения. «Слушая музыку, мы воспринимаем некий летучий объект, который постоянно ускользает от нас и чьё бытие разрушается самим усилием, это бытие осуществляющим. Напротив, созерцание живописного произведения направлено на стабильный объект, чьё существование постоянно приглашает вернуться к нему и вновь смотреть на него... Как представляется, бытие музыкального объекта происходит из того опыта, в котором оно дано, тогда как наше опытное знание о произведении живописи порождается фреской или картиной, находящимися во внеположном нам пространстве и обладающими физическим существованием, не зависящим от нашего опыта». «Занимающий своё место в зале, где собираются и другие любители музыки, заранее знает, что произведения, которые он пришёл послушать, будут ещё раз рождаться, жить и умирать в его присутствии». (Жильсон Э. Живопись и реальность. - С. 26)
В этом смысле можно говорить о каком-то дискретном бытии музыкального произведения, которое в качестве актуально развёртывающейся реальности непосредственно пристёгнуто к живому настоящему, к тому моменту «теперь», в котором развёртывается бытие всякого живого существа. Хотя такой дискретный способ бытия характеризует лишь эмпирическую (а не интенциональную) составляющую музыкального произведения, всё же следует иметь в виду, что всякое музыкальное произведение оказывается в определённом смысле релятивно своему исполнению и, следовательно, не может полностью отстраниться от этой своей дискретности. В музыке принципиально именно то, что она развёртывается, а не существует как что-то симультанное, одновременное. И смысл этого развёртывания вовсе не может быть редуцирован к чему-то чисто логическому. Как отмечал А.Ф. Лосев, сущность музыки алогична, иррациональна. Такова сущность всякого становления, каковым по своей природе является и музыкальное произведение. Однако связь бытия музыкального произведения (в эмпирическом, а не интенциональном его наполнении) с живым настоящим свидетельствует ещё и о другой особенности этого произведения: оно никогда не предстаёт нам целиком и всегда актуально явлено лишь в качестве фрагмента самого себя. В этом смысле, музыкальное произведение вообще не может иметь своей материальной законченности (в отличие, например, от скульптурного или живописного произведения) и поэтому всегда нуждается в его интеллектуальном и духовном достраивании в сознании реципиента, причём это достраивание как будто компенсирует исчезающий характер музыкального произведения. Музыкальное произведение как бы перетекает из небытия через материальное звучание, производящее в нас определённые душевные состояния, в память о самом себе. И именно здесь (т.е. в пережитом прошлом) обретает своё истинное бытие в качестве произведения искусства. Музыка, таким образом, принципиально нуждается в некой духовной поддержке, не позволяющей ей просто перестать существовать, когда исполнение завершилось, поскольку в ней отсутствует собственный материальный субстрат, для которого была бы характерна какая-то устойчивость. Музыка не обладает никакой устойчивостью, она есть сам переход и репрезентация этого перехода. Тем самым музыка, однако, в большей степени способна отразить непосредственно переживаемую нами реальность, нежели предметные искусства. Тайна музыки - это во многом и тайна самой жизни, и того способа, которым эта жизнь существует, развёртывается. Иначе говоря, это также тайна самого времени. Не случайно, Святой Августин в IX книге «Исповеди», полностью посвященной времени и вечности, для иллюстрации парадоксального (с точки зрения рассудка) характера настоящего, прошлого и будущего как модусов времени, использует пример со звучанием. «Вот,, представь себе: человеческий голос начинает звучать и звучит и ещё звучит, но вот он умолк, и наступило молчание: звук ушёл, и звука уже нет. Он был в будущем, пока не зазвучал, и его нельзя было измерить, потому что его ещё не было, и сейчас нельзя, потому что его уже нет. Можно было тогда, когда он звучал, ибо тогда было то, что могло быть измерено. Но ведь и тогда он не застывал в неподвижности: он приходил и уходил. Поэтому и можно было его измерять? Проходя, он тянулся какой-то промежуток времени, которым и можно его измерить: настоящее ведь длительности не имеет». (С. 304) Парадоксальность времени, по Августину, проявляется в двух его свойствах: 1) когда нас никто не спрашивает, что такое время, мы это понимаем, когда спрашивают - не понимаем; 2) время существует лишь постольку, поскольку оно исчезает, переходит из бытия в небытие. Мы видим, что обе эти парадоксальные особенности характеризуют также и музыку. Музыку невозможно объяснить словами (понятийно, концептуально), она (так же, как и время) постигается нами интуитивно. Музыка (как и время) существует лишь постольку, поскольку она убывает, исчезает.
Музыкальный язык и герменевтика музыкального образа
Музыка (и, соответственно, музыкальный образ) выступает всегда в качестве культурного феномена, поэтому она требует определённой процедуры своего конституирования, отличного от конституирования естественных объектов. То богатство содержания, которое способна нести в себе музыка, благодаря своим буквально безграничным репрезентативным возможностям, говорит о связи процесса восприятия музыкального произведения с интерпретацией этого последнего. Это также свидетельствует о том, что всякая серьёзная музыка, для своего адекватного восприятия, нуждается в предзнании. Именно в силу этого, музыка вписывается в пространство понимания и в пространство интерпретации. Кроме того, сама музыка является неким результатом интерпретации, она есть то, что уже истолковано, понято в качестве музыкального, а не чисто звукового образования. Звук как таковой может не интерпретироваться, а просто восприниматься, музыкальный звук не существует без своей интерпретации. На это можно, конечно, возразить, что, со времён Спинозы и его «Богословско-политического трактата», пространство интерпретации - это пространство языка, а музыка, в принципе, не является языковым (в смысле понятийным) образованием. В самом деле, природа музыки, как было показано выше, в каком-то смысле противоположна природе понятия. С этим связана, в частности, знаменитая дилемма невозможности выразить с помощью слов смысл музыки, который всегда остаётся по ту сторону концептуального выражения. Понятие традиционно связывается в философии с деятельностью рассудка, которая является всегда, как форма познания, опосредованной, наоборот музыка постигается нами интуитивно и потому должна познаваться непосредственно. Чтобы разрешить это противоречие, нужно вспомнить, что интуиция, с помощью которой мы ухватываем музыкальный смысл, не тождественна непосредственному чувственному восприятию, ибо за относительной непрозрачностью чувственной материи открывает определённые сущности, которые невозможно созерцать в рамках естественной установки. При этом важно, что интуитивное усмотрение является необходимым, но не достаточным условием восприятия смысла музыкального произведения. И вопрос, следовательно, состоит в том, насколько сама интуиция музыки зависит от определённых усвоенных в ходе жизни знаний и навыков.
Музыка по преимуществу обладает определённым эмотивным содержанием, служит выражением тех или иных эмоций и чувств. Однако это выражение не является непосредственным: этим она принципиально отличается, например, от крика, плача, смеха и т.д. Музыка выражает не сами по себе эмоции и чувства, а их сущность, иначе говоря, то умопостигаемое, что в них содержится. Поэтому для их понимания требуется какой-то особый, умный слух. Не случайно, существует проблема восприятия серьёзной музыки, проблема подготовленного слушателя, способного адекватно понять реципируемое им музыкальное произведение. Этот подготовленный слушатель должен не просто слышать музыкальное звучание, но и мыслить его структуру, а это, безусловно, является уже выходом за пределы звуковой имманентности и, по сути, одной из разновидностей интерпретации музыкального ансамбля. Само существование музыкального произведения как целого уже можно рассматривать в качестве результата его интерпретации, поскольку такое целое никогда не воспринимается нами эмпирически. Строго говоря, музыкальное произведение в качестве целого - это лишь некий смысл, ноэзис, а не ноэма, и в качестве такового является интенциональным (а не реальным) образованием. То есть образованием, обнаруживающим свою релятивность интенции (сознанию, намерению) слушателя.
Даже если понимать музыкальное произведение как манифестацию Мировой Воли, как это делали Шопенгауэр и Ницше, то следует отделять конкретную, культурно обусловленную, музыкальную форму от самой чистой Воли, в любом случае, получающей в музыке какое-то сублимированное и интеллектуализированное выражение. Сам Ницше в «Рождении трагедии» говорит об «огромной пропасти», отделяющей «дионисического грека от дионисического варвара». (Рождение трагедии. - С. 26) Если у «варваров» (например, у вавилонян) в ходе дионисийских празднеств происходило простое возвращение к природному состоянию, то у греков это возвращение получило уже эстетическое и художественное преломление. Иначе говоря, сделалось неким видом зрелища или игры. В конечном счёте, это стало результатом некого «мирного договора» между Аполлоном и Дионисом, разделившим сферы влияния этих богов. «Но если теперь мы бросим взгляд на то, как под давлением этого мирового договора проявлялось дионисическое могущество, мы должны будем, по сравнению с упомянутыми вавилонскими сакеями и возвращением в них человека на ступень тигра и обезьяны, признать за дионисическими оргиями греков значение празднеств искупления мира и дней духовного просветления. У них впервые природа достигает своего художественного восторга, впервые у них разрушение principii individuationis становится художественным феноменом. Здесь бессилен отвратительный напиток ведьмы из сладострастия и жестокости: лишь странное смешение и двойственность аффектов у дионисических мечтателей напоминает о нём - как снадобья исцеления напоминают смертельные яды, - выражаясь в том явлении, что страдания вызывают радость, что восторг вырывает из души мучительные стоны. В высшей радости раздаётся крик ужаса или тоскливой жалобы о невознаградимой утрате. В этих греческих празднествах прорывается как бы сентиментальная черта природы, словно она вздыхает о своей раздробленности на индивиды. Пение и язык жестов у таких двойственно настроенных мечтателей были для гомеровско-греческого мира чем-то новым и неслыханным; в особенности возбуждала в нём страх и ужас дионисическая музыка». (Там же. - С. 27)
Ницше, таким образом, даёт здесь понять, что рождение дионисической музыки было выходом за пределы чисто аполлонического искусства греков (в том числе и так называемой аполлонической музыки, которая исполнялась, в частности, на кифаре, но была лишена мощи и размаха дионисической музыки), но вместе с тем этот выход произошёл в сторону новой (ещё неведомой дотоле) эстетики. Эта новая эстетика изображала уже не мировую гармонию, а так сказать мировую дисгармонию, хаос иррациональных и неподконтрольных логике порывов, но именно изображала их. Принципиальное различие между греческим (культурным) и варварским дионисизмом состояло именно в этой дистанцированности по отношению к самому экстатическому акту, если варвар действительно выходил за пределы самого себя и утрачивал свои человеческие свойства, то грек обладал способностью выражать такого рода аффекты с помощью музыки, но не сливаться с ними. Музыка, следовательно, прежде всего сумела создать язык, рассказывающий о той стороне реальности, которая не вписывалась в рамки аполлонической репрезентации. Она приобщала человека к этому таинственному бытию, но так, что он мог его познавать эстетически, а не просто сливался с ним. «Дионисический дифирамб побуждает человека к высшему подъёму всех его символических способностей; нечто ещё никогда не испытанное ищет своего выражения -уничтожение покрывала Майи, единобытие, как гений рода и даже самой природы. Существо природы должно найти себе теперь символическое выражение; необходим новый мир символов, телесная символика во всей её полноте, не только символика уст, лица, слова, но и совершенный, ритмизирующий все члены плясовой жест. Затем внезапно и порывисто растут другие символические силы, силы музыки, в ритмике, динамике и гармонии. Чтобы охватить это всеобщее освобождение от оков всех символических сил, человек должен был уже стоять на той высоте самоотчуждения, которая ищет своего символического выражения в указанных силах...» (Рождение трагедии. - С.27-28)