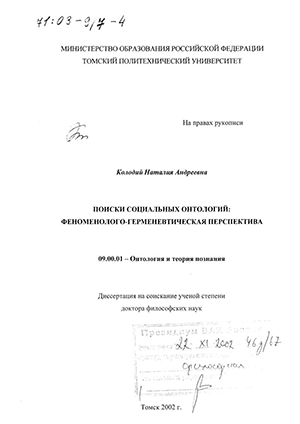Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Социальная онтология в свете феноменолого-герменевтического проекта 30
1.1. Социальные онтологии: становление, характер 30
1.2. Конституирование понимания 46
1.3. Проблема интерсубъективности 61
1.4. Радикализация феноменологического и герменевтического проектов 74
Глава 2. Критика трансцендентализма как условие формирования социальных онтологии в постнеклассической мысли 97
2.1. Онтологизация языка и бытийственные основания игры (умеренный вариант критики трансцендентализма) 103
2.2. Ризоматичность смысла: радикализация трансценденталистского видения 111
2.3. Философия языка и субъекта в феноменолого-герменевтической и постмодернистской перспективах 123
Глава 3. Проблема Другого как условие формирования социальных онтологии 159
3.1. Феноменологическая дескрипция Другого 159
3.2. Альтернативы: феноменолого-герменевтическое обоснование культуры и постмодернистские культурные практики 176
3.3. Опыт феноменолого-трансценденталистского обоснования истории. Отказ от истории в постмодернизме 217
Глава 4. Феноменологическая перспектива в описании социального и культурного опыта 227
4.1. Необъективирующая интерпретация истории 227
4.2. Феноменологические основания микроистории 237
4.3. Реабилитация повседневности 273
Заключение 285
Список литературы 295
- Социальные онтологии: становление, характер
- Онтологизация языка и бытийственные основания игры (умеренный вариант критики трансцендентализма)
- Альтернативы: феноменолого-герменевтическое обоснование культуры и постмодернистские культурные практики
- Реабилитация повседневности
Социальные онтологии: становление, характер
Социальная онтология может задаваться разными способами, может существовать в разных философских пространственных границах, может иметь различную структуру. Для одних исследователей она возникает тогда, когда осуществляется переход в философствовании от Я к Другому, когда исчезает субъект-объектное деление мира, субъект-объектное отношение к миру, а следовательно - в постнеклассической философии, где объектность преодолевается движением от первоначального одиночества (трансцендентальная субъективность) к существенной связи, в которой Другой обнаруживается не посредством знания, а из самой этой связи как феномена повседневности. Обнаруживаемый (видимый) Другой является центром открываемого нами отношения, ускользание от этого означает потерю центра мира. Для других - проблемы социальной онтологии возникают вместе с конституированием социально-философской марксистской и постмарксистской традиции.
Современные исследователи, группирующиеся вокруг журнала «Топос», такие как А.Горных, Т.Щитцова, О.Шпарага, А.Усманова убеждены, что принципы социальной онтологии как некой целостности могут быть эксплицированы благодаря новому прочтению текстов тех философов, которых мы можем отнести к постнеклассической философии. Это и произведения Ж.-П.Сартра, М.Хайдеггера, Э.Левинаса, М.Мерло-Понти, Ж.Лакана. Строго говоря, следовало бы более точно обозначить границы постнеклассической философии. В нашем сообществе уже появлялись периодизации европейской философии, согласно которым творчество Ж.-П.Сартра, М.Хайдеггера относили к философскому пространству, создаваемому неклассической философией. Скорей всего, авторы данного номера журнала «Топос» создают еще внутреннюю классификацию для анализа творчества Хайдеггера, Сартра, которое не исключает существования воззрений как неклассических, так и принципов, характеризующих постнеклассическую философию.
Невозможно сформулировать эти принципы так, чтобы они строго и исчерпывающе давали бы представление о направленности воззрений Хайдеггера, и особенности концептуальное Левинаса. Пожалуй, самый общий абрис этих принципов можно начать с утверждения о несубстанциальной трактовке человеческого бытия, с признания отношения к Другому конститутивным моментом человеческого бытия в мире, с мысли о принятии на себя ответственности за свое бытие, которое всегда имеет в виду Другого. На размышлениях о Другом Ж.-П.Сартра О.Шпарага выстраивает свой концепт Другого видимого мира -Другого-объекта - собственно Другого. Она совершенно точно реконструирует то, как формируется первое отношение к Другому видимого мира, «это все-таки особое отношение: оно дается сразу целиком, «поскольку находится здесь, в мире, как объект, который я могу знать» (т.е. предполагается контекст, фон мира, который состоит из объектов, однако сами эти объекты могут быть различными) и сразу же полностью ускользает от меня: так как именно обнаруживаемый (видимый Другой) является центром этого открываемого отношения, ускользание означает потерю мною центра мира, это «дезинтеграция отношений, которую я воспринимаю между объектами моего универсума».
Второй шаг в реконструкции Другого-объекта означивается и Сартром, и автором как то, что я оказываюсь в поле взгляда Другого. В этом акте Другой-объект «превращается в Другого-субъекта». Вот это «бытие под взглядом» и есть основа социального мира, конституируемого в сознании. Для Сартра «Дру-гой понимается на основе смысла его взгляда». Но Сартр, по мнению О.Шпарага, ограничился констатацией того, что Другой это тот, кто дезинтегрирует мой мир и как тот, кто смотрит на меня, является условием становления меня самого и мира, «переструктурирования» меня в мире. Она же бытие Другого хотела бы описать, используя представления об открытой идентичности и плюральное бытия, обращаясь к реконструкции континуума «Я-Другой-мир», исследуя интенции желания, с которых начинается отношение к Другому. Это предполагает описание мира без стремления к обладанию, мира без-обладания, мира с надеждой на совместное бытие.
«Не обладать» означает «мгновенно давать и принимать сущностные черты себя самого и Другого...решающим здесь становится понятие вместе с Другим, которое и характеризуется не-обладанием; оно сбывается «от одного мгновения к другому» и позволяет сбыться себе и Другому». В описании подобного мира помогает М.Мерло-Понти. Исследование Другого, к которому я обнаруживаю желание, может начаться только тогда, когда можно обнаружить существование одной важной интенции-интенции речи, предполагающей Другого. Не сложно предположить, что эта интенция связана с общей телесной ин-тенциональностью, телесным смылополаганием или смыслоприданием. Мерло-Понти полагает, что «все происходит так, как если бы интенции Другого населяли мое тело, а мои интенции населяли тело Другого».15
О.Шпарага далее использует для обоснования своей реконструкции мысль М.Мерло-Понти о том, что в интенции желания и речи я открываю ситуацию культурного мира, «в культурном объекте я ощущаю скрытое под покровом анонимности близкое присутствие Другого».16 Понимание Другого становится реальностью, если мы улавливаем на видимых телах формы поведения, если у нас появляется ощущение «соприродности сознания его телу и миру». Концептуализация Другого потому так и важна, что Я и Другой есть неразрывное единство, это единство скрепляет мир. Становление меня, обретение мною полноты бытия предполагает разворачивание ситуации Другого, так как «мне все время недостает полноты моего существования в качестве вещи, моя собственная субстанция изнутри покидает меня, и в любой момент вырисовывается какая-то интенция».17
Другой, по мысли О.Шпарага, есть завершение телесно-духовной целостности «Я-Другой-Мир», это с одной стороны. Но телесность есть то, что не поддается однозначной интерпретации, толкованию, это замкнутое, непрозрачное для взгляда образование, считывая с него выражения, движения, мы приходим не к Другому, а к общему для нас миру. Мир для Другого и мир для меня бесконечно открыт, непредсказуем, непредустановлен. Феноменология взгляда в этом мире есть то, что его объединяет и то, что разворачивается не за существующим миром, а в самом мире.
Важный итог, присутствующий во всех подходах, концептуализирующих Другого, мира с Другим - этика как способ ответственности за свое бытие, бытие с Другими. Ответственность это эпифеномен со-бытия с Другими. Собственное и несобственное бытие различается в бытии друг с другом.
Предельно новым в этих концептах бытия с Другими является то, что здесь уясняется не только несубстанциальность бытийного устройства человека, отличающаяся от субстанциальности амбивалентным различением данного и заданного и идеей непредопределенной заданности человеческого бытия, но и тематизация действующего Другого. Структура внутренней социальности открывается в таком способе задавания социальной онтологии. Это становится возможным только при осуществлении феноменологии взгляда, а не онтологии созерцания.
Те аспекты социальной онтологии, которые разворачиваются уже благодаря самым современным постнеклассическим воззрениям в текстах А.Усмановой, более радикально означивают «друговость Другого», видя в ней территорию самодостаточной и никому не принадлежащей инаковости. Разрабатывая проект репрезентации Другого, А.Усманова имеет серьезный опыт тендерных исследований. Она в предельно заостренной и полемической форме фиксирует мысль о том, что «начать говорить и думать о Другом - значит «присвоить» его себе, о-своить его в терминах своего языка и в своих мыслительных схемах, найти ему место в своей классификации мира, растворить его реальность в моем мышлении».19
Так присвоение себе Другого или представление Другого является сутью репрезентации? Закономерно, что здесь репрезентация рассматривается не столько как эпистемологическое предприятие или философское, сколько как ключевая культурная практика: «реальность репрезентации - это единственная реальность, которой мы располагаем».20
Социальная онтология в данном проекте задается невозможностью в самих социальных практиках иметь идеализированный образ Другого на его собственной территории, и реальной природой дискурса, благодаря которому осуществляются разнообразные формы присвоения Другого. Дискурс понимается прежде всего как «речь, присваиваемая говорящим, в противоположность «повествованию, которое разворачивается без эксплицитного вмешательства субъекта высказывания», во-вторых, как «определенный тип высказывания, произведенный в институциональных рамках, которые накладывают ограничения на акты высказывания». Присвоение же, которое стоит во главе угла в этом концепте, понимается в духе Ж.Лакана или его преемников как осуществляемый через язык «переход» от абсолютно непредставимого молчащего Символического Другого к другому Воображаемому.
Онтологизация языка и бытийственные основания игры (умеренный вариант критики трансцендентализма)
Любое понимание герменевтики, основывающееся на шлейермахеровских идеях, 1 .-будь то истолкование в духе автора, предназначенное для современного потребителя искусства, подогнанное под его вкус и уровень его компетенции (такое истолкование как носящее вторичный характер Гадамер называет «репродукцией прошлой продукции»), или 2.- стремление к адекватному воссозданию прошлого, (которое, по мнению Гадамера, «не более осмысленно, чем реставрация прошлой жизни»). Оба вида истолкования, по Гадам еру, не составляют истинной сути герменевтики.
В «Истине и методе», в других герменевтических исследованиях Гадамер активно аппелирует в герменевтике Шлейермахера и философии Гегеля. Если Шлейермахер, как считает Гадамер, стремился создать герменевтику как универсальную дисциплину, насколько возможно «приблизить» ее к философии, то для философской системы Гегеля основная герменевтическая задача оказалась частным случаем. Гегель почувствовал действительно философский аспект герменевтики в ее связи с современностью: только диалектика истории и современности может быть основанием герменевтического метода.
Гадамер фиксирует коренное отличие Гегеля от Шлейермахера, оно проявляется в том, что, по Гегелю, «сущность исторического духа состоит не в восстановлении прошлого, а в мысленном посредничестве с современной жизнь»"119. Именно диалектическое взаимодействие истории и современности позволяет «уравнять друг с другом выигрыш и потери герменевтического предприятия». Целью герменевтического искусства должно стать не «вживание в мир автора», а «представление его в себе» для актуализации его для себя. Простое представление прошлого хотя и может быть в определенном смысле научной задачей, но все же в большей степени является пустым, односторонним, внешним, не связанным живительными нитями с современностью.
Вывод Гадамера: «Истинной задачей мыслящего духа по отношению к истории, а также по отношению к истории искусства было бы, по Гегелю, напротив, не внешнее, а дух, сам себя представляющий в ней, но на более высокой ступени». Намечая дальнейшее развитие герменевтики, Гадамер задумал «онтологический поворот герменевтики к путеводной нити языка». На связь герменевтики с языком, как мы помним, указывал еще Хайдеггер и Гадамер во многом следует своему предшественнику.
Многие категории, которые использует в своей герменевтике Гадамер, рассматривались Хайдеггером. Среди них прежде всего следует выделить предпонимание, традицию, предрассудок, горизонт понимания. Предпонимание — это определяющаяся традицией предпосылка понимания, поэтому оно должно выступать одним из условий понимания. Совокупность предрассудков и «предсуждений», обусловленных традицией, составляет то, что Гадамер называет «горизонтом понимания». Центральным, обусловливающим все остальные, здесь является понятие предрассудка. Оно понимается Гадамером весьма специфично, не несет только негативную смысловую нагрузку. Определяя его, Гадамер пишет: «Предрассудком называется суждение, которое имеет место до окончательной проверки всех фактически определяющих моментов. Следовательно, «предрассудком» не называют ложное суждение, в его понятии заложено то, что может быть оценено позитивно и негативно».121
Традицию Гадамер считает одной из форм авторитета. Она связывает историю и современность. В современности живы элементы традиции, которые и были названы Гадамером предрассудками. Понятие предрассудка, как уже было отмечено, двойственно. С одной стороны, к ним относят некоторые негативные явления прошлого, которые тормозят ход исторического развития, и с другой — это то, что предшествует процессу рассуждения (пред-суждение). Они суть необходимые, объективно заложенные в языке и в способах мыслительной деятельности людей компоненты, которые влияют на речемыслительную и понимающую деятельность человека и которые в связи с этим обязательно должны учитываться в герменевтических методиках. Поэтому Гадамер считает необходимым заострить внимание на главной проблеме: «Для исторической герменевтики можно сформулировать центральный вопрос, ее основной теоретико-познавательный вопрос: в чем состоит причина законности предрассудков?
Что отличает законные предрассудки от всех бесчисленных предрассудков, чье преодоление является задачей критического разума?».
Поскольку любая традиция нерасторжимо связана с языком, в нем выражается и им в определенной степени обусловлена (вспомним в связи с этим гумбольдтовский тезис о том, что язык является носителем и внутренне схематизирующей силой мировоззрения, что он сам содержит в себе мировоззрение), постольку первейшим предметом и источником герменевтической рефлексии и герменевтического опыта является именно язык как структурный элемент культурного целого. Исходным пунктом в герменевтике Гадамера является шлейер-махеровское положение о том, что «все предполагающееся в герменевтике есть только язык и все относящееся к ней, включая также объективные и субъектив-ные предпосылки, должно браться из языка» Основной проблемой, как считает Гадамер, является здесь трудность определения характера проявления в языке предпосылок понимания. Поскольку «все есть в языке», то каким образом язык сохраняет, кроме переносимого смысла, объективные и субъективные предпосылки понимания?
Этот вопрос, навеянный размышлениями по поводу герменевтики Шлей-ермахера, Гадамер связывает с идеями Хайдеггера. Язык есть мир, который окружает человека, без языка невозможны ни жизнь, ни сознание, ни мышление, ни чувства, ни история, ни общество. Все, что связано с человеком, находит свое отражение в языке. Язык есть не только «дом бытия» (Хайдеггер), но и способ бытия человека, сущностное его свойство. Язык, по Гадамеру, составляет как раз содержание того понятия, которое у Гуссерля названо «жизненным миром». Язык это и есть время, обретшее свою плоть, это стихия историчности в ее непосредственном опыте. Слово это отнюдь не знак, не символ, а скорее -зеркало, в котором видна вещь. Рассуждая так, Гадамер, конечно, идет за Хай-деггером, но у Гадамера язык предметен, потому слово - зеркало. Так понимаемый язык становится условием познавательной деятельности человека.
В таком отношении Гадамера к языку и герменевтике многие исследователи справедливо усматривают тенденцию к онтологизации понимания. Понимание считается неотъемлемой функцией языка наряду с говорением (ср. с концепцией В. Гумбольдта), а язык является существенным свойством человеческого бытия. Таким образом, понимание из модуса познания превращается в модус бытия. Гадамер считает понимание моментом человеческой жизни. Такая оценка понимания переориентирует устремления герменевтики. Теперь ее основной задачей выступает не методологическая направленность на феномен постижения смысла, а выяснение онтологического статуса понимания как момента жизни человека. Герменевтика в связи с этим приобретает еще большую философскую значимость, она становится учением о человеческом бытии, своеобразной философской антропологией. В концепции языка и понимания у Гадамера определенная роль принадлежит игре, ибо сущность языка - в игре. Это та игра, которая «бытийствует» (М.Хайдеггер); игра, в которой «разыгрывается весь порядок бытия»,124 «через игру воплощается... сызнова все усвоенные события, помогая тем самым поддержанию космического порядка» (Хейзинга Й.); игра как эргон, игра как преобразование процесса в структуру (Х.-Г.Гадамер). Казалось бы, здесь речь идет прежде всего о священной игре, но не только.
Альтернативы: феноменолого-герменевтическое обоснование культуры и постмодернистские культурные практики
Благодаря феноменолого-герменевтической философии осуществляется кардинальная смена наблюдения и описания в культуре, переводящего предмет в контекст, в мир субъектного опыта.
Феноменологически-герменевтическая философия не есть бессубъектное понимание и опыт. Она предполагает определенный антиантропологизм, но он имеет особую интенциональность. Прежде всего, это протест против ложно понятой субъективности. Нам только кажется, что мы уже давно в пути, размышляя о субъекте, его социальном и культурном опыте, что мы преодолели «тупики платонизма», миновали «платонический музей чистых, светлых идей, совсем адекватных предметной сущности». Современная социальная теория, так часто использующая идеи феноменологии, например, в ее более простом отечественном варианте-проекте А.Ф.Лосева, даже не сумела оценить важность представлений о субъекте, его бытии в культуре, о художественной форме - основе культуры, зоне «метаксюйности», срединности между смысловой предметностью и воспроизводящей ее предметной инаковостью. Признание культуры лишь способом сохранения сущности от распыления, как и толкование ее «отрешенным бытием», игрой, спасало для феноменологии ее позицию от психологизма, субъективизма - более смертных врагов, чем пресловутое неогегельянство и шпенглерианство.
Антиантропологизм, впрочем, дал совершенно неожиданный результат. Наша задача в этом параграфе: показать, как эта установка дает возможность увидеть не только Jetzt-Sein человека, но и Da-Sein, определенную иерархию бытия человека, его не субстанциональную, эссенциалистскую сущность, а его бытие-в мире. ...2И
Довольно любопытный парадокс вызревает в этом контексте. Феноменологическая традиция сделала все, чтобы сделать мышление, сознание максимально «чистым», свободным от любых возможных социокультурных и прочих наслоений, она тяготела к сущностному усмотрению вещи, к «чашечности чаши» (вспомним это выражение М.Хайдеггера в его докладе «Вещь»), а теперь она же помогает пролить свет именно на феномен культуры.
Но культурфилософы, покинувшие мир культуры, и рассуждающие о бытии, переместившиеся на самою почву, где располагается и всякий обычный человек и где устанавливается «самая близкая близость» (выражение М.Хайдеггера) человеческого существа к вещам мира, к миру как таковому, в мир культуры все-таки возвращаются, но уже с иной целью: дать явиться самой вещи, добиться слияния сознания и вещи, умного делания и веры. Единство мира, с одной стороны, и изменчивость, множественность, неповторимость и непредсказуемость содержательных форм, с другой. Такое пространство видится нам, благодаря подобному описанию: оно ризомирует в множественность, оно кишит разрывами, бессвязностями, частями. И все-таки язык, необходимый для описания ризомичности, децентрированности, детерриторизации культурного пространства все еще не найден.
Одно трансценденталистское обоснование культуры мы видим у Гуссерля. Другое - у А.Ф. Лосева, может быть, не самого последовательного феноменолога в России, но, быть может, сегодня наиболее перспективного посредника между феноменологической европейской философией и зарождающейся российской. Прежде чем выявить особенности его обоснования культуры, рассмотрим то, как А.Ф.Лосев рассматривает бытие.
Любопытно, что для русского философа А.Ф. Лосева тоже принципиально важным является то, что бытие нельзя рассматривать так, как анализируется в философии вещь. Для Лосева важно трактовать это первичное бытие «феноменологически как чистый доструктурный опыт, онтологически- как последнюю качественную основу сущего, или объективный смысл, и религиозно - как преображающееся бытие». Признание первичного бытия как «непрерывной, творческой текучести», как «чистого познавательного неоформленного качества или смысла», пожалуй, точнее оценивать как протест и против эссенциализ-ма, и против любой версии субстанциализма. В контексте онтологизма конца 19-начала 20 века антисубстанционализм принимает разные формы. Пафос русской философии этого периода связан с критикой «рационализирующего гипостазирования субстрата» , и в то же время с созданием метафизики всеединства.
Попытка отказаться от чистого субстанционализма принимала самые радикальные формы, вызывая столь же явное желание определить бытие: «Бытие есть всеединство, в котором все частное есть и мыслимо только через свою связь с чем-либо другим - в конечном счете со всем иным. В этом отношении даже понятие Бога составляет лишь мнимое исключение; и Бог, строго и точно говоря, не обладает тем признаком, который схоластика обозначила словом aseitas (бытие из себя самого), т.е. не есть ens se (сущее в себе). Ибо именно потому, что он мыслится «первоосновой», «Творцом», «Вседержителем» мира и вообще всего остального, он не мыслим без отношения к тому, что есть Его «Творение»»."
Две идеи актуализируются этим высказыванием: экзистенциально-личностная идея о всеединстве вопреки разорванности современного культурного бытия, всеобщей и абсолютной раздельности одной вещи от другой; и мысль о том, что все есть отношение. Исходное состояние мира- для Лосева и не только для него - «растерзанность и распятость» мира, «разбитого на куски с полной покинутостью каждого А и вечным его одиночеством».
Такому миру и предлагается новый способ философствования, который У Хайдеггера должен был вернуть миру «ладность», «ладное общение с природой», у Лосева - завершить восхождение (и не только мистическое) к тайнам Первоединого. Задача человека и в том и в другом случае быть пастырем бытия. Преодоление трансцендентализма выдвигается в качестве задачи и там, и здесь. Пути преодоления, разумеется, разные. Вспомним, что Хайдеггера, рассуждающего о вещи, о «чашечности чаши» не устраивало представление о «присутствии присутствующего, исходя из идеи». Лосева пугал музей чистых платонических идей. И тот, и другой стремились взять «смысл», сущность, но в «их явленности иному, в их выраженности в ином, в их понимании иным и иными - в их, словом, вне-смысловой данности и различенности, вне-сущностной осознанности и соотнесенности, в их инобытийно-смысловой 03 наменованности».
Мы понимаем всю невозможность реконструкции воззрений А.Ф.Лосева, тем более в таком экзотическом ракурсе, который мы предлагаем, но при более внимательном прочтении его текстов становится очевидным удивительное созвучие многих идей Хайдеггера и Лосева. Возможно, это обусловлено тем обстоятельством, что оба они - ученики Гуссерля, оба создают довольно тяжеловесные проекты глубинного почвенничества. Оба призывают к внимательному вслушиванию в голос бытия, оба не отождествляют голос этого бытия с каким-либо одним текстом, оба способны к реконструкции лестницы именитства. Оба удивительно актуальны для сегодняшнего культурфилософского синтеза, несмотря на жесточайшую критику воззрений и того, и другого. Одного - за непомерную склонность к диалектическому способу рассмотрения и порою марксистскому, другого - за не менее тяжкий грех - призыв к тому, чтобы быть ближе почве и земле, что и определило непротивление одному из самых одиозных режимов Европы. Впрочем, если почвенничество в той или иной версии можно счесть за привычную риторику, всегда присутствующую наряду с дискурсивным (означающим) началом в текстах выдающихся мыслителей, то тогда следует признать, что это обстоятельство лишь порождает особую гетерогенность дискурса, и требует более чуткого прочтения.
Ранние работы А.Ф.Лосева сформировались под влиянием христианской мистики, тесно взаимодействующей с неоплатонизмом, опирающимся на воззрения Прокла, «энергетический» исихазм Григория Паламы и выросший до имяславского движения. А.Ф. Лосев усматривает аналогию имяславия и пала-мистский позиции в отвержении субъективизма при понимании духовного опыта и признании его онтологической подлинности. Идея цельности человека в антропологии Григория Паламы, признающего, что при «обожений» - благодатном, энергийном соединении человека с Богом как со «сверхсветлым умным светом» происходит преображение всего человека, «превосхождение естества», «облечение» тварного в божественное, чрезвычайно близка антропологии А.Ф.Лосева. Все это отнюдь не родственно истокам в формировании Хайдегге-ра, но тот синтез или скорей проект синтеза онтологизма и персонализма, который свершается в их работах, он то и оказался созвучен сегодняшним культур-философским поискам.
Онтологизм Лосева прочитывается в том, как он понимает вещь, сущность, Перво-единое. Реальная жизнь вещи, отражающая становление и трансформацию связей и отношений, образующих ее конкретное бытие в каждый момент его дления, может быть определен понятием меон. Меоническое начало присутствует и в самом определении сущности у Лосева, «любая категория сущности есть она и не она», и поэтому сущность неисчерпаема, принять очертания ей помогает энергия, которая под влиянием силы Логоса выформировывает определенным образом явленный эйдос. Становление вещи - это оформление эй-доса в меоне - чувственном, текучем, неоформленном начале. Меон чреват возможностью преобразования в какое-то оформленное бытие, обусловленное энергией.
Реабилитация повседневности
Изучение истории повседневности долгое время наталкивалось на ряд существенных предрассудков, которые удалось отчасти «снять» только феноменологии. Эту повседневность теоретики считали слишком неопределенной, они видели в ней символический, моральный, политический или какой-то иной порядок. Они достаточно рано зафиксировали то, что участник повседневного взаимодействия, опутанный сложившимися сетями порядка, не может стать незаинтересованным исследователем по двум причинам: во-первых, в силу ана-нимности и незаметности структуры жизненного мира; во-вторых, в силу того, что вовлеченность в эти структуры выступает условием возможности их понимания.
По отношению к повседневности можно было занять позицию безоговорочного приятия, эстетического оправдания, можно было, экзистенциально протестуя, на первый взгляд, способствовать эмансипации. Но мир повседневности, повседневного взаимодействия по-прежнему расценивался как препятствие на пути объективного непредвзятого познания мира.
Феноменологическая философия, как мы убедились ранее, сформировала иную перпективу видения проблем повседневности, жизненного мира. Обращение феноменологов к жизненному миру стало не только протестом против рациональности, репрессивность которой стала осознаваться все больше и больше, но одновременно и анализом той допредикативной очевидности, на основе которой конституируется любое отношение к миру.
Сегодня существует множество способов определить эссенциалистски сущность повседневности, она сводится то к будничности в противоположность праздничности, то к экономии в противоположность трате, то к рутинности и традиционности в противоположность новаторству. В современной социальной философии она темитизируется как нечто упорядоченное, рутинное, обезличивающее человека, препятствующее его свободе, или, напротив, как нечто спонтанное, обеспечивающее свободу индивидуальности.
Феноменологическая философия и социология, начиная с Э. Гуссерля, М. Шелера, А. Шюца раскрыла сложный порядок жизненного мира. А. Шюц писал: «С самого начала повседневность предстает перед нами как смысловой универсум, совокупность значений, которые мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом мире, прийти к соглашению».зм Шюц, как и его последователи, склонен понимать повседневность как символический, переживаемый мир. В этой совокупности переживаний конституируется некий общий гозонт, в котором «уравниваются», типизируются различные частные перспективы: «Общий тезис взаимных перспектив приводит к способности схватывать объекты и их аспекты, действительно знаемые мной и потенциально о ее знаемые им как знание каждого». Адекватный анализ социальной реальности как раз и становится возможным, если использовать при этом разработанные феноменологические теории, способные выявить и описать универсальные структуры повседневной жизни. Эти структуры могут и должны играть роль своеобразных матриц для эмпирических дисциплин, имеющих дело с объяснением конкретных исторических структур повседневной жизни.
Феноменология жизненного мира не должна пониматься в роли конкретной методологии, или в роли эмпирического исследования. Поскольку повседневность соединяет природный, социальный и субъективный миры, образует общее поле понимания, то выявление ее инвариантных структур открывает широкие перспективы для наук о духе.
В феноменологически ориентированной социологии утвердилась мысль о том, что «эмпирические и социальные науки найдут свое истинное основание не в трансцендентальной феноменологии, а в конститутивной феноменологии естественной установки», а «замечательный вклад Гуссерля в социальные науки состоит не в его безуспешной попытке решить проблему конституирования трасцендентальной интерсубъективности в редуцированной эгологической сфере, не в его истолковании социальных общностей и обществ как субъективности высшего порядка, природа которых может быть описана эйдетически, а скорее в богатстве его исследований, имеющих отношение к жизненному миру и подлежащих развертыванию в философскую антропологию».
Не будем комментировать такую оценку конституирования интерсубъективности в теории Гуссерля, которая здесь дана, как, впрочем, не будем интерпретировать внимание авторов лишь к особенностям естественной установки для обоснования социальных наук, заметим только, что дескрипция данности жизненного мира, исследование истории жизненного мира, раскрытие значений, связанных с диалектикой становления социальности, в феноменологии явилось действительным открытием для социальных наук.
Для становления истории повседневности одинаково важными оказались как трансценденталистское толкование интерсубъективности Гуссерля, так и феноменологическое обоснование естественной установки А.Шюца. Поведение человека, по мнению Шюца, мотивируется смыслом, который мы приписывем тому или иному явлению социальной жизни, поэтому, считает теоретик, нужно исследовать проблемы конституирования смысла, различных смысловых структур. Конститутивная феноменология естественной установки здесь будет играть решающую роль.
Социальный мир, по Шюцу, сложно структурирован: самим индивидом он конституируется как мир его ближайшего окружения, социальный мир современников, предков, потомков. Каждый уровень социального мира представляет собой определенную сферу значений, в конституировании которой значительную роль играет язык, основанный на символах.
Субъект конституирует смыслы на основе внутреннего переживания времени. Образ Другого не может стать основой этой реконструкции смыслов. По Шюцу, мы можем исследовать лишь конституирование смысловых характеристик действий, совершаемых человеком. Другой выступает носителем типичных свойств, в свою очередь характеризующих стабильные социальные структуры, интерсубъективно существующие в точках пересечения практических целей и интересов взаимодействующих индивидов.
Социальный мир - это противоположный природе мир, считают последователи Шюца, он представляет собой ту реальность, которая конституируется самими участниками социальных процессов в практике речевого общения. Социальный мир - это тот повседневный мир, который переживают и интерпретируют сами люди. Это мир структурированных значений, выступающих в форме типических представлений об объектах этого мира. Историческая наука, изучающая повседневность в своих феноменологических образцах, восприняла именно эти положения феноменологической социологии. Некоторые из исторических исследований являются типичным воплощением основной идеи феноменологической социологии: социальный мир это «мир, организованный на основе принятых на веру значений, которые индивиды используют в качестве общей схемы интерпретациии объяснения явлений этого мира».
Проблема здесь, как для социологов, так и для историков заключается в том, можно ли утверждать объективный характер структур социального мира? Но для феноменологически мыслящих исследователей «нужно воздержаться от веры в существование этого мира как объективного мира». Если же как позитивистская социология верить в объективный характер социального мира, не выходить за пределы обыденного толкования, здравого смысла, то мы никогда не подберемся к источнику конституирования социального мира. Социальный мир обладает фактуальной спецификой только благодаря обыденной интерпретирующей деятельности индивидов. Способность конституировать окружающий мир присуща всем участникам социальных событий.
Итак, какое же из многообразных направлений истории повседневности оказалось наиболее воспримчивым к феноменологичеким изысканиям, связанным с естественной установкой, конституированием интерсубъективности?
На наш взгляд, это так называемая «персональная история», или (их сейчас склонны отожлествлять), биографическая история, микроистория, история казуса. Причем, одним из перспективных направлений внутри этой традиции является тендерная микроистория, не являющаяся столь одиозной и ожесточенно критикуемой, как другие феминистские мыслительные традиции.
Историки ментальностей, пытавшиеся в течение почти всего XX века зафиксировать целостность исторического бытия в фокусе человеческой субъективности, сосредоточились на изучении внеличностной малоподвижной структуры - мире коллективных представлений, оставив за бортом не только историю событий, но и проблему самоидентификации личности, целеполагания, индивидуального рационального или иррационального выбора.