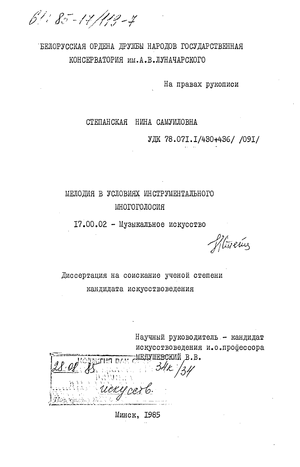Содержание к диссертации
Введение
Глава I. СЕМАНТИКА МЕЛОДИИ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 10
1. Мелодия в ряду сменных с ней понятий 10
2. Мелодический инвариант 27
3. Классический тип мелодии.Портретироваиие 44
Глава II. МЕЛОДИЯ И ФАКТУРА В КЛАССИКО-РОМАНТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 60
4. Фактура и классический мелодический тип 60
5. Фактура и романтический мелодический тип 73
6. Бесконечная мелодия и афористическое мелодическое образование 88
Глава III. МЕЛОДИЯ И ФАКТУРА В СОВЕТСКОЙ ОРКЕСТРОВОЙ МУЗЫКЕ 60-70-х ГОДОВ 100
7. Мелодия и портретироваиие в художественном мышлении XX века 100
8. Гомофонные мелодические формы 105
9. Негомофонные мелодические формы 113
10.Особые формы проявления мелодического ин варианта 124
Глава ІV.МЕЛОДИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ КОМПОЗИТОРА 138
1.1 Мелодический стиль Б.Чайковского 138
1.2. Мелодический стиль Б.Тищенко 152
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 170
БИБЛИОГРАФИЯ 176
ПРИЛОЖЕНИЕ 190
- Мелодия в ряду сменных с ней понятий
- Фактура и классический мелодический тип
- Мелодия и портретироваиие в художественном мышлении XX века
Введение к работе
Мелодия издавна служит объектом музыкальной теории. Причина неиссякаемого научного интереса к данной проблематике заключена в универсальности и неисчерпаемости мелодического начала в музыке,в тесной связи между мелодией и интонацией - естественной основой музыкального искусства. Гибкая реактивность мелодических средств на исторические сдвиги в общественном и художественном развитии заставляет теоретиков часто пересматривать позиции и положения прежних мелодических учений. "Быстрое устаревание отдельных теорий о мелодии - свидетельство их исторического соответствия практике, а не их недостаток", - пишут немецкие теоретики Я.Абрахам и К.Дальхауз (149,с.16). Множество накопленных музыкознанием аспектов и точек зрения о мелодии отражает разнообразие и богатство творческих трактовок мелодических средств. Между тем, споря о мелодии, обсуждая проблемы мелодических стилей, исследователи подчас расходятся в главном - в понимании того значения,которое вкладывается в слово "мелодия".
Противоречивостью отличается и подход к мелодии в современном музыкознании, неоднозначно и само теоретическое понятие. Происходящие в композиторской практике XX века процессы обновления интонационного словаря, трансформации языковых стереотипов недавнего прошлого сопровождаются переосмыслением мелодического феномена, многообразием его творческих трактовок. В условиях современной стилевой множественности вспыхивают дискуссии о судьбе мелодии, о художественной правомочности ее новейших форм, о широте явлений в творчестве, охватываемых данным понятием1/. Активизация внимания к проблемам мелодии сопровождается обновлением ракурсов изучения смежных музыковедческих проблем: теории интонации, тема-тизма, лада, фактуры, формообразования и др., - и эта разносторон- няя связь стимулирует развитие теории музыки в целом. Дальнейшее обогащение науки о мелодии оказывается ныне одной из важных задач музыкознания, разрешение которой необходимо осуществлять в комплексе с широкой музыкально-теоретической и эстетической проблематикой.
Предмет исследования настоящей диссертации - инструментальная мелодия. Среди множества связанных с данным феноменом вопросов избираются такие, которые позволяют сконцентрировать внимание на трех основных задачах: I) обосновать понятие мелодического инварианта - той абстрактной структуры, свойства которой необходимы для реализации мелодии в музыкальном тексте; 2) конкретизировать сферу мелодической семантики - менее всего изученной стороны учения о мелодии; 3) рассмотреть эволюцию мелодии в многоголосной музыкальной фактуре под углом зрения преемственности семантики отдельных мелодических стилей.
Методология исследования заключена в сочетании логико-теоретического, исторического и эстетико-семантического ракурсов разрешения указанных выше проблем, что позволяет выйти за рамки традиционных воззрений на мелодию и наметить новые подступы к ее изучению.
Аналитическим стержнем диссертации является принцип сравнения и сопоставления инварианта и стилистического типа мелодии. Под последним подразумевается абстракция частного порядка,предполагающая коррекцию инвариантных свойств мелодии с учетом художественной концепции и языково-грамматической платформы конкретного исторического стиля. Подобный аспект в понятийном обосновании мелодии назрел в современном музыкознании, так как происходящая ныне ломка прежних и пестрота вновь возникающих терминов вызывает потребность нахождения стабильного логического стержня, объединяющего многие синонимичные понятия на общей терминологической основе.В результате углубляются критерии в осмыслении преемственности мелодических стилей,диалектики традиции и новаторства в мелодическом мышлении, что в свою очередь долано способствовать выработке дополнительных аргументов в научно-критической оценке сложных явлений современной музыки.
Изучение семантической специфики мелодии в диссертации направлено на эстетическое, культурологическое и сравнительно-аналитическое обоснование выразительно-смысловых, содержательных констант мелодии как музыкального феномена.Б отличие от семантических исследований в лингвистике, пользующихся методами и терминами точных наук для анализа языковых единице, в данной работе избран иной подход к решению задач музыкально-семантического плана: привлекается метод аналогии и параллелей между художественными принципами различных видов искусства, что позволяет увидеть мелодию в системе с иными, по языковому материалу отдаленными от нее творческими явлениями, содержательно интерпретировать их глубинное родство. Концентрация внимания на семантике мелодии дает возможность также в новом свете рассмотреть смежные вопросы музыкальной теории: семантической интерпретации музыкальной фактуры, особенностей экспозиционности в современной крупной форме, трактовки темы в зависимости от существа мелодии, индивидуальной стилевой мелодической концепции и др. В то же время менее детально в диссертации исследуется логико-конструктивная сторона изучаемого феномена, вопросы интервально-высотной структуры, ладогармонической организации, мотивно-тематической расчлененности. В их решении привлекаются авторитетные исследования советских и зарубежных музыковедов, достижения которых свидетельствуют о глубоком освоении природы мелодии именно в указанных направлениях, в то время как семантическая сторона мелоса изучена менее всего и нуждается в особой конкретизации.
Инструментальная мелодия в европейском профессиональном творчестве прошла ряд эволюционно сменяющихся стадий, среди которых первые вершины приходятся на полифонический мелос барокко и классическую гомофонную мелодику.
Последняя избирается в качестве исходного объекта для изучения семантики мелодии по следующим причинам: во-первых, мелодия данного типа расцвела на основе гомофонного склада и централизованной гармонии, что способствовало, по мысли Л.Мазеля,концентрации выразительности в мелодии, передавшей гармонии функции логического управления (75, с.76); во-вторых, классическая мелодия представила собой инструментальный эмансипированный мелос, интонационное содержание которого в связи с внемузыкальными прообразами обрело ряд глубоких опосредовании; и в-третьих, инструментальная гомофонная мелодия впервые предстала в четко оформленных пространственно-временных границах и с достаточной протяженностью, удобной для осознания ее как законченной музыкальной целостности.
Отмеченные черты мелодии классического типа позволили применить к ней понятие портретирован и я для определения ее семантической специфики. Заимствованное из живописной терминологии, данное понятие подчеркивает в гомофонной мелодии прежде всего антропоцентрический характер образного обобщения, замкнутость и персонифицированность образа, обладающего неповторимым эмоционально-личностным обликом. Портретирование при помощи мелодии понимается и как результирующая данность - целостный портрет, и как постепенное цельное по образу процессуальное развертывание мысли о человеке. Поэтому данное понятие представляется целесообразным для изучения эволюции мелодии от классического типа к романтическому и далее - к многообразным формам воплощения мелодического инварианта в музыке XX века. Введение исторического аспекта в контекст исследования способствует углублению представлен ния о мелодическом портретировании с учетом социальных, культурологических: и стилистических тенденций эпохи, а также осмыслению преемственности в области семантики прошлых и современных видов мелоса, что позволяет наметить новые пути к изучению сложной картины мелодиеобразования нашей эпохи под углом зрения диалектики общего-особенного-единичного.
Отдельное внимание в работе уделяется двум разновидностям романтической мелодии как наиболее актуальным и в музыке XX века - бесконечной мелодии (Э.Курс) и афористическому мелодическому образованию, семантика которых характеризуется гиперболизацией одной стороны моделируемого мира и сопровождается распадом портретной целостности.
Известно, что мелодия не относится к элементарным выразительным средствам, а является синкретическим образованием, немыслимым вне организующих ее основ: лада, ритма, тембра и т.д.
Б то же время мелодия тесно зависит от контекста, в котором она функционирует. Поэтому в русле вопросов, связанных с мелодией, пересекаются другие актуальные вопросы музыковедения. Так, издавна мелодия исследовалась в единстве с учениями о гармонии, контрапункте и основах формообразования, в связи с теориями ритма и метра, с практикой оркестровки и т.д. Относительно недавно мелодия стала изучаться как самостоятельный компонент факторы, имеющий конкретную фактурную функцию и вытекающие отсюда выразительные возможности. Фактура является ближайшей и непосредственной средой мелодической "жизни". Объединяя в своей сложной иерархической организации многие разнофункциональные элементы, музыкальная фактура включает мелодию на правах ведущей своей составляющей, воздействуя на нее и в то же время подчиняясь ее мощной выразительности. Особенно актуальна эта проблема для изучения музыки XX века,предъявляющей к фактуре особые требования,выдвигая ее как целостность на передние рубежи становления музыкального произведения. Закономерен потому оживившийся в последнее время интерес к проблемам фактуры в музыкознании, который ознаменовался более глубоким осмыслением этого явления (30, 80, 103, 112).
Соотношение мелодии и целостной фактуры в настоящей работе изучается с позиции "от части к целому". Индуктивный подход способствует конкретизации семантики фактурной ткани, так как исходным пунктом пути анализа является мелодия, погруженная в фактурный контекст и обладающая способностью к персонификации. Двойная зависимость мелодии и фактуры в какой-то степени изоморфна взаимодействию мелодии-темы с формой произведения или его крупной части. Если первая дихотомия (мелодия-фактура) проявляется прежде всего как пространственная структура, то вторая (мелодия-форма) действует в процессуальном разрезе музыкального формообразования. Обе целостности, содержащие мелодию на правах системообразующего элемента, пересекаются друг с другом, а сферой их пересечения выступает экспозиционный раздел формы, в котором пространственная стабильность и процессуальность уравновешивают друг друга в той или иной степени. Судьба экспозиционной функции формы - актуальная музыкально-теоретическая проблема, которая перекликается с вышеизложенными и поэтому затрагивается в данной работе.
Материалом исследования послужили партитуры преимущественно непрограммных,несценических, свободных от слова инструментальных произведений, мелодия которых лишена непосредственных внемузы-кальных стимулов: текста, объявленного сюжета, прикладного предназначения и т.д., где руководство осуществляет "своя выразительность" (Б.Асафьев). Вместе с тем, общетеоретические разделы и особенно рассуждения о мелодическом инварианте подразумевают мелодию как музыкальную универсалию, и потому содержащиеся здесь выводы могут быть отнесены к любому текстологическому виду мелоса.
Диссертация содержит четыре главы, каждая из которых обладает своим ракурсом "представления" основного предмета исследования: логико-понятийная проблематика преобладает в первой главе, историко-эстетическая - во второй, обзорно-аналитическая - в третьей и конкретно-стилистическая - в четвертой. Современный этап музыкального творчества анализируется на примере советской оркестровой музыки. Классификация типов мелодики осуществляется на материале, разноликом в стилевом отношении и разнонациональном, в то время как круг стилистических обзоров ограничен двумя авторами, которые представляют одну национальную композиторскую школу - русскую, относятся примерно к одному поколению и активно работают в инструментальных жанрах: Б.Чайковский и Б.Тищенко.Каждый из них обладает своим творческим почерком, каждому не чужд поиск и апробация новых средств музыкальной выразительности, подчиненных главной цели искусства социалистического реализма - полнокровному отражению процессов современной духовной жизни.
Основная теоретическая установка работы направлена на то, чтобы углубить традиционный для музыковедения вопрос о сущности мелодии, осуществить одну из первых систематизации современных мелодических средств в инструментальном творчестве, наметить новые повороты в решении некоторых актуальных теоретических проблем - фактуры, тематизма, исполнительской интерпретации и др., а также расширить представление о глубоких внутренних связях между произведениями разных видов искусства, созвучных общему социально-художественному контексту.
10 Г Л А" В A I
Тезис о необъятных выразительных возможностях мелодического начала в музыке стал аксиомой, в то время как истоки и сущность этого явления до сих пор обсуждаются и пока не нашли исчерпывающего объяснения. Известные расхождения во взглядах на мелодию обусловлены историческим развитием музыкальной практики и музыковедческой науки. Вновь возникающие стилевые формы мелодии вызывали к жизни и новые дефиниции, которые большей частью отражали отдельный исторический этап развития мелоса. Сам термин "мелодия" в обиходе музыковедческого анализа применялся нестрого и до сих пор нередко оказывается синонимичным другим понятиям музыкальной теории. В результате собственный смысл термина "мелодия" стал нуждаться в особой конкретизации, целью которой должна стать выработка понятия мелодического инварианта - абстракции, обобщающей сущностно-необходимые свойства мелодии. Поэтому основной вопрос данной главы - о семантике мелодии - решается в тесном единстве с понятийным обоснованием предмета исследования.
I. Мелодия в ряду смежных с ней понятий
Для выяснения терминологической специфики понятия мелодии сопоставим сложившиеся в музыковедении представления о нём с другими понятиями: во-первых, с такими, которые ему близки и часто взаимозаменяются в практике аналитических исследований - интонацией и монодией; во-вторых, - с понятиями, которые трактуются обычно как противоположные мелодии. Рассмотрение последних целесообразно проводить в оппозиции мелодии с условным ее антиподом -"немелодией" при разной терминологической интерпретации ее членов.
Интонация и мелодия - понятия взаимопересекающиеся, имеющие широкую иерархическую систему значений. Так, интонация в на- иболее узком понимании подразумевает краткий материально-звуковой элемент музыкального текста, а в наиболее широком, эстетиче-ском плане - "качество осмысленного произношения в музыке ( 12, с.24).
В случае узко-конструктивного понимания терминов "мелодия" и "интонация" возможно условное совпадение их значений. Так, по принципу конкретно-осязаемой звуковой организации интонация и мелодия подразумевают обособленное музыкальное образование, организованное горизонтально. Такое понимание обоих терминов часто связано не столько с теоретически осознанным их употреблением,сколько с утилитарным, "попутным" вовлечением их в сферу анализа. Заметим, что :в зарубежном музыкознании конструктивное понимание мелодии, отвлеченное от эстетико-смыслового обобщения, подчас становится и определяющим. Вот некоторые из созвучных друг другу определений: "Мелодия - последовательность звуков, отличных по высоте и имеющих распознаваемую музыкальную форму" (160, с.233), "последовательность музыкальных тонов, которая обладает определенной формой и рисунком" (168, с.315); "Мелодия в широком смысле - последовательность музыкальных тонов, в противовес гармонии, где музыкальные тоны звучат одновременно" (152, с.357); "Мелодия -это организация последовательности музыкальных звуков в отношении высоты; такое наиболее примитивное состояние ещё требует ритма, но может быть свободным от гармонии, которая переводит мелодию в более широкую категорию" (170, с.108) и т.д.
В немецкой музыковедческой терминологии используется ла тинский термин оСіабістаЛсс для обозначения после довательности тонов, абстрактно понимаемой вне ритма в виде опор ного звуковысотного стержня. Произвольно выделенная звуковысот- ная графика мелодической линии без ритмических обозначений слу жит вспомогательной цели обнажения ладовых закономерностей мело- дичеекого образования (149, с.15)3Л
Преобладание конструктивного аспекта в подходе к мелодии берет начало от дошедшего до нас высказывания Аристоксена, в котором мелодия формулируется как "интервально-ступенчатое движение звуков" (132, с.511). В течение долгих веков теоретики не могли преодолеть конструктивный уклон в выведении дефиниции мелодии. Так, в той же плоскости находится физико-акустическая концепция Гельмгольца. Вовлекая мелодию в более широкий крут проблем, ученый определяет ее как "последование отдельных звуков различной высоты" (155, с.XIX). В начале XX века кульминацией схоластического представления о мелодии выступила концепция Э.Тоха, построенная на основе формально-конструктивных методов анализа изучаемого феномена: "Мелодия монет быть определена как многообразное по высоте и ритму последование звуков" (128, с.II).
Соотнося дифференцированно конструктивный подход к мелодии с аналогичным представлением об интонации как "связи музыкальных тонов по горизонтали" (119, с.550), можно видеть в них смысловое тождество, которое и служит причиной внешней синонимичности этих понятий в аналитическом лексиконе. Вместе с тем, узко-звуковое представление о мелодии и интонации имеет право на существование лишь в качестве вспомогательного и прикладного, но не может претендовать на значение полноправного научного определения.
В сущности своей понятия "мелодия" и "интонация" не совпадают, хотя имеют ряд общих свойств. Плоскость пересечения их значений зависит от степени широты трактовки обоих понятий.
Так, для изучения расчлененности музыкальной дасди в музыковедении используются термины масштабно-тематической структуры, введенные Л.Мазелем и Цуккерманом (76, с.84), а ташке интонации. Однако если первый направлен на изучение синтаксических особенностей мелодии, то понятие "интонация" в данном случае связано с ІЗ констатацией семантической единицы музыкального высказывания. Б.Асафьев подчеркивал способность ярких, содернательных интонационных оборотов представительствовать от лица всего мелодического образа, быть "проводниками памяти, и оценочными признаками, и нормами суждений" (12, с.266). Прослеживая пути формирования интонационного словаря эпохи, Асафьев писал: "Они (интонации - Н.С.) не отвлеченные представления, а живые интонации. Их нельзя назвать формами, периодами, схемами, конструкциями, непременно мелодиями, непременно фрагментами. Они отрываются от породивших их произведений: они становятся как бы словами музыки, а их словарь мог бы быть справочником по излюбленным содержательным звукосочетаниям той или иной эпохи" (12, с.266). Очевидно, интонация понимается и как материальная субстанция и как содержательная, обусловливающая музыкальную семантику. Выступая частью целостного мелодического процесса, интонация обретает относительную самостоятельность в силу выразительного значения сопряженных с ней звуков. Зависимость интонации от мелодии как части от целого и наоборот -опосредованно отражается в бытовании понятия "интонационно-мелодический оборот", точнее фиксирующего терминологическую ситуацию.
Значения понятий "мелодия" и "интонация" пересекаются и в сфере их общеэстетического осмысления. Так, известные определения Асафьева: "интонация есть звукообразный смысл"; человеческая интонация как проявление мысли"; "образно-звуковое отображение действительности" (12, с.275,, с.211, с.313) вполне могли бы быть отнесены к мелодии в ее широком смысле, на что указывал и сам Асафьев, подчеркивая мелосную, текучую сущность интонирования музыкального в отличие от речевого. Вместе с тем, проводя мысль о генетическом родстве и теснейшей зависимости обеих категорий, Асафьев разводит их значения. Как известно, интонирование он понимает как способ обнаружения, "звукопроявления" музыки, независимо от кон-
14 кретного вида звуковых соотношений, поэтому интонационны по Асафьеву и немелодические музыкальные средства, если они выступают носителями образного смысла. Следуя данной мысли Асафьева, Е. Ручьевская предлагает удачное, на наш взгляд, функциональное определение интонации: "Функция интонации - быть носителем худоявственного смысла в данном художественном контексте" (106,с.130). Тем самым снимается необходимость конкретизации материально-звуковых форм интонации, а её эстетический смысл становится всеобъемлющим. Мелодия же определяется всегда через саму собой разумеющуюся звуковую форму - связи тонов по горизонтали1"'.
Проведенное размежевание значений кардинальных понятий музыковедения свидетельствует о возможности и, пожалуй, необходимости на данном этапе исследования сосуществования нескольких дефиниций обоих явлений: наиболее общего, исходного - и частных, конкретно-стилевых,- в связи с универсальностью обоих музыкальных феноменов, множественностью и разнородностью критериев для их обобщения.
Другое понятие, близкое понятию мелодии, но не заменяющее его - монодия. Известно, что монодия есть изначально мыслимое одноголосие, не предполагающее рядом с собой каких-либо иных фактурных образований. Монодию подчас определяют посредством понятия "мелодия"., Так, С.Кушнарев пишет: "Монодия - музыкальное произведение, в образовании формы которого мелодическое начало выступает в качестве самодовлеющего" (66,с.3). В данном случае мелодия синонимична одноголосию вообще и понимается в сугубо структурном значении - как средство образования формы. Между тем, монодия не сводима к одноголосию, о чем свидетельствуют некоторые образцы мо-нодического искусства,дошедшие до наших дней в музыкальной культуре народов Востока.Одна из исследователей монодии С.П.Галицкая. справедливо замечает,что монодию нельзя определить через категории "одноголосия" и "мелодии", взятых в отдельности (32, с.22).
Для удобства определения функциональной однослойности монодии Га-лицкая предлагает использовать понятие "однолинейность", введенное в обиход музыковедческого анализа Б.Асафьевым ( 12, с.134).
Таким образом, монодия - понятие фактурное,обозначающее один из фактурных складов наряду с полифонией, гомофонией и т.д. В зоне действия принципа однолинейности понятия мелодии и монодии сближаются. Их соотношение можно интерпретировать на основании дихотомии терминов структура и функция, где монодия выступает как структура, а мелодия - как её функция. Однако это справедливо лишь по отношению к монодической фактуре, в иных же фактурных складах данные понятия становятся принципиально нерядоположными, так как принадлежат разным уровням в системе музыковедческой терминологии.
Теперь обратимся к современному состоянию представлений о мелодии и рассмотрим поочередно основные бытующие критерии отграничения мелодических явлений в музыке от немелодических. Оппозиция "мелодия - немелодия" в творчестве отличается условностью, относительностью, гибкостью градации между ее членами. И все же некоторые объективно существующие факторы позволяют проводить подобное разграничение. Сущностью данной оппозиции служит противопоставление двух групп явлений: максимально тяготеющих к феномену мелодического, "притягивающихся" к его логическому абсолюту, -и минимально близких ему, "отталкивающих" от его естества. Необходимость рассуждений "от противного", от немелодии, кажется нам полезной, так как помогает конкретизировать само понятие мелодии и очертить его специфические стороны.
Выделим три наиболее общих и вместе с тем разноуровневых критерия в различении членов оппозиции мелодия-немелодия: ценностно-эстетический, жанровый и контекстный, - и рассмотрим их поочередно. "Данное произведение мне не понравилось, так как в нем отсутствует яркий мелодизм", - такую фразу довольно часто можно услышать из уст не только дилетанта, но и музыканта-профессионала, имеющего определенные вкусовые пристрастия и более или менее широкий "словарный запас" усвоенных разных стилевых норм. Приведенное замечание вовсе не означает, что в прослушанном произведении совсем отсутствует мелодическое начало, а скорее свидетельствует о том, что оно не отвечало вполне конкретным эстетическим требованиям, которые слушатель предъявил к нему на основании существующих в его тезаурусе эталонов мелодической яркости. Каковы не эти эталоны? Данный вопрос можно подразделить на два подвопро-са: об объективной ценности самого мелодического начала в музыке, и о художественных достоинствах отдельных его разновидностей, которые отражают существование некой иерархии ценностей внутри целого. Оба вопроса имеют большую актуальность в настоящее время и связаны с широким кругом проблем о природе художественной ценности в музыке6/.
Для слушателя, воспитанного на европейских музыкальных традициях, важное значение мелодии - музыкальной мысли, выраженной в одном голосе - не требует особых доказательств. Мелодия воспринимается как концентрат содержательности, имеет способность представительствовать от крупного музыкального произведения. Способность эту мелодия приобрела в конкретной своей форме - гомофонной, где впервые раскрепостились выразительные возможности мелодии и она заявила о себе в полный голос.
Современные данные музыкальной психологии, и прежде всего, опыты А.Костюка, свидетельствуют о том, что слушатель, воспитанный в традициях европейской музыки, ориентируется при восприятии ее на мелодическое начало. В одной из последних статей ученого, которая симптоматично называется "О мелодической ориентации му- зыкального восприятия", доказывается тезис, что наряду с индивидуальной вариативностью процесса музыкального восприятия для него характерна следующая закономерность: "Если правомерно называть восприятие произведений данного вида искусства восприятием музыкальным, то в этом же контексте не менее правомерно считать его также восприятием мелодическим, уточняя далее пределы, в которых мелодическое качество восприятия доподлинно имеет место..." (62, с.115). "Восприятие мелодии, - пишет далее Костюк, - является обнаружением и освоением в музыкальном контексте одноголосно выраженной мысли". Объективная ценность мелодического начала признается, следовательно, и экспериментально.
Распознавание ценности внутри мелодического начала в большой степени опосредованно индивидуальными параметрами слушательского восприятия, а также субъективными факторами процесса исполнения и коммуникации. Однако и здесь выделяются некоторые относительные константы. Одной из них можно считать приверженность большинства слушателей к песенной, кантиленной мелодии.Сказываются также социально-исторические и национальные пристрастия различных общественных групп, стилевые "моды" на мелодию и т.д. Вопрос о ценности отдельных типов мелодии и отдельных ее художественных образцов ждет своего решения. Он связан с нахождением объективных критериев художественной ценности музыки, а также с проблемой адекватности музыкального восприятия и представляет собой важную область дальнейших научных изысканий.
Один из возможных шагов в этом направлении - определение жанровой сферы музыки, в которой мелодическое начало проявляется с особой полнотой. Удобно в этой связи взять за основу положение С.Скребкова о трех наиболее общих типологических истоках музыкальных жанров - жанровых наклонениях, - к которым исследователь причисляет кантилену, речитатив и моторику (III, с.18).
Мелодическое начало, мелодийность в обобщенном плане проявляется, по мысли ряда ученых, через кантилену, песенность в широком смысле слова. Ограничение сферы действия мелодии рамками одного жанра - кантилены - имеет естественные предпосылки, которые обнаруживаются в самой этимологии слова "мелодия" ("способ пения"), а также в первичной форме обнаружения мелодии - в вокальном одноголосном интонировании. Индивидуализация мелодического профиля осуществлялась прежде всего в формах, имеющих лирическое, кантиленное происхождение, что наблюдается как в народном, так и в профессиональном творчестве. Так, В.Елатов, исследуя мелодику белорусского музыкального фольклора, выделяет жанр лирической песни как высшее выражение завоеванного путем долгой эволюции господства внутримузыкальных закономерностей - распевности, широты дыхания, где "образные обобщения эстетизированы, т.е. освобождены от выполнения узко прикладных предназначений" (46, с.32). В европейской профессиональной культуре с расцветом стиля bd tcunto и раскрепощенной мелодики классиков, в условиях гомофонной концентрации выразительности в одном фактурном измерении певучая мелодия становится эквивалентом лирического начала, интегрируя в себе обобщенные свойства художественного образа. Большинство эстетических рассуждений о мелодии гомофонного типа в ХУП-ХІХ веках подразумевали кантиленный ее вид, который представлялся эталоном мелодической красоты. Так, й.Маттесон, автор первого развитого учения о мелодии ( 91 ), видел достижение мелодического совершенства в соблюдении четырех семантических требований: легкости, ясности, плавности и красоты, - которые возможны в условиях кантилены (91, с.259). Лирическую гомофонную мелодию защищал и Метастазио, понимая ее как "ясную, парящую линию" (166, с.259). 1.Руссо прямо определяет мелодию через слово "напев", тем самым безоговорочно признавая ее вокальную природу: "Всякая музыка состоит из трех частей: мелодии или напева, гармонии или аккомпанемента, движения или ритма" (91, СЛІ7-4І8).
Ограничение мелодии сферой лирической кантилены свойственно высказываниям Г.Гегеля, которому принадлежит оригинальная концепция мелодии. Философ разделяет музыку на мелодическую и характерную, понимая под мелодической музыкой "связующее единство, а не беспорядочную разбросанность отдельных характерных черт" (б,с.332) Разделяя музыку на три жанровых сферы - эпическую, лирическую и драматическую, Гегель именно лирическую сферу определяет через категорию мелодии: "Лирическая музыка - мелодически выражающая отдельные душевные настроения", "нечто замкнутое и покоящееся в себе", "содержание же мелодии - субъективность и ничего более" (б, с.334-335).
Важным этапом на пути осознания вокальной природы мелодийно-сти в музыке является учение Б.Асафьева.
Различая понятия мелодии и мелоса, Асафьев констатирует в мелодических явлениях два взаимообусловленных начала: конкретную звуковую форму - горизонтальную последовательность тонов, - и пластику дыхания как могучего динамического средства объединения. Понятие "мелос" у Асафьева выносится за пределы жанра кантилены и прилагается к музыке в целом, однако песенность, вокальность признается одной из его основ, о чём свидетельствует, в частности, следующее высказывание учёного: "Мелос прежде всего включает в себя главное в музыке: напевность, сопряженность, динамичность"(12, с.197). Возводя понятие "мелос" в ранг эстетической категории, Асафьев тем не менее проводит мысль об эволюции музыкального искусства по пути накопления мелоса, которая проходила "извилистыми путями, и в каждой крупной области и стране по своему, да еще ... в связи с изменениями в области языка" (12, с.308). Вершиной этого Процесса и было формирование подлинной мелодии, сущ- ность которой определяется как "непрерывность, плавность "вливания", вдевания тона в тон" (12, с.321), посредством чего она способна стать "самым чутким" голосом эмоциональности" (12,с.312)'/.
Современное советское музыковедение, развивая идеи Асафьева, пытается ответить на вопрос о природе художественной ценности напевной мелодии и о ее судьбе в сложно развивающемся современном музыкальном творчестве. Этот вопрос обсуждается в работах С.Григорьева, М.Арановокого, В.Медушевского, Е.Ручьевской, В.Холоповой и др. Все они отмечают, что кантилена часто отождествляется с ме-лодийностью вообще и является концентратом специфических мелодических свойств.
Жанровый критерий в типологии мелодии нельзя назвать основополагающим для практики музыковедческого анализа прежде всего потому, что в творчестве большей частью мелодические жанры свободно переплетаются и создают своеобразные жанровые сплавы, что особенно показательно для музыки XX века. Кроме того, существуют разные стилевые типы кантилены, которые зависят от интонационного словаря эпохи, имеющего своеобразную инерцию в общественном сознании-восприятии и особенно в жанре кантилены. Коренная перестройка интонационного фонда часто затрудняет осознание мелодического процесса в его целостности и связанности, без чего не может быть речи не только о кантилене, но и о мелодии как таковой.Большое значение имеет здесь ладо-гармоническая система, в которой "оживают" новые интонационные резервы. Примером неадекватной оценки слушателем кантилены может служить известная судьба лирики в творчестве С.Прокофьева, услышанной современниками композитора через значительный промежуток времени после ее рождения.
Еще один широкий взгляд на оппозицию "мелодия-немелодия" обусловлен особенностями языка и структуры музыкального произведения. Дифференциация мелодического и немелодического в музыкальном
21 тексте как правило относительна и колеблется дане в рамках одного сочинения. Тем не менее, можно отметить ряд исторически сложившихся критериев их различения. Во-первых, данная оппозиция действует в музыкальной фактуре и связана с разнофункциональностью ее пространственных слоев. Во-вторых, она находит преломление и по горизонтали - в виде соотношения мелодии и общих форм движения, а также в процессе интонационно-мелодического изложения и развития - т.е. в плане формообразования.
Осознание относительной самостоятельности законов "жизни" мелодической линии в многоголосном целом демонстрирует вся история учений о мелодии,начиная от системы Фукса, опирающейся на принцип логического абстрагирования одного голоса контрапунктической фактуры - саліьил LbtnUA .Наиболее явственно внимание к мелодии как содержательно насыщенному музыкальному явлению обнаружилось к ХУШ веку - периоду окончательной кристаллизации гомофонного мелоса, и прежде всего - в упоминавшейся выше теории И.Маттесона, положения которой направлены на апологетику мелодии в противовес гармонии Л Проблемы мелодической семантики изучались в этот период в учениях о музыкальной риторике, в теории аффектов, согласно которой мелодическая мысль обусловливается внезапной фантазией и потому должна воплощаться в нескольких звуках в виде импульса к развитию; в теории музыкального стиха и прозы ', затрагиваются они в формально-субъективных представлениях Негелиса, Ганслика и др., но прежде всего - в гармонических концепциях, продолжающих развивать позиции Рамо и Руссо в их споре о первичности,а также в учениях о композии,подобно трудам А.Маркса и Г.Шенкера,и др.Показательно,что и в XX веке сохранили свое значение многие из названных аспектов изучения мелодии.Так,гармоническая концепция мелодии представлена в теории П.Хиндемита,согласно которой мелодия генетически выте- кает из гармонии и ею целиком обусловливается. "Генеральные правила мелодии, - пишет Хиндемит, - это правила тональности, которая является супермелодией" (158, с.93); теория мелодической прозы косвенно отразилась в понятии эмансипированной мелодии А.Шенберга, т.е. мелодии, освобожденной от основ гармонии и тональности.
З.Куртом было возрождено доклассическое представление о мелодии - линии многоголосной ткани, обладающей свойством первоосновы музыкального процесса. Обращение к полифоническому мелосу И.С.Баха способствовало расширению понятия "мелодия" - с одной стороны, а с другой - разрыву энергетического взгляда Курта с традиционной антимонией мелодии и гармонии, которая к этому времени практически стала малоплодотворным методом исследования мелодии. Наконец, Б.Асафьев возводит понятия интонации и мелоса в ранг общемузыкальных универсалий. Как отмечалось выше, Асафьев трактует м;елодию, подобно интонации, неоднозначно и использует целую группу однокоренных терминов, имеющих разную широту обобщения мелодических явлений: самое широкое понятие - мелос, далее -мелодийность, мелодия как форма мелоса, интонационно-мелодическая линия, рисунок и т.д. Но самое главное - ученый делает огромный шаг вперед на пути объяснения тайн мелодической выразительности, которые он раскрывает с помощью теории интонации.
В разработке учения о мелодии гомофонного типа выдающаяся роль принадлежит Л.Мазелю, заслуга которого заключена в следующем: I) ученый выработал особую методику и терминологию для мелодического анализа, а также использовал ее при исследовании ряда мелодических стилей; 2) он научно разрешил проблему "мелодия -гармония", обосновав сосуществование двух функций мелодии и гармонии, соотношение между которыми исторически вариативно - выразительной и конструктивной; Мазель показал, что усиление одной из этих функций в мелодии сопровождается ослаблением ее в гармонии, и отсюда - 3) определил ведущую тенденцию в развитии современной мелодики, которая выражается в том, что "мелодическая линия, даже опирающаяся на поддержку других голосов, более явна, очевидно и непосредственно участвует в конструировании музыкального целого и самой себя" (75, с.199). Мазель ввел содержательный аспект в определение мелодии, подчеркнув в противовес определениям зарубежных музыковедов, что мелодия - не просто одноголосная последовательность звуков, а "музыкальная мысль, выраженная в одном голосе". Учение Мазеля можно признать на сегодняшний день кульминацией мысли о мелодии как относительно самостоятельной музыкальной субстанции.
В отличие от Л.Мазеля, который находит "особый язык" анализа мелодического начала, английский музыковед А.Эдварде предпочитает путь дедукции широкой общемузыкальной проблематики на учение о мелодии. Таким образом родилась оригинальная концепция, в центре которой представление о мелодии с трех точек зрения: тоново-акустических связей, эстетических принципов формования и законов психологического воздействия (154, с.ХУП). В зарубежном музыкознании работа Эдвардса исключительна, так как технологический крен остается главным недостатком общей картины представлений о мелодии. Между тем, продвинуться вперед в постижении законов этого сложного музыкального средства невозможно без выхода в сферу эстетики, культурологии, музыкальной психологии и других наук об искусстве. Свидетельство этому - современный этап теоретических изысканий в области мелодики, и прежде всего - работы советских музыковедов и ряда ученых социалистических стран. Среди них - капитальный труд Б.Сабольчи "История мелодии", в котором обозреваются последовательно сменяющие друт друга мелодические стили на общей картине развития музыкального искусства; исследование
И.Янечека "Мелодика", в котором проблеме мелодического образа отводится центральное место; книга Д.Христова "Теоретические основы мелодики", содержащая интересные положения, развивающие интонационную теорию Б.Асафьева;работы С.Григорьева и М.Арановско-го, развернутые на примерах стилей отдельных композиторов и др.
В последнее время в работах о мелодии обнаружилась новая тенденция, согласно которой изучать мелодию в отрыве от многоголосного контекста - среды ее функционирования - нецелесообразно. Усиливающаяся зависимость мелодии от окружения становится реальным фактом музыкального творчества, более того, процесс интеграции планов фактуры (107) оказывает порой разрушительное воздействие на саму мелодию, коренным образом изменяя ее внешний и внутренний облик. На этой почве раздаются пессимистические прогнозы о судьбе мелодического начала, выдвигаются сомнительные тезисы о возможности бытия музыки без мелодии (79) и предпринимаются эксперименты в этой области. Не вдаваясь в оценку подобных явлений, заметим, что они не проходят незамеченными и заставляют теоретиков пересматривать прежние позиции. Некоторые ученые отмечают значительную коррекцию мелодических свойств в условиях многоголосия и потому считают,что.учения'омелодии как такового вовсе быть не может. Подобной точки зрения, в частности, придерживается Ю. Холопов (132, с.512). Однако большинство исследователей не склоняются к этой мысли, а ищут ответа на вопрос о путях построения нового мелодического учения с учетом контекстных условий. Прежде всего,пересматриваются определения мелодии. Так, в работах М.Папуша доказывается логическое противоречие в бытующих определениях мелодии, связанное с недоучетом контекстной ситуации мелодического бытия. Папуш предложил следующее определение: "Мелодия -это обладающая определенным музыкальным смыслом одноголосная последовательность звуков, выделяемая из контекста ..., но воспринимаемая в контексте" (IOI, с.305).
Идея тесной зависимости мелодического начала от многоголосного целого проводится и в учении о мелодии чешского исследователя К.Янечека, который анализирует степень зависимости выразительного качества мелодии от контекста, используя понятия самобытной и связанной мелодии10''. Самобытную мелодию Янечек называет мелодией в собственном смысле слова или абсолютной и видит ее идеальное проявление в кантилене, однако считает, что в живой музыкальной практике такой абсолют встречается не слишком часто.
В иных словесных терминах анализирует зависимость мелодии от контекста Д.Христов. Он вводит понятие "рефлексия", которое "фиксирует чрезвычайно важное явление взаимодействия мелодии и комплекса всех остальных элементов музыкального языка - гармонии, фактуры, ритма и т.д. Рефлексия выражает момент взаимовлияния общего и частного, в том числе, мелодических особенностей на звучание музыкального целого, и наоборот, взаимодействие этого музыкального целого на мелодику" (138, с.169). Таким образом, прямая и обратная зависимость между мелодией и контекстом ныне осознается как важная и актуальная проблема музыкальной теории.
Развитие представлений о музыкальной фактуре, которое активизировалось в последнее время, стимулировало интерес к проблеме координации различных ее мелодических и немелодических планов, а косвенным образом - и к проблеме мелодии в ее взаимоотношениях с контекстом. Изучаются следующие проблемы: специфика мелодии в полифонической и гомофонной фактуре (Е.Ручьевская, Н.Бать, М. Скребкова-Филатова и др.), особые возможности фактурного "свертывания" в мелодии (В.Панкратов, В.Цытович), психологические механизмы восприятия мелодических структур в пространственном кон-тинуме фактуры (Е.Назайкинский), мелодия и фактура как семиотические образования (В.Медушевский) и др. Картина современных изы- еканий в этой области свидетельствует об актуальности и неразработанности данной проблематики, а также о ее сложности, обусловленной тем, что на ней пересекаются многие важные музыковедческие проблемы.
Контекст, окружающий мелодию, как уже говорилось, материализуется не только в виде фактуры. В определенном смысле слова, таковую роль по отношению к мелодии выполняет и форма в целом.Если фактура, реализует собой одновременную связь двух феноменов,то форма - разновременную их связь. Мелодия приобретает в форме функцию темы и таким образом включается в тематическую организацию произведения на правах относительно самостоятельного образования, имеющего, однако, теснейшие узы композиционной связи с предшествующими и последующими музыкальными событиями. Ориентируясь на принятую в современной музыкальной теории функциональную трактовку темы (В.Бобровский, й.Ручьевская, Б.Валькова и др.), можно отметить неоднозначность понятия темы и мелодии, их диалектическое соотношение, которое заключено в том, что тема как рельефный материал воплощается прежде всего в мелодии, а мелодия в контексте музыкальной формы естественно наделяется драматургической функцией темы *'.
В современной музыковедческой литературе активно изучается и соотношение мелодии и общих форм движения (ОФД). Отражением данной проблематики можно считать учения о фигурации, орнаментике, о различении рельефа и фона и т.д. Оппозиция мелодии - ОФД является привилегией инструментальной музыки и может действовать как в многоголосии, так и в одноголосии12/.
Рассмотренные представления о мелодии и немелодии демонстрируют множественность позиций в подходе к этой проблеме, что мешает вести однопредметный разговор о судьбах мелодии, о формах ее современного бытия, а также аргументировать художественную оценку отдельных вновь рождающихся музыкальных произведений, степень их направленности на слушательское восприятие. Все эти тяжело преодолеваемые трудности современного состояния теоретических и обыденных представлений о мелодии можно, на наш взгляд, попытаться сгладить путем рассмотрения этого феномена "с обратной стороны" - с точки зрения его семантической специфики, хотя и связанной с общим содержательным контекстом, но все ае обладающей собственным спектром значений. Избранный нами ракурс исследования будет опираться на представление о мелодии в широком и тесном смыслах слова, - инварианта и стилистического типа - которые вбирают в себя все вышеизложенные и претендуют на всеохватность.
2. Мелодический инвариант "Каждой эпохе приходилось заново завоевывать свою мелодику", - заметил в одной из статей немецкий музыковед В.Зигмунд-Шульце (48, с.174). Мысль о чрезвычайной стилевой мобильности мелодических средств музыки сейчас аксиоматична. Однако очевидно также, что сменяющие друг друга мелодические стили имеют в своей основе нечто общее, указывающее на их однокоренную природу. Для изучения сущностно-необходимых признаков мелодии как специфического музыкального организма обратимся к абстрагированию его в качестве инварианта, содержащего в очищенной от случайного логической форме устойчивые признаки данного феномена.
Понятие инварианта в научной терминологии обычно понимается двояко: либо как реальная "величина, остающаяся неизменной при тех или иных преобразованиях", либо как в структурной лингвистике - "абстрактная единица языка, обладающая совокупностью основных признаков всех ее конкретных реализаций" (114, с.493). Наше понимание инварианта ориентируется на вторую, абстрактно-логическую его формулировку.
Подход к изучению мелодии с точки зрения ее инвариантных свойств все чаще предпринимается в современном музыкознании,при этом исследователи идут преимущественно путем абстрагирования структурных признаков мелодической стабильности, оставляя в стороне её семантику. Мнения теоретиков о сущности мелодического инварианта :во многом смыкаются, причем используется как понятие инварианта, так и сходное с ним - мелодия в широком значении. Так, польский исследователь А.Прознак отмечает ряд свойств, необходимых для реализации мелодии в музыкальном произведении -конкретной мелодии, в то время как абстрактную мелодию характеризуют лишь некоторые из этих свойств - самые основные: высота, протяженность и связность. Все прочие свойства: тональность, стройность, цельность, плотность, оформленность и др. - Прознак считает второстепенными (165, с.134). В разведении мелодических свойств на два уровня - первичные и вторичные - ясно ощущается критерий стабильности, где первичные свойства могут быть осознаны как инвариантные. Мелодия в широком смысле привлек; кает внимание и М.Арановского, который выделяет пять признаков, необходимых для её образования: I) последовательность тонов; 2) возникновение линии; 3) интонационная связь тонов; 4) единство структуры; 5) единство содержания (10, с.36-37).
Широкое понимание мелодии в противовес тесному характеризуют Л.Назель и В.Цуккерман. Они определяют мелодию как "элемент музыки, представляющий собой высотные изменения (или шире - высотные соотношения) в одноголосной последовательности звуков" (76, с.42). Еще более лаконично определяет мелодический инвариант Т.Вернадская: "Мелодическими следует считать связи, рожденные взаимодействием тона с тоном горизонтали и образующие линию" (20, с.19).
Проблема мелодического инварианта ставится и А.Юсшиным, ко- торый акцентирует функциональные константы мелодии, давая ей следующую формулировку: "Мелодию можно определить как звуковое единство, обладающее устойчивостью структуры, вариативной подвижностью смысла и способное к выражению процессуально-развертывающейся информации" (14-5, с.77). Дефиниция мелодии А.Юсфина в отличие от вышеприведенных, не содержит требования одноголосной линии, а вместо него включает более обтекаемое и широкое по смыслу словосочетание "процессуально-развертывающаяся информация". На наш взгляд, такая замена нецелесообразна, так как нивелирует основной структурно-различительный признак мелодического феномена. Основным инвариантным свойством мелодии общепризнанно считается связь тонов по горизонтали, причем преимущественно мелодическим интервалом этой связи является секунда,создающая самое естественное ощущение перелива из тона в тон. Представление о мелодии как о линии, вытянутой по горизонтали, не лишено основания, так как,с одной стороны, вытекает из визуального восприятия нотной записи мелодии и линейного характера вербального мышления в целом, с другой же - обусловлено пространственными навыками слушательского опыта, в котором мелодии традиционно отводится место горизонтальной фактурной координаты. В литературе и практике анализа данное свойство осознания мелодии чаще всего выражается словом "линеарность", однако для окончательного определения мелодического инварианта этот термин оказывается неточным. Он способен определять собой исключительное положение мелодических явлений в фактурном пространстве - по горизонтали, в то же время он не указывает на функциональную однослойность мелодии и её семантическую единичность, особенно очевидную в многослойном фактурном контексте. Некоторые исследователи пытаются избежать этот недостаток, вводя в определение мелодии признак одноголосия. Дейст- вительно, одноголосие есть первичная и основная форма мелодии, имеющая генетические корни в речевом интонировании одного человека. Однако в музыкальной практике мелодический инвариант проявляется не только в одноголосии, но и в некоторых многоголосных явлениях с максимально интегрированным звуковым составом, где "каждый многозвучный комплекс должен оцениваться как функционально неделимый" (33, с.24). Образуется квазимелодия или мнимое одноголосие, к которому примыкают такие типы фактур, как дублиров-ка, гетерофония, мелодический пласт и др., где фоническое множество осмысливается через функциональное единство с "диффузным переплетением элементов" (33, с.28). Нарушение данного единства,как известно, случается не только в многоголосии, но и в одноголосии, вызывая иллюзию расслоения мелодии на скрытые голоса. Учитывая сказанное, позволим себе отказаться от общеупотребимого термина "линеарность", а воспользуемся понятием Б.Асафьева "однолиней-ность", которое указывает как на пространственную, так и на функциональную специфику мелодии в фактурной организации и способно охватить максимально широкий круг мелодических явлений.
Последовательность звуков, объединенных однолинейной связью - это конструктивная основа реализации мелодического инварианта. Она приобретает художественный смысл при условии внутренней упорядоченности и организованности. Константными уровнями упорядоченности мелодической линии являются следующие: I) акустико-пер-цептивннй; 2) уровень логической организации; 3) результирующий уровень - семантическая специфика мелодии.
С точки зрения музыкальной акустики и особенностей восприятия к мелодии предъявляются два основных требования: I) дискретность тоновой шкалы, чем достигается ясность фиксации высотного положения тонов '; 2) необходимость расположения тонов, составляющих мелодию, в сфере слуховой чувствительности, в "зоне отчет-
ЛИВОСТЕГ*'/ .
С акустической основой мелодии тесно связана другая ее предпосылка - буквальная или относительная темброво-регистровая однородность тонов, составляющих мелодическую линию. При соблюдении этого условия достигается эффект связности и материально-звуковой цельности высказывания, способствующий концентрации сообщения в одной пространственной зоне. По-видимому, существует средний оптимальный диапазон расстояний между тонами в разных регистрах,при котором связность и целостность мелодической линии не нарушается. Кроме того, единство тембра создает впечатление единства эмоционального тонуса, "прикрепления к одному лицу", от имени которого идет речь.. Способность музыкального тембра к персонификации имеет реальные прототипы в неисчерпаемой тембровой палитре человеческих голосов и в способности нашего восприятия узнавать знакомого человека по тембру его голоса. Как доказал Е.Назайкинский, тембровая определенность способствует осознанию звуковой предметности голоса, физической конкретности "интонационного звукового тела" (93, с.132).
Б музыкальной практике нередко встречается обратный прием -передача отдельных разделов развитого мелодического построения разным голосам - тембрам. Как правило, такие приемы обусловлены специальной драматургической задачей и способствуют разобщению разнотембровых мелодических частей как в пространстве, так и по смыслу. Чаще всего такие случаи продиктованы внутримелодической микросюжетностью или потребностью колористического расцвечивания.
К примеру, одна из тем финала квинтета Ye. 5 (К.452) Моцарта (прим.1) представляет собой период, предложения которого повторны в ритмическом отношении, но обратно-симметричны по направлению движения - нисходящему отвечает восходящее. Своеобразная идея отталкивания от звуковысотного центра (в ) в разные стороны под- черкнута и темброво: первое предложение излагает альт, второе -скрипки.
В главной партии из первой части квартета К.387 (прим.2) тембровые контрасты усиливают дробление в развитии мелодической линии: три мотива второго предложения (т.т. 5-6) схожи началом, но различны окончанием. Создается впечатление игровой переклички разнотембровых реплик, встроенных в целостное изложение мелодической мысли.
Отражением принципа микросюжетности служат и характерные для произведений Бетховена сопоставления в пределах одной темы ІмЬІи и ЬОш ,как, например, в главной партии первой части Четвертой симфонии (прим.З), что в данном случае осмысливается как героическая фанфарность призыва "к вниманию" - и массовое игровое действо. Идея игры лучше всего отвечает принципу микросюжетности, который реализуется с помощью гиперболизации внутримелодических контрастов. Так, в той же симфонии тема скерцо основана на противопоставлении отдельных разнотембровых фраз.
Отмеченные случаи разнотембрового изложения мелодии не оспаривают основополагающего значения для мелодической целостности принципа темброво-регистровой однородности, так как имеют иную направленность - расшатывания этой целостности.
Логической основой мелодической целостности и стройности служит ладовая организация. Ладовые тяготения обеспечивают связность, цельность, единство мелодического процесса, организуют "звуковое внимание" (145, с.9). Благодаря ладовой организации мелодия приобретает внутреннюю логическую структуру, различные уровни которой определяются историко-стилистическим и этнографическим контекстом. Эффект законченности мелодического процесса, стройности и соразмерности его формы также предопределяется ладовой организацией. Так, С.Беляева-Экземплярская эксперименталь-
33 но установила три типа мелодической законченности мелодии без гармонизации на примерах русских народных песен, среди которых законченность звуковысотная, ладовая стоит на первом месте и не всегда сосуществует с законченностью эстетической. Последняя может не соблюдаться в связи с особым художественным замыслом (19, с.69). Понятие законченности мелодии не тождественно понятию замкнутости, так как первое означает свойство функциональной целостности мелодической линии, в то время как второе - формальную ее отграниченность от последующего материала и четкость окончания, что стилистически предопределено.
Позволим себе не углубляться в обширный и ныне многогранно изучаемый вопрос о ладовой стороне мелодии. Констатируя ее основополагающее значение как фактора логической упорядоченности линии, дадим предварительную формулировку мелодического инварианта с учетом конструктивного и логического фактора: мелодический инвариант - это понятие, предполагающее последовательность и связь музыкальных тонов по горизонтали, функциональную однолинейность звуковысотного ряда, логическую упорядоченность линии на основе лада и структурную целостность.
Прежде чем приступить к анализу семантической специфики мелодии, выделим закономерности её временной организации, которые проявляются на всех трёх отмеченных уровнях мелодической структуры и потому не составляют её самостоятельного уровня. Так, мо-торность тяготеет прежде всего к перцептивному уровню, поскольку ориентируется на низшие слои психики, однако в более широкой системе художественного обобщения это ритмическое качество становится ванным свойством логического уровня, а порой - и семантического, о чём свидетельствуют такие широкие понятия, как жанровые ритмоформулы, ритмические эталоны стиля, стопы высшего порядка и др. Ритмический рисунок может служить средством интенсифика- ции ладовых опор и одновременно несёт характеристическую нагрузку. Ещё более широка сфера действия мускульно-динамического профиля мелодии, который имеет собственные стимулы, отличные от ритмических, что отмечал еще Э.Курт: "Сила движения в мелодическом доследовании заложена уже тогда, когда еще не ощущается пульсация ритма" (64, с.40). Мелодия - та сторона музыки, которая самым непосредственным образом связана с характером дыхания и двигательной пластики человеческого жизнеизъявления, а эти внешние атрибуты состояния личности прямо или косвенно отражают внутренние ее движения. Как показал Е.Медушевский, связь жизненной эмоции с движением служит прочной основой "перевода" воспринимаемой слушателем динамической логики мелодии, ее подъемов и спадов, нагнетаний и расслаблений и т.д. - в плоскость логики развития эмоции (81, с.70). Поэтому закономерности мускульно-динамической организации мелодии, с одной стороны, есть средство логической упорядоченности, цельности и связности данной структуры, а с другой, - ванное средство эмоциональной выразительности мелодического высказывания.
Особенно важна мускульно-динамическая логика мелодической линии в таком контексте, где слабо выражены иные, прежде всего гармонические стимулы организации. Отсутствие централизованной функциональной системы сопровождается активизацией собственно мелодических приемов объединения ткани, которые приобретают формообразующее значение не только для самой мелодии, но и для формы произведения в целом, так как горизонталь в такой форме -важнейшая координата ее становления. Все сказанное актуально для современного этапа музыкального творчества, где принципы мускульно-динамической организации мелодической линии становятся своеобразной моделью аналогичных процессов развития музыкальной формы. Не случайно поэтому понятие "фаза", введенное Э.Куртом для обозначения "первоначального мелодического формования, исходящего из напряжений движения" (64, с.4-8-49) - все чаще используется в теоретической литературе как при анализе мелодии, так и в отношении современных принципов формообразования. Фаза осознается музыковедами в качестве понятия, подразумевающего "единицу" законченного динамического процесса, наделенного характерным типом дыхания и пластики и особым тонусом напряженности, который прямо информирует об эмоции, закодированной при помощи данного динамического решения* Л
Мелодия объективно располагает собственными семантическими возможностями, которые в литературе, как правило, характеризуют количественным образом: "мелодия - самый выразительный элемент музыки", "средоточие музыкальной содержательности", "символ музыкально прекрасного" и т.д. Мелодическому началу отводят высшее место на пьедестале среди средств музыкального языка по ценностно-сравнительному принципу. Однако если мелодия может быть сравнима с немелодией количественно, то где-то глубоко должна быть сокрыта разгадка этому - качественное различие на уровне семантики.
Б.Асафьев назвал мелодию "человечнейшим из всех элементов музыки" (12, с.321), и это высказывание может быть ключом к решению поставленной проблемы. Действительно, генетически мелодия -самая естественная форма музыкального звукоизвлечения при помощи человеческого голоса. Интонация, рожденная пением одного человека, впитывает в себя все индивидуально-неповторимые его стороны, переплавляя их воедино в художественном синкретизме и закрепляя в своей семантической структуре обобщенно-личностную информацию о человеке. Содержание этой информации заключает в себе как обобщенно эмоциональные, общечеловеческие константы - состояния грусти, радости и др. - так и конкретно индивидуальные свойства,ко- торые и придают интонации "свое лицо". Так, грусть может быть меланхолической, светлой, трепетной, мрачной и т.д. Каждое выражение интонацией эмоции имеет свою конкретность, и градации этих конкретностей поистине неисчерпаемы, как неисчерпаемы человеческие характеры.
Способность интонации сообщать от лица человека о человеке обнаруживается прежде всего в мелодии - "голосовом" интонировании, происшедшем из пения, вобравшем в себя принцип человеческого дыхания, который впоследствии овладел всей музыкой и сделал ее независимым искусством. Интонационная конкретность мелодии может быть рассмотрена в эволюции, сущность которой - усиление индивидуальности и содержательности каждого оборота. В то же время ее можно констатировать и абсолютно, как непреложное свойство мелодии по сравнению с иными координатами музыкального становления. Мелодия - самый конкретный слой музыкального выражения, моделирующий мускульно-динамические и дыхательные процессы, которые опосредуют собой глубинно-эмоциональные состояния человека. Иерархия конкретностей чрезвычайно мобильна и зависит от стиля эпохи, жанра, идеи - т.е. от многих социокультурных, психологических и музыкально-типологических характеристик функционирования мелодии. Конкретность мелодии - это прежде всего эмоционально-образная конкретность, и менее всего - конкретность внешних аналогий с реальной жизнью, хотя последние и не противопоказаны ей.
Предмет конкретизации мелодии - духовный, спрятанный от внешнего наблюдения мир человеческой субъективности. Процесс эволюции мелоса демонстрирует неуклонное и мощное стремление к индивидуально-личностному. Усиление в мелодии черт субъективности вело к ее "одушевлению", наделению не только чертами абстрактного звукового образа, но и конкретной предметностью. Тенденция ме- лодии к достижению качества предметности есть по сути тенденция к становлению музыкальной темы, о чем пишет Е.Назайкикский, анализируя один из аспектов процесса персонификации мелодического тематизма - перерождение физической конкретности мелодии как "интонационного звукового тела" в конкретность собственно музыкальную, интонационно-выразительную (93, с.139). Достижение мелодией образной предметности ознаменовалось на высшей ступени ее развития - в музыке классиков, но эта возможность была реализована на объективной основе конкретности мелодической интонации. Предметность мелодии имеет гуманистическое содержание: за ней всегда подразумевается человек, имеющий неповторимое "лицо".Эмоция, рожденная мелодией, не абстрактна, а имеет прикрепление к человеку, адресована к нему. Вспоминается замечание С.Эйзенштейна: "Грусти "вообще" не бывает. Грусть конкретна, сюжетна, она имеет носителей, когда грустит действующее лицо, она имеет потребителей, когда грусть представлена так, что грустит и зритель" (142, с.37).
Известно, что образ человека - в центре музыки как искусства.В последнее время музыковеды все чаще склоняются к выводу о том,что содержание музыкальной образности вытекает из обобщенно-трактованной концепции Человека.М.Арановский посвятил этой проблеме исследование семантического инварианта симфонического цикла (II).Показательны в данном плане и статьи В.Медушевского (81,83, 84).Но человек неисчерпаем.Персонифицированный или подразумеваемый герой в искусстве предстает в многообразии своих жизненных проявлений .-ярких страстей, действенных столкновений со средой, в углубленных размышлениях и отстраненном созерцании.Мелодии же особенно подвластны такие стороны человеческого жизнеизъявления, которые представляют личность чувствующую и мыслящую более, чем действующую. Эволюция мелодии была направлена к усилению в ней
38 качества протяженности, объединенности дыханием, "впевания из тона в тон", тем самый мелодия все более становилась концентратом субъективности, воплощением сокровенного, областью лирики. Не удивительно, что рождение лирических жанров в музыкальном фольклоре разных народов ознаменовало новую качественную ступень художественного обобщения - "образной типизации" по словам В.Ела-това, в которой преобладает индивидуально-личностный момент восприятия окружающего, субъективная лирическая ассоциация, разлив чувств (46, с.58). Сходный процесс наблюдается и в развитии профессионального мелодического мышления: рождение вокального ш,н,-iediL в итальянской опере и стиля otl уьпло оказалось качественным скачком на пути развития музыкального искусства.
Еще Б.Асафьев, прослеживая путь исторической эволюции интонации, склонен был считать мелодию высшим качественным этапом на пути этой эволюции. Для того, чтобы подчеркнуть различие интонации "домелодической" и мелодической, Асафьев вводит и терминологическое разграничение: мелодия понимается им как эволюционно достигнутое интонационное качество, ставшее "в пении - дыхании независимым искусством - отражением обобщенной психики" (12, с.319). Рождение подлинной мелодии связано, по мысли Асафьева, с итальянской оперной практикой. "Можно сказать, что до этого музыка была ритмо-интонацией, высказыванием, произнесением: теперь она стала петь" (12, с.319). Качественным скачком в интонационном развитии музыки, следовательно, было овладение кантабильностью, что способствовало лиризации музыкального искусства, приближению его к человеческой личности как с точки зрения объекта отражения, так и с позиции субъекта восприятия, что дало повод Асафьеву назвать новую мелодию "самым чутким голосом эмоциональности" (12,с.312), а историческое стремление к ней - законом интонационного развития.
Отталкиваясь от идей Асафьева, Л.Мазель исследует те карди- нальные сдвиги в музыкальном языке, которые произошли в период ХУІ-ХУШ веков в музыкальном искусстве Западной Европы и привели к "возвышению" мелодии. "Мелодика итальянской оперы, - пишет Мазель, - должна была в конце концов сформироваться как типично вокальная, раскрывающая огромные выразительные возможности солирующего голоса, но дающая обобщенно-вокальные, а не конкретно-речевые характеристики эмоционального состояния" (74,с.55). Завоевание кантиленности, таким образом, Мазель считает сущностью скачка "в мелодию". Подобно Асафьеву, он также отмечает, что "в каком-то собственном, более тесном значении следовало бы называть мелодией только мелодию, имеющую гармоническое сопровождение, а в остальных случаях говорить о монодии, напеве, наигрыше, голосе, мелодической линии" (75, с.69).
Солидарна с Мазелем и В.Конен, которая отождествляет мелодическое начало с мелодией гомофонного типа и пишет; "Господство мелодического начала - явление (в процессе развития музыкального искусства - Н.С.) не только не универсальное, но даже и не преобладающее" (59, с.97).
Так, потенциально заложенная в ранних формах мелодии предрасположенность к воплощению субъективности реально восторжествовала именно в период возникновения кантиленных жанров. Вокальная, а затем и инструментальная кантилена стала вскоре восприниматься как естественный эталон мелодийности, как максимально действенное средство музыкальной лирики. Кантиленная мелодия отражает потаенные слои человеческой натуры и дает импульс для такого музыкального слышания, на основе которого выстраивается психологическая модель человека. Иногда эта модель включает и внешние изобразительные моменты, воспроизводящие процессуальные жизненные прототипы (мускульные и речевые) конкретной личности или социального ее типа. Характеристичность мелодии может быть, следователь- но, как внутренняя, так и внешняя, но специфика кантиленной мелодии - в моделировании внутреннего, духовного начала в человеке. Каковы глубинные стимулы данного явления?
Для ответа на поставленный вопрос обратимся к понятию музыкального знака, которое указывает на связь музыкальной семантики с внемузыкальными прообразами реальной жизни. Возьмем за основу классификацию музыкальных знаков В.Медушевского, согласно которой существуют знаки-интонации, пластические и звукоизобразитель-ные знаки, соответствующие основным жанровым качествам музыки (80, с.25). Все они могут быть созданы при помощи мелодии, однако последняя предрасположена более всего к проявлению знаков-интонаций, имеющих речевые предпосылки и отражающих их в виде гиперболизации речевых интонем. В то же время мелодическая интонация имеет и сугубо музыкальную специфику, которая в ней исторически усиливалась вместе с процессом закрепления за отдельными средствами - ладогармоническими в первую очередь - конкретной устойчивой семантики. В мелодии, таким образом, сосуществуют два плана интонационного моделирования, условно говоря, интонемный и собственно музыкальный, соотношение между которыми может быть разным. Если в докантиленных мелодических стилях, тесно связанных со словом, преобладал первый, интонемный слой интонации, то вместе с принципом дыхания в мелодию приходит господство второго, специфически музыкального типа интонационной семантики. Последний был тесно обусловлен централизованной системой ладовых устоев, способствующей объединению мелодической мысли в единую смысловую целостность. Создаваемый мелодией выразительный эффект в результате обладает семантической двойственностью: во-первых, он осознается как сообщение об эмоции, так как речевые предпосылки интонирования усиливают коммуникативную сущность художественной ситуации; во-вторых, он осуществляется как выражение самой эмоции, моделирование ее существа, что богаче всего предстает в кантиленной мелодии, где превалирует вторая глубинная сторона интонации. Принцип "вдевания из тона в тон" воплощен в ней с максимальной выразительностью. Ладогармоническое единство, стройность формы и относительная протяженность построений, объединенных дыханием, - все эти музыкально-специфические средства организации обусловливают стабильность "вторичного слоя" словаря интонации, за которым стоит сама эмоция. Другой полюс мелодического интонирования - речитатив в его самой близкой к разговорной речи разновидности - шсо . Естественно, в нем господствует выразительность речевых интонем, лишь частично подкрепляемых собственно музыкальными законами. Речитатив есть процесс общения, и закономерно, что он всегда помещался в операх ий*- для характеристики действия. Кантилена же есть состояние, данность, она предметна, осязаема, и потому ее цель - создание законченного образа. Движение от речитатива 4мер к кантилене есть приближение от уровня преобладания речевого интонирования к господству собственно музыкальной интонации. Возможно и более широкое жанровое обобщение: речитатив сравним с драмой, в основе которой действенная фабула,кантилена же - область лирики, картина потаенной жизни души человека, ориентированная к столь же глубоким струнам духовного мира слушателя и потому воспринимаемая им особенно близко и по-своему. Как отмечает Т.Чернова, лирика стремится к стиранию всяких временных границ и "восприни-мается как "вечный миг", остановленное мгновение (140, с.42). "В лирическом произведении предметно-сюжетное движение как правило отсутствует, и эффект свободы связан с воспроизведением непосредственного ничем не скованного течения размышлений и переживаний лирического героя" (140, с.41). Симптоматично, что кантилена рождается вместе с созданием в опере нового, ранее неве-
Гкударспесяаа бИ^ЛИОТЕКА мм. В. И- Ленину
42 домого образа - героя драмы. Важно и то, что герой получал характеристику не через действие, а через рассуждение, потому что главное в оперном спектакле - "монолог чувств, т.е. сольное пение" (59, с ЛОЗ).
Удаление мелодии от кантиленных жанровых признаков ведет к активизации в ней других знаков. Так, при помощи мелодии можно с успехом создать моторно-пластические знаки, ориентированные на двигательные прообразы реальности, - таковы мелодии этюдов, токкат и других моторных жанров. Их семантическая структура обретает дополнительный уровень, связанный с интенсивным мускульным воссозданием движения. Он может быть подчинен интонационному, подобно периодической акцентности танца, равнозначен ему - как в моторных жанрах этюда и др., и даже порой может подавлять интонационный - в случаях превалирования ритмической равномерности или индивидуализации на фоне индифферентной инто-национности. Примером последнего могут служить остинатные формы изложения, в основу которых часто положена короткая архаическая попевка, обретающая в условиях остинатной повторности магически завораживающий смысл.
Во всех указанных случаях моделирование художественной эмоции опосредуется идущими извне стимулами: усилением ритмического моторного импульса, а в некоторых случаях - его гипертрофией. Приоритет моторно-пластических знаков можно осмыслить по-разному: с одной стороны, - как перевод из внутри-психологического плана мелодического высказывания во внешни план двигательных проявлений и даже таких движений, которые не относятся непосредственно к человеку, а лишь косвенно его характеризуют (урбанистическая моторика, маршевая поступь агрессивной силы и т.д.). Господство моторики может означать "обобществление" самой эмоции, перевод ее из интимно-личностной в коллективную. В таком ключе к моторике относился Б.ЯворскийЛ
Следовательно, пластический знак непосредственнее всего реализуется ритмической стороной музыки, моделирует иной объект действительности в отличие от мелодической интонации и возбуждает соответствующие моторные центры воспринимающего сознания.
Аналогично обстоит дело с изобразительными знаками. Мелодия также может включать их на правах вторичного средства, дополняющего интонационность и опосредующего собой эмоцию, но богаче и ярче звукопись воплощается в многотембровой оркестровой фактуре и фонически трактованной гармонии - т.е. в многоголосии, так как звуковые явления мира преимущественно пространственны и многоголосны.
Семантический антропоцентризм мелодической информации объясняет важную черту семантики мелодии: сопротивление мелодических средств характеристике отрицательных образов и экстраординарных состояний. Если взять за точку отсчета мелодии ее самый "мелодийный" вид - кантилену, то станет очевидным далекое отклонение от нее в таких драматургических ситуациях, где нет места психологической целостности образа человека, а центром музыкального становления оказываются образы зла. Они характеризуются намеренно обедненным семантическим спектром значений. Мелодия аккумулирует в себе прекрасное, нетленное, возвышенное^и потому прав А.Юсфин, отмечая, что "мелодическое начало во многом соприкасается с человеческим началом в человеке" (145, с.81).
В итоге дополним первоначальное определение мелодического инварианта с учетом всех отмеченных его сторон. Мелодический инвариант предполагает следующие свойства: последовательную связь тонов по горизонтали; функциональную однолинейность звуковысотного ряда; логическую и временную упорядоченность на основе лада и мускульно-динамического профиля; структурную целостность и законченность; художественную осмысленность интонирования; особую предрасположенность к моделированию субъективности -психологического облика человека.
Таким образом, мелодический инвариант - это понятие, предполагающее конструктивно и логически организованную звуковысот-ную однолинейность, интонирование которой образует целостную и законченную структуру, предназначенную для воплощения интегральной субъективности.
Вводя понятие мелодического инварианта в обиход исследования, заметим, что оно позволяет все понятия, связанные с мелодикой, имеющие общий корень HiKoS ,выводить из первоосновы. Для настоящей работы градация оттенков между однокоренными понятиями оказывается не столь существенной, как сопоставление понятий инварианта и стилистического типа. Поэтому позволим себе не заострять более внимания на терминологических рассуждениях и перейдем к изучению конкретного стилевого воплощения инварианта мелодии на примере одного из важнейших этапов эволюции мелоса - классического мелодического типа.
3. Классический тип мелодии. Портретирование.
Овладение музыкальным искусством секретом кантабильного дле-ния одноголосного звучания явилось важнейшей предпосылкой стабилизации гомофонной мелодии - первого в европейской музыке стиля мелодического мышления, где принцип "объединения дыханием" стал сосуществовать с господством собственно музыкальных средств логической организации формы.
Известно, что первые образцы гомофонного мелоса родились в профессиональной музыке Европы под воздействием народно-песенной и танцевальной культуры и распространялись преимущественно в виде форм светского бытового музицирования начиная с ХУІ века. Однако, как отмечает В.Конен,окончательная кристаллизация и повсеместное господство гомофонного мелоса наблюдается лишь к середине ХУЛ - началу ХУШ веков - эпохе позднего барокко и классицизма (58). Таким образом, если рождение гомофонной мелодии связано с эстетикой Ренессанса, то кульминационная стадия её" развития приходится на время становления и расцвета венского классического стиля.
Период господства классического типа мелодии предопределил фундаментальные направления развития мелодического начала в последующих стилях. С этого времени представление о мелодии в сознании человека европейской культуры стало инерционно связываться с гомофонным её типом, что подтверждается, в частности,психологическими экспериментами А.Костюка, результаты которых изложены в его статье "О мелодической ориентации музыкального восприятия" (62) '.Своеобразным доказательством этому такие монет слупить наличие в английском языке специального слова ~fcu,a , которое обозначает примитивное состояние мелодического начала, "подобно пению ребенка для себя" ( 159, с. 4). Исследовательница И.Холст отмечает, что ъц,кл отличается по смыслу от мелодии -слова немецкого, связанного с музыкой ХУІ - XIX веков; современное творчество также оценивается ею как господство Lu^jl . Данное терминологическое разграничение свидетельствует о том, что качественное отличие мелодии гомофонной от всех иных фактурных форм мелоса осознается не только научно, но и в обыденном сознании потребителя музыки.
Довольно часто представление о гомофонной классического типа мелодии становится эталонным, ценностно выделенным. В некотором смысле такое пристрастие оказывается ограниченным, а подчас - и консервативным, так как оставляет в тени иные стилистические типы мелодии, и особенно мешает пониманию доклассической и современной мелодических систем, способствует формированию заведомо ограниченных критериев в их оценке. Между тем подобная инерция восприятия современного слушателя в большой степени оправданна. Помимо причин внешнего порядка (преобладание классических произведений в формировании слухового опыта музыканта, наиболее частое звучание их в концертах, построение учебного курса с ориентацией на классические стили гармонии, формы и т.д.), можно усмотреть и более глубокие основы "живучести" классического эталона мелодии в сознании многих поколений слушателей: I) если рождение классического типа мелодии произошло в результате скачка в мелодическом мышлении, то его дальнейшее развитие шло по преимуществу эволюционно и не привело до сих пор к иному столь же убедительному художественному качеству; 2) языковые нормы классической мелодии трансформировались также постепенно, гомофонный склад и централизованная гармония остаются актуальными и в ряде стилей XX века; 3) в классической мелодии впервые была достигнута семантическая целостность мелодической информации,доходящая подчас до уровня персонификации.
Таким образом, понятие "типа", используемое в настоящем контексте, включает не только конструктивный, но и семантический уровни языка. Более того, последний уровень оказывается в ней определяющим, так как первичен в процессе развития данного музыкального организма. Предпринимаемая в исследовании типология базируется на диахроническом срезе языках'и потому совпадает с известными стилистическими эпохами в музыкальной культуре.
Классический тип мелодии - это стилистически локальная фор-
Диахрония - сравнение исторических типов языков. ма воплощения мелодического инварианта, соответствующая венскому классическому стилю и его грамматическим основам. С точки зрения особенностей внутренней организации и структуры классическая мелодия достаточно изучена в музыкознании. Ценные наблюдения и выводы содержатся в работах Б.Сабольчи, Р.Рети, С.Скребкова, Е. Ручьевской и др., но прежде всего - в специальном исследовании Л.Мазеля, посвященном гомофонной мелодии. Не останавливаясь на рассмотрении важных и достаточно известных положений этих работ, заострим внимание на семантической специфике классической мелодии, которая почти не изучена, но актуальна с точки зрения дальнейшей эволюции мелодической целостности.
Отправной точкой в определении содержательного амплуа мелодии классического типа может послужить следующее высказывание Б. Яворского» "Тонально-законченная мелодия (или мелодическое построение вообще) не есть процесс движения, активного выражения действия, а есть раскрытие сущности определенного понятия как предметного явления. Мелодия (мелодическое построение) выражает,развертывает во времени состояние, вскрывает личность человека (единичную или коллектив, как например в народной песне) в даннкй момент его психологического состояния. Поэтому мелодию (мелодический процесс во всех его оформлениях) можно считать аналогией портретному процессу живописи, скульптуры, характеристике в литературе" (146, с.36).
Нам кажется, что высказанная здесь мысль чрезвычайно плодотворна. Заимствование понятия "портретность" из їсивописной терминологии переводит аналитические рассуждения в план сравнительных аналогий и помогает найти общие закономерности развития в разных видах искусства, а на их основе конкретизировать семантику классической мелодии, как впрочем, и ряда других художественных явлений, имеющих точки соприкосновения на уровне семантики.
Понятие "музыкальный портрет" не столь уж редко используется в музыковедческой литературе, что имеет свои основания. Обычно оно подразумевает внутреннее родство создаваемого небольшим музыкальным произведением образа с портретом одного человека, запечатленного в конкретном состоянии. В крупном многотемном произведении понятие портрет "работает" на уровне отдельной темы и в том случае, если она мелодийна. Мелодия вбирает в себя информацию о человеке и в определенных контекстных условиях - а классическая гомофония создает такие условия, - концентрирует эту информацию в виде законченного целостного портретного образа.Портрет в музыке, следовательно, - объективная реальность, а не метафора, и воплощается он прежде всего посредством мелодии классического типа.
Портрет известен как жанр изобразительного искусства, имеющий древние и прочные традиции, а такие свой относительно самостоятельный путь исторического развития. Интерес к художественному постижению человеческой индивидуальности возрастал по мере развития общества, вместе с чем изменялся и характер портрета: если на ранних стадиях социального развития личностное начало подчинялось общему, так как "индивид был интегрирован в общине не как ее автономный член, а как частица органичного целого, немыслимого отдельно от него" (56, с.128), - то позднее в европейской художественной культуре портрет становится средоточием ли-рико-психологического анализа индивида. Поворотным пунктом данного процесса искусствоведы называют культуру эпохи Возрождения, в основе которой преобладает тенденция рассматривать человеческую личность как важнейшую моральную и социальную ценность. С этого времени портрет становится поистине высшим жанром искусства, барометром его состояния. Имея в виду портреты эпохи Возрождения, Г.Гегель заметил: "Прогресс живописи, начиная с ее не- совершенных опытов, заключается в том, чтобы доработаться до п о р т р е т а" (б, с.74). Перефразируя эту мысль, можно сказать, что музыкальный прогресс в неменьшей степени был направлен к тому, чтобы достичь способности музыкального портретирования, а эту миссию смогла исполнить в первую очередь гомофонная мелодия.
Расцвет индивидуального портретирования как закономерный результат развития искусства обусловлен общими социальными процессами: зарождением капитализма - общества свободной конкуренции, где "отдельный человек выступает освобожденным от природных связей, которые в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью определенного ограниченного человеческого конгломерата". Социальные сдвиги сопровождались "интимизацией и усложнением внутреннего мира личности" (2, с.17), что в свою очередь и предопределило становление антропоцентрического мировоззрения в противовес теоцентрическому в средние века и привело к расцвету портретирования в искусстве.
Работа художника над портретом сопряжена с двумя задачами: первая исходит из прикладной функции портретного жанра - изображения внешнего сходства с натурой, запечатления данного человека в конкретной телесной оболочке с максимальным подобием жизненному прототипу; вторая опирается на стремление художника идти вглубь изображаемой личности, угадать и отразить существенные грани его характера и темперамента. Иными словами, портрет представляет собой некий человеческий "предмет" - образ, характерологическая, глубинно-духовная сторона которого подчиняет себе внешнюю, изобразительную. В живописи и пластических видах искусства конкретная единичная натура отображается вполне достоверно посредством зрительной правдоподобности, поэтому диалектика внешнего и внутреннего планов воссоздания образа человека заключена здесь в равновесии между ними, в проявлении одного через другое. В разные периоды развития изобразительного искусства превалировала одна из двух сторон портрета, при этом факт внешнего сходства, как правило, оставался неоспоримым вплоть до XX века, а глубину образного обобщения приходилось нередко отстаивать и заново завоёвывать .
Понятие "музыкальный портрет" в отличие от изобразительного чаще всего отвлекается от внешнего правдоподобия в силу обобщенности, неизобразительности музыкальной образности, хотя в некоторых случаях музыке оказывается подвластным и портретирование внешне-конкретных свойств определенной обычно широко известной личности при помощи моделирования особенностей его двигательной пластики, тембродинамики и артикуляции речи, а также на основе символического закрепления некоторого звукового коїшлекса за конкретным человеком: BACH, DEaCH, Флорестан-Эвзебий и др.
Выдвижение образа человека в центр живописного портрета, огромное значение в нём выразительного начала делает этот жанр наиболее близким к музыке. Ни один другой жанр изобразительного искусства не содержит столь мощного обобщения внутренних внесобытий-ных, сокрытых от непосредственного визуального наблюдения человеческих проявлений, неизобразительных по своей природе. Именно в данном смысле портрет сближается с мелодией - той сферой музыкальной семантики, которая обладает наиболее ярко выраженной субъективностью.
Отсюда вытекают и другие аналогии, которые наводят на мысль о существовании некого общего семантического поля, от которого исходят ответвления, оформленные посредством материала, присущего конкретному виду искусства. Назовем это общее семантическое качество процессом портретирования, сущность которого заключена в способности произведения искусства (или его части) с
51 максимальной конкретностью отображать неповторимый человеческий характер в виде предметно-осязаемой, отграниченной в пространстве и во времени художественной целостности. Специфика разных видов искусства накладывает отпечаток на форму доведения портретного образа до восприятия потребителя, но если это различие очевидно и не вызывает сомнений, так как оно материализовано и осязаемо, то сходство, обнаруживаемое на уровне семантики, не лежит на поверхности и требует изучения.
Как и портрет, классический мелодический тип представляет собой законченный портретный образ в "раме", роль которой исполняет строго централизованная система гармонической организации, а также приемы метро-ритмической повторности, квадратности и логика масштабно-тематической расчлененности. Замкнутость мелодии не есть непреложный закон даже в музыке классиков, но для обобщенного типа она служит важным стилистическим показателем. Позднее вместе с преобразованием централизованной гармонии нарушается и замыкающая функция кадансирования, а вместе с ней мелодия постепенно теряет мощный фактор замкнутости. В классической мелодии замкнутость есть мелодическая "рама", которая находится в прямой зависимости от характера гармонического каданса и глубины цезуры после изложения мелодии.
Мелодический портрет иногда является самоцелью, исчерпывая собой суть концепции музыкальной миниатюры. В сложной музыкальной форме он в виде темы представляет собой начальный экспозиционный этап преподнесения "героя". Аналогично обстоит дело и с живописным портретом: он может являть собою основную цель творческого акта художника, однако может входить и в многофигурную тематическую композицию. Здесь появляется дополнительный план содержания - событийный: личность предстает во взаимодействии с иными героями, в конкретном социально-динамическом статусе - в качестве персонажа картины. Свойство портретирования в таких полотнах сохраняется, хотя обретает ситуационную тенденциозность. Фабула, сюжет, разворот действия призваны здесь углубить психологический тонус воплощения героя.
Историческое становление мелодического портрета в многотемной музыкальной композиции предъявляло и определенные требования к музыкальной форме, и прежде всего - к выделению в начале формы экспонирующего раздела - концентрата выразительного начала в противовес действенному началу разработки. В этих условиях мелодия обрела значение темы - такой темы, которая именно в мелодическом амплуа способна в отрыве от фактурного контекста стать "знаком" героя в процессе разработочности.
Психологи заметили, что экспонированная тема - мелодия - самое доступное для восприятия средство музыкальной образности,причем мелодия выступает именно в виде предметной характеристики образа. Развитие, действие, событийность, воплощенные музыкально-драматургическими средствами, требуют более высокого уровня музыкальной ориентации слушателя, культуры восприятия. По-видимому, этот факт - свидетельство превалирования выразительного начала над действенным в адекватной оценке человеческим слухом музыкальной информации. Интересно следующее высказывание А.Костюка: "Как известно, существенный показатель адекватности восприятия - уровень слышания тематического строения. В опытах констатировано,что испытуемые скорее и легче охватывают собственно выразительное значение темы, нежели её драматургическую роль в процессе становления образа" (62, с.341). В.Медушевский соотносит отмеченную особенность восприятия с психологической теорией установки: "В музыкальном произведении психологический процесс "врабатываемости" -процесс возникновения и укрепления установок - обеспечивается наличием экспозиционных разделов" (81, с.209).
Историческое формирование установки на экспозицию проходило в тесной связи с процессом индивидуализации мелодии, обретшей значение темы. Экспозиция имеет двойственную функцию. С одной стороны, ее материал существует сам для себя и вещает от своего имени - т.е. от имени "героев", портретируемых мелодическим тематизмом; с другой стороны, он "повернут" к последующему развитию музыки, ее событийной стороны и потому предвосхищает драматургическую идею. Первая тенденция является определяющей, так как обозначает место экспозиционного материала в системе формы. Поэтому проявлением экспозиционной функции можно считать не только раздел экспозиции сонатной формы, но и всякое вступление нового мелодического материала, представляющего нового героя: темы эпизодов в трехчастной форме, рондо, сонатной разработке, темы-символы, темы-эпиграфы, лейт-темы и т.д. Историческое развитие экспозиции шло по пути усиления одной и другой функции: первая выразилась в становлении классической мелодии, вторая - в процессе формирования диалектической по природе темы сонатной формы. Таким образом, если с точки зрения мелодической семантики мелодия классического типа олицетворяет собой первую -представительную функцию экспозиции, то с точки зрения значения мелодии в сонатной форме и прежде всего в роли главной партии она имеет тенденцию к "заглядыванию" вперед и потому воспринимается в действенном контексте. Классический мелодический тип,следовательно, не есть норма главной партии сонатной формы, в то время как последняя выросла на основе данного мелодического типа.
Известные контрасты в лоне главной партии - женское-мужское, вопрос-ответ, тезис-антитезис - синтез и другие характеризуют моделирование при помощи мелодической темы проблемных ситуаций,что означает метод исторической трансформации мелодии путем жанровой модуляции "из лирики в драму", из внутреннего действия во внеш-
54 нее, без чего не смогла бы возникнуть активно развивающаяся разработка и сонатная форма в целом.
Портрет, следовательно, монет входить в контекст действенности. Однако подобно тому, как на картине человек, включенный в действие, воспринимается таковым в связи с окружающими людьми и событиями, мелодия-тема, погруженная в действенную драматургию, иначе портретирует, чем в контексте повествования - размышления. Специфика её - в моделировании проблемных ситуаций, во введении внутримелодического развития, объединяющего собственно портрет-ность с шыми семантическими качествами. В этом случае образ ста-носится многоплановым, а разные временные отрезки мелодии (мелодические обороты) приобретают особое выразительное значение, которое закрепляется за ними в процессе развития. Путь от замкнутого в себе портрета к взрывчатой, направленной во вне главной партии сонатной формы есть путь исторического освоения мелодией сферы внутреннего действия.
Выделение семантического качества портретирования позволяет найти аналогичные явления и в литературе. С одной стороны, существует жанр литературного портрета, представляющий собой взаимодействие свойств мемуара и художественного произведения. В нем идет речь об одном реальном человеке, при этом характеризуются самые примечательные для его личности стороны. Литературный портрет, как и любой другой портрет, не претендует на всеохватность биографии, характеристики творчества или другой присущей данному человеку сферы деятельности. Акцент делается на содержательной стороне личности в ее типичных человеческих проявлениях (например, в литературных портретах А.Герцена, М.Горького, К.Паустовского и др.)« Данный вид литературного портретирования ближе соприкасается с живописным портретом, так как и тот и другой образует жанр - самостоятельный вид творчества. С другой стороны, в
55 крупном скшетном литературном произведении действующие лица получают портретную характеристику, которая как правило помещается в начале произведения и выполняет функцию экспозиции - представления героя.
Нечто подобное можно наблюдать и в музыке, где мелодический тематизм, представленный в экспозиционном разделе формы, персонифицирует "героя" последующего музыкального действия. В этой последней аналогии обращает на себя внимание общность драматургической ситуации портретирования в крупной художественной форме: действие не происходит, а выносится во вне портрета, внимание концентрируется на одном человеке, предстающем в виде законченного предметного образа. Портретирование в литературе направлено на воплощение единства внешних особенностей человека и его духовных черт, - в литературе возможно непосредственное отображение того и другого начала, так как литературные образы воспринимаются на основе взаимосвязи вербального и эмоционального типов мышлений; живописный портрет опосредует психологическое начало через внешние проявления; конкретность портретирования при помощи мелодии же подразумевает в первую очередь эмоциональное состояние, градации оттенков которого беспредельны. Внедейственность, погружение в стихию одного чувства, законченность целостного предметно-оформленного образа - все эти черты характеризуют музыкальное портретирование, реализуемое при помощи классической мелодии с наибольшей рельефностью.
Как отмечает В.Конен, основным истоком становления интонационной семантики инструментальной мелодии классиков была оперная кантилена ХУП-ХУШ веков (57; 58). Неторопливая иьшровизационность ранней оперной кантилены несла на себе ещё значительный оттенок полифонического мелоса (57, с.24), в то время как инструментальная классическая мелодия, заимствуя сущность кантабильного инто- нирования - объединенностъ мелодии дыханием - смогла стать законченным предметно-целостным образованием,соединяя данное жанровое качество с моторностью. Последняя отражает господство периодической акцентности, которая,как известно, распространялась на разные уровни музыкальной структуры и определенным образом унифицировала формообразующие принципы. Сплав кантилены и моторики - ведущий жанровый показатель классической мелодии.
К примеру, тема медленной части сонаты В.Моцарта $- сйс'с К.300 - типичный образец классического мелодического типа, она оформлена в виде квадратного периода (прим.5).
Сама идея квадратности несет в себе моторную инерцию, связанную с господством повторности и периодичности на уровне масштабно-тематических структур. Приведенная мелодия песенна, кантиленна, в то же время она четко расчленена на фразы, образующие структуру суммирования. Каждая фраза относительно завершена и содержит свою цезуру и гармонический каданс - D-0 /)0- 0 "Т. Гармония выступает одновременно и фактором расчленения, и фактором объединения мелодической мысли, что очевидно на основании функциональной логики расстановки кадансов. Цементирующим началом выступает также организация динамического профиля мелодии с кульминацией в третьей четверти формы, а также общий действенный пульс периодической ритмической организации,который генетически способствует мускульной импульсивности. Так, существование моторных и кантиленных жанровых признаков в данном примере налицо.
Сплав кантилены и моторики находит объяснение в эстетическом отношении: классическая мелодия соответствует эпохе господства рационализма и уравновешенности, сущность которой - идеальное единство общечеловеческого, объективного начала и неповтори- мого, субъективного. Подобное единство отмечает М.Алпатов в отношении живописного портрета: "Согласно классическому мышлению, личность складывается из отдельных свойств, пороков и добродетелей, которые наслаиваются на некоторое идеальное представление о человеке. Индивидуальность - это как бы отклонение от золотой середины" (7, с.23). Художественная гармония личного и общего, своеобразно отраженная в классической мелодии в виде жанрового синтеза кантилены и моторики, содержит в себе скрытое противоречие, которое в дальнейшем даст толчек двум разнонаправленным процессам мелодической эволюции: І) в сторону усиления кантиленного начала и освобождения от регламентирующей роли моторики, что отразится в размывании периодичности, господстве ис&яіс и проявлении тенденции к бесконечной мелодии (Курт); 2) в направлении усиления моторного импульса в ущерб песенно-сти - активизации общих форм движения. Проявление обеих тенденций можно проследить уже на примерах из классической музыки,не укладывающихся в стереотип.
Так, в лирических частях произведений В.Моцарта порой ощущается "бесконечность" мелодического высказывания.Например,в теме третьей части квартета Моцарта Ъ~Яшь (К.458) (прим.б) намечается период повторного строения, но он не оправдывается:второе предложение чрезвычайно разрастается за счет модуляционного движения, вариантного вычленения фраз, расцвеченных регистровым ко-лорированием. Мелодическое кантабиле разламывает периодичность и на протяжении 26 тактов изливается в свободном шшровизационном потоке. "Сопротивление" мелодии членящему кадансированию можно услышать и в некоторых других медленных темах Моцарта ( Ahd*x*t из квартета К.499 и др.)» н0 эта тенденция особенно ощутима в творчестве Бетховена, у которого С.Скребков нашёл подлинные об- разцы бесконечной мелодии (III, с.235).
С другой стороны, в финалах циклов классиков отчетливо осознается вторая тенденция - к обобществлению мелодического образа посредством приоритета моторики. Идея массовости, столь характерная для драматургии сонатно-симфонического цикла, естественно реализуется обобщенными мелодическими формаїш, в которых моторность подавляет портретирование в пользу массово-действенной стихии,что выражается в активном мускульном тонусе токкатно-этюдной инструментальной фактуры. Примером может служить финал квартета Моцарта К.499.
Аналогии между классической мелодией и классическим портретом можно проводить с разных позиций, что чрезвычайно увлекательно и может стать темой отдельной работы. Главное же здесь - то, что классическая мелодия как никакая другая форма мелодии, была близка портрету не только способом отражения человека (что мы назвали портретированном), но и самим результатом этого отражения -создания целостного законченного образа человеческой личности.
Резюмируя сказанное, перечислим семантические характеристики классического мелодического типа:
I/ личность человека - главный предмет обобщения в художественном образе - предстает в виде законченной, замкнутой "рамой" мелодической целостности;
2/ экспозиционный, внедейственный характер, имеющий прообраз "представления героя" драїш в опере;
3/ индивидуальное и общее уравновешивают друг друга на основе гибкого сплава кантилены и моторики, что находится в соответствии с эстетикой классицизма.
Целостное понятие классического мелодического типа можно вывести из вышеприведенного понятия инварианта, конкретизируя соответственно стилю его отдельные свойства. Итак, классиче- ский тип мелодии - это понятие, предполагающее одноголосный горизонтальный звуковой ряд, организованный по принципу ладогарыонической централизации, метроритмической и масштабно-тематической повторности, целостная структура которого обладает свойством портретирования на основе функциональной и смысловой замкнутости.
Мелодическое портретирование, достигшее апогея в классической гомофонии, стало ванным историческим приобретением мелодии, как и музыки в целом. Дальнейшая эволюция мелодии в многоголосии в огромной степени была обусловлена общеэстетическими представлениями о месте человека в системе художественной образности. Анализ этой проблемы - содержание последующего изложения.
Мелодия в ряду сменных с ней понятий
Тезис о необъятных выразительных возможностях мелодического начала в музыке стал аксиомой, в то время как истоки и сущность этого явления до сих пор обсуждаются и пока не нашли исчерпывающего объяснения. Известные расхождения во взглядах на мелодию обусловлены историческим развитием музыкальной практики и музыковедческой науки. Вновь возникающие стилевые формы мелодии вызывали к жизни и новые дефиниции, которые большей частью отражали отдельный исторический этап развития мелоса. Сам термин "мелодия" в обиходе музыковедческого анализа применялся нестрого и до сих пор нередко оказывается синонимичным другим понятиям музыкальной теории. В результате собственный смысл термина "мелодия" стал нуждаться в особой конкретизации, целью которой должна стать выработка понятия мелодического инварианта - абстракции, обобщающей сущностно-необходимые свойства мелодии. Поэтому основной вопрос данной главы - о семантике мелодии - решается в тесном единстве с понятийным обоснованием предмета исследования.
Для выяснения терминологической специфики понятия мелодии сопоставим сложившиеся в музыковедении представления о нём с другими понятиями: во-первых, с такими, которые ему близки и часто взаимозаменяются в практике аналитических исследований - интонацией и монодией; во-вторых, - с понятиями, которые трактуются обычно как противоположные мелодии. Рассмотрение последних целесообразно проводить в оппозиции мелодии с условным ее антиподом -"немелодией" при разной терминологической интерпретации ее членов.
Интонация и мелодия - понятия взаимопересекающиеся, имеющие широкую иерархическую систему значений. Так, интонация в наиболее узком понимании подразумевает краткий материально-звуковой элемент музыкального текста, а в наиболее широком, эстетиче-ском плане - "качество осмысленного произношения в музыке ( 12, с.24).
В случае узко-конструктивного понимания терминов "мелодия" и "интонация" возможно условное совпадение их значений. Так, по принципу конкретно-осязаемой звуковой организации интонация и мелодия подразумевают обособленное музыкальное образование, организованное горизонтально. Такое понимание обоих терминов часто связано не столько с теоретически осознанным их употреблением,сколько с утилитарным, "попутным" вовлечением их в сферу анализа. Заметим, что :в зарубежном музыкознании конструктивное понимание мелодии, отвлеченное от эстетико-смыслового обобщения, подчас становится и определяющим. Вот некоторые из созвучных друг другу определений: "Мелодия - последовательность звуков, отличных по высоте и имеющих распознаваемую музыкальную форму" (160, с.233), "последовательность музыкальных тонов, которая обладает определенной формой и рисунком" (168, с.315); "Мелодия в широком смысле - последовательность музыкальных тонов, в противовес гармонии, где музыкальные тоны звучат одновременно" (152, с.357); "Мелодия -это организация последовательности музыкальных звуков в отношении высоты; такое наиболее примитивное состояние ещё требует ритма, но может быть свободным от гармонии, которая переводит мелодию в более широкую категорию" (170, с.108) и т.д.
Фактура и классический мелодический тип
Музыкальная фактура как теоретический феномен становится ныне важным объектом научных исследований, что отранает потребность творческой практики нашего столетия. Не вдаваясь в анализ существующих представлений о музыкальной фактуре, что само по себе является отдельной и ванной проблемой, отметим многосторонность подходов к её изучению, отранающую слонную структуру данного музыкального средства. Менее всего исследован вопрос о смысловых соотношениях фактурных элементов и возможности их систематики, что связано с недостаточной развитостью музыкально-семантических представлений в целом. Именно поэтому конкретизация семантики самого яркого фактурного компонента - мелодии, предпринятая выше, монет стать отправной точкой изучения семантических типов целостности, в которую мелодия погружена - фактуры.
В таком контексте исследования фактура понимается как вид пространственной организации музыкальной ткани, целостность которой представляет музыкальную мысль в результирующей комплексной форме. Предпосылкой осознания фактурного многоголосия в виде целостности служат психологические и акустические закономерности музыкального восприятия, которые под разными углами зрения освещают вопрос единства звукового континума фактуры, независимо от количества его компонентов и характера их соотношения Л
Целостность восприятия музыкальной фактуры свидетельствует не только о звуковом, но и о семантическом единстве информации, несомой ею. Сложная иерархическая организация фактуры подчинена общему содержательному замыслу, который может стать отправной точкой пути анализа семантики фактурного образования. Взгляд на данный феномен "сверху вниз", начиная от смысла, обнаруживает иную, не совпадающую с общепринятой типологическую плоскость. Семантический аспект предполагает широкую, многоцветную палитру градаций и оттенков - то эмоциональное богатство музыки, которое не поддается точной логически упорядоченной классификации в отличие от конструктивной стороны. Стилистически устойчивые "узлы" смысловой организации фактуры можно выделить в наиболее общем плане, а их типологию удобно строить в эстетическом ракурсе, который проясняется и конкретизируется в живой музыкальной практике. Изучение семантики фактурной целостности предполагает дифференциацию её по семантическому пршцшу, который, в свою очередь, связан с иными критериями аналитического вычленения элементов фактуры - функциональным и психологическим, актуализирующим феномены.фигуры и фона. Ни функциональный, ни психологический критерии в изучении фактуры не могут подменить семантического, так как первые отражают структуру реального звукового пространства, а последний предполагает его содержательную интерпретацию и ориентируется на механизмы образно-синтезирующей деятельности сознания.
Согласно избранному в данной работе пути исследования мелодии от классического её типа, обратимся и к фактуре, исторически и стилистически соответствующей классической мелодии - гомофонии. Перефразируя закономерность классической мелодии, описанную Л.Ма-зелем в книге "Проблемы классической гармонии", можно констатировать ведущий принцип классической фактуры: если конструктивно-организующую роль играет в ней централизованная гармония, то семантическим центром фактурно-смыслового пространства выступает мелодия, корректирующая не только выразительный эффект целостности, но и функциональную расстановку ее пространственных элементов, в чем находит свое выражение принцип фактурной централизации. Семантическая централизация фактурного пространства гомофонии означает присутствие в ней определяющего компонента, притягивающего к себе значения всех остальных - мелодии классического типа.
Мелодия и портретироваиие в художественном мышлении XX века
Картина мелодического мышления XX века отличается пестротой логического плюрализма. "Ни о каком общем стиле и ни о каких общих принципах мелодики не может быть и речи, - замечает Ю.Холопов в отношении музыки ХК века. - Ко многим явлениям и само понятие мелодии либо не применимо вовсе, либо должно иметь другой смысл" (132, с.524).
Для того, чтобы глубже понять процессы, происходящие в современной мелодии, обратимся к проблеме трактовки образа человека, героя в системе художественной образности XX века.
Современная эпоха насыщена историческими и духовными коллизиями, среди которых человек должен самоопределиться, избрать свою позицию. В условиях идеологической борьбы капитализма и социализма в корне отличны и концепции личности в искусстве двух общественных систем. Отчуждение личности и общества при капитализме прогрессирует и приводит к полярному разобщению индивидуального и общего, что означает, по словам социолога И.С.Кона, "разрушение обоих полюсов: общество предстает как безличная система, а личность социально бессильна и внутренне опустошена" (57, с.234). В литературе это выражается в гипертрофии рефлексии, когда активный герой исчезает, распыляясь в потоке бессознательного. В изобразительном искусстве наблюдается забвение портретного сходства с натурой. Многочисленные новейшие течения живописи обращаются к крайне субъективным формам портретного образа, в результате чего их произведения не оставляют ничего общего не только с портретом, но и с человеческим обликом вообще. В Западном искусствознании распространены ныне теории "портретной смерти", которые вызывают прямые аналогии с музыкальным авангардом, намеренно остранившимся от мелодии как концентрата духовной характеристики человека и предпочитавшим живому мелосу звуковые абстракции и реконструированные "омузыкаленные" шумы.
Если индивидуализм и одиночество человека в буржуазном обществе привели в итоге к его обезличиванию и бездуховности -спутникам индивидуалистической психологии, то личность социалистического типа выходит за рамки обособленного, частного бытия, постигает свою активную причастность к бытию народа, к истории общества. Именно эта, духовно богатая личность социалистического общества интересует нас прежде всего, так как преломленная сквозь ее структуру конкретная классовая позиция влияет не только на способ ее функционирования в обществе, но и на "угол зрения" ее видения художниками и соответствующего отражения в произведениях искусства. Характер человека стал интересен не сам по себе, а в тесной обусловленности с окружением, с коллективным началом, с многомерной действенной средой. Основные тенденции в изображении человека в современном искусстве заключены в следующем: I) личность интересна как воплощение позиции коллектива; 2) она подается в действенном ракурсе, причем действие в искусстве все более понимается не только как внешнее, но и как внутреннее мыслительное действие, активность разума - мысли (137, с.70); 3) личность характеризуется в тесном контакте с окружающей действительностью. Все эти явления обнаруживаются с достаточной очевидностью в разных видах искусства. Так, в живописи переосмысливается портретный жанр. Во-первых, он насыщается процессуальностыо, динамикой. Б.Брехт заметил, что если ранее в портрете "художники стремились передать нечто окончательное, то теперь многие ставят перед собой задачу изобразить такое лицо,которое мошю понять только через постепенное формирование его жизнью, где новое борется со старым" (52, с.252). И хотя "секрет" объективных законов построения портретного образа с развитым пространственно-временным началом до сих пор не разгадан теоретиками изобразительного искусства, тяга к преодолению временной от-граниченности портрета на практике ощущается вполне отчетливо. Часто подобное явление сопровождалось деформацией натуры, что в определенных пределах не нарушало существа портрета.