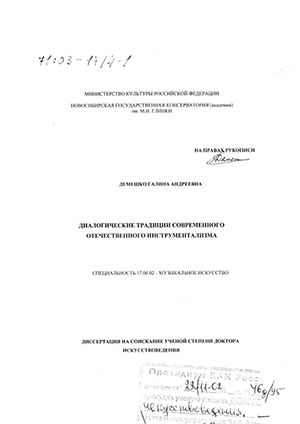Содержание к диссертации
Введение
ЧАСТЬ I. Структурно-семантические основы концепционного жанрообразования 24
Глава I. Человек как объект художественно-философской рефлексии 24
1Л. Кризис классической антропологии в культуре XX века 24
1.2. Современные альтернативы классической концепции человека 35
1.3. Проблемы музыкального мышления с позиций новой философии сознания 45
Г лава II. Вопросы теории сложного жанра 55
2.1. Сложный жанр в контексте музыки как языка 55
2.2. Алгоритмы сложного жанрообразования 61
Глава III. Диалог в жанровой системе сонатно-симфонического цикла 104
3.1. Концепционные аспекты музыкальной диалогики 104
3.2. Диалог как феномен жанрового интонирования 113
3.3. Взаимодействие нормативного и ненормативного аспектов в жанровой интонации сонаты-цикла 122
ЧАСТЬ II. К фундаменту новой нормативности
ГЛАВА IV. Диалог в жанровой системе нового инструментализма .142
4.1. Культур-философские основы аклассического диалога 142
4.2. От логики познания - к логике понимания 157
4.3. Алгоритмы диалога в системе нового инструментализма 167
ГЛАВА V. Об особенностях сложножанровой интонации в системе нового инструментализма 191
5.1. Аклассическая модель сложножанровой интонации 191
5.2 Способы артикуляции ситуаций «озадачивания» 196
5.3.Способы артикуляции сближающего взаимодействия 221
ЧАСТЬ III. Аналитические этюды 236
ГЛАВА VI. "Философия понимания" в виолончельном концерте а.шнитке 239
ГЛАВА VII. Симфония-притча или симфоническая концепция
человека?( Четвертая симфония Г.Канчели) 266
Заключение 310
Библиография 3
- Современные альтернативы классической концепции человека
- Алгоритмы сложного жанрообразования
- Взаимодействие нормативного и ненормативного аспектов в жанровой интонации сонаты-цикла
- От логики познания - к логике понимания
Современные альтернативы классической концепции человека
Таким образом, философский срез саморефлексии личности, отнюдь не утрачен духовным самосознанием рубежа тысячелетий. Иным становится лишь сам индекс отъединенности-включенности человека в некий макрокосм Бытия. В исследовании предпринимается попытка показать, как на новом этапе своего развития художественное сознание выстраивает систему мышления, адекватную современному пониманию Человека, соединяя при этом два противоположных полюса мировосприятия. В основе одного из них - рациональное начало, обобщение опыта научных данных, другого - интуитивное постижение Универсума, выражаемое мифопоэтическим и метафорическим путем. Здесь же скандируется тезис о том, что исчерпавшей себя модели «человек в мире», человек как «субъект жизни», приходит иная: «сознание в бытии», человек как «субъект Культуры», акцентирующая личностную, индивидуальную ипостась миропонимания.
Следующий блок проблем, связанных с преемственностью, касается музыкального смыслообразования. Как известно, это одна из самых дискуссионных сфер музыки, тем более, применительно к современным художественным процессам. Вопрос о том, происходит ли сегодня образование новых музыкальных знаков или идет процесс асемантизации искусства, концептуально толкуется автором в пользу проблематики музыкального содержания. И, прежде всего, применительно к жанру, который - вслед за А.Лосевым, В.Проппом [241], Ю.Тыняновым [315], М.Бахтиным [26], Б.Асафьевым [17], А.Климовицким - рассматривается в русле общей «философии» языка. Однако в самой «означающей» части жанра происходит, как будет показано далее, значительное смещение акцента с собственно семантической (отражательной, воспроизводящей) доминанты - на рефлексивную и интерпретирующую (раскрывающую, истолковывающую), а в его знаково-нормирующей части - с «предписывающей» на порождающую, с формообразующей на текстуальную, при которых каждый фрагмент текста становится самостоятельным «атомом» в живом потоке смыслообразования.
Теоретическое решение этого блока проблем в диссертации связано с введением понятия «сложный жанр», которое разграничивается с понятием «цикл». Мыслительная программа такого жанра рассматривается здесь как особая система музыкального философствования, по-разному реализуемая в ССЦ и НКС. Она не замкнута режимом интуиции, образно-символических форм общения человека с внешним миром, а непременно включает в себя взгляд «со стороны»: моменты осмысления, эмоциональной оценки; закрепляет ситуацию постановки и решения неких познавательных задач и т.д. Это позволяет соотнести ее концеционное ядро с философским срезом саморефлексии личности, а самое программу - с целостной проекцией мышления, с сознанием человека, многопланово включенного в жизненный процесс.
Логика исследования направлена на то, чтобы вычленить набор алгоритмизуемого в сфере сложного жанра, описать принципы «кодирования» музыкальных смыслов, сходные в сонатном цикле и НКС. А кроме того - показать, что уровню концепционной емкости таких систем соответствует столь же сложный «синтаксис»: от исходных операционных единиц (соозначающих знаков музыки) до ло гики организации общекомпозиционного процесса (система изменяющихся зависимостей). Вместе с тем отмечается, что механизм образования новой нормативности (НКС) качественно иного, нежели в ССЦ свойства. Он действует на стыке двух систем (мифа и философии), двух типов «логосов» (континуальности и дискурсивности), что опре деляет важнейшие тенденции вновь формируемой системы языка: а) не полную закрепленность значений его элементов; б) необычайно емкое смысловое пространство (весь прошлый опыт!), втягиваемое в орбиту заново алгоритмизуемого.
Весь этот блок проблем определяет цель настоящего исследования: обозначить парадигму сложного жанра в его исторически исходной (жанровый архетип ССЦ) и современной (НКС) точках развития и тем самым описать его как культурно открытый текст. Метод «атаки» объекта с разных сторон диктует неодномерную направленность его наблюдения.
Во-первых, следует обнажить связь культурной модальности жанра и традиции, между которыми он осциллирует, показать, что вне жанровой «памяти» сонаты-цикла не могли появиться на свет и инструментальные «тяжеловесы» второй половины XX века. Автор исходит из понимания названной традиции как обобщения опыта индивидуальной рефлексии, впервые «записанного» в жанровую программу ССЦ и со-натно-симфонического аллегро и тем самым обозначившего аналитический, познавательный статус музыкального искусства.
Во-вторых, - необходимо показать, что жанр в своей парадигме всегда не тождественен себе, ибо связан множественными и динамичными нитями с определенной культурой. Предстает как тип коммуникации, неотделимый от конкретно-исторического момента развития языка, а, следовательно, в нем складывается свой инвариант иерархии функций языка, соответствующая ему структура их взаимоотношения.
Алгоритмы сложного жанрообразования
Этот фланг искусства представлен: в литературе творчеством А.Бретона, Ф.Супо; в кино - деятельностью французского «авангарда» (Л.Бунюэль, Ж.Дюлак) и экспериментального американского кино 40-х годов; в сценическом искусстве - «метафизическим театром» Арто; в живописи - определенными гранями творчества раннего М.Эрнста, искусством С.Дали, Х.Блума, И.Танги и т.д. и т.п. Позднее идея «отклонения от человеческой натуры» и насилия над ней будет развита в фильме «ужасов» и жанре «психологического триллера», в некоторых эстетствующих направлениях театра и современной «высокой моды». А мотивы «невыразимости» смысла, «сумеречности» сознания, разлагающие человека как целостную личность, по-своему отзовутся в искусстве поп-арта и, особенно, в эстетике постмодернизма.
Ситуация дискредитации Homo Sapiens, всего человеческого, гуманистического, субъективного не является инородной и для новейшей музыкальной практики. Своеобразный опыт «разъятия» целостного человека, высвобождения в нем бессознательных инстинктов демонстрирует масс-культура, с «успехом» апробируя теоретические идеи антигуманизма на практике. Природное благоразумие и вменяемость Homo sapiens «подправляется» здесь посредством «психотропного» воздействия на него определенных ритмо-мелодических, акустико-громкостных и прочих физических параметров звучания, вводящих слушателя в состояние «целительного» транса.
Но особенно остра дилемма между гуманным - дегуманизиро-ванным, субъективным - внеличностным, целостным и специально «препарированным» для концепционного пласта инструментального творчества. Доказательством этого тезиса служат конкретные художественно-практические выкладки в этой области, обнажающие круг проблем, сходный с ортеговским. «Первыми ласточками» в этом плане становятся сонатные опусы позднего Шенберга (ор.:26, 30, 34) или Стравинского неоклассического периода (напр., Соната для фортепиано, Скрипичный концерт) и т.д. Здесь полный разлад четкой композиционной схемы с характерным для сонатно-циклических жанров концепци-онно-динамическим «наполнением», - тем, что выявляет их «антропологическое ядро», - в чем-то близок «триумфу над человеческим» («бездыханное тело» все той же сонаты-формы, страхующей единство чуждой ей музыкальной ткани).
Искусство, замкнутое в собственной технологии, - вовсе не абстракция, а одна из реалий новейшей художественной практики. Популярный еще в 20-е годы лозунг его очищения от «человечьего духа» трансформируется здесь в более современные варианты деконструк-тивного. Однако в эту орбиту сегодня попадает не только художественный авангард конца столетия. Сюда непроизвольно втягивается и тот пласт творчества, который искони являлся источником «жизненных» образов, наиболее адекватной моделью участия целостного человека в процессе освоения им действительности. И тем демонстрировал универсальность личностного, всеохватность человеческого, никак и никем не усеченное мировосприятие Субъекта.
Так, симфония, непрерывно меняясь сообразно призме видения человеком мира, вплоть до середины XX века сохраняла за собой статус гуманизированного «представителя-заместителя жизни», репутацию це лостной музыкально-философской модели человека. Сегодня возникает другая, не совсем обычная для этого жанра ситуация: новым императивом эпохи становится отказ от симфонической концепции человека, целостно вовлеченного в жизненный процесс. В том числе - в пользу самого общего, порой схематического анализа художником жизни, либо в угоду спонтанно творимой им и автономной от жизни реальности. Иными словами, во второй половине XX века крупная инструментальная форма впервые за всю историю своего существования сталкивается с новой для концепционного искусства в целом супердиссонантной сферой - дегуманизир о ванной реальностью.
Чем закончится это столкновение, пока сказать непросто. Но ясно одно: сегодня трудно представить себе симфонию, другие жанровые виды монументальной формы, полностью выдержанные в эстетике конкретного или электронного звучания, в строго прописанной композитором серийной или пуантилистическои технике. Такие опыты уже есть (напр., первые три симфонии В.Сильвестрова, Четвертая симфония Р.Гринблата, Полифоническая симфония А.Пярта и т.д., «тематические комплексы» которых тяготеют к жестко конструктивной и пуантилистическои организации). И именно они в наибольшей степени ассоциируются с «препарирующей» работой сознания художника, а не с его целостным участием в творческом процессе, что составляло основу традиционного задания симфонии.
Итак, очерченные выше тенденции деконструкции обретают в искусстве в XX веке всеобщий, целенаправленный, а порой и крайне агрессивный характер. Они коснулись не только Человека (сферы человеческого) как объекта творчества, но самого права художника по-человечески понимать мир и творить в очеловеченных формах.
Взаимодействие нормативного и ненормативного аспектов в жанровой интонации сонаты-цикла
Общеизвестно, что в пределах каждого социума складываются свои формы функционирования языка. Это географические и социальные диалекты, обиходная и провинциальная лексика, городские койне и молодежный сленг, являющиеся средством общения в пределах конкретной этнической, возрастной, профессиональной и т.п. группы людей. Известно также, что все это языковое «разноречье», начиная с национального периода истории человечества, венчают единые литературные языки.
Вместе с тем, различные «... формы существования языка, обусловленные его социальными носителями, обладают различными возможностями в передаче абстрактно-логических понятий» [37, с. 11] и соответствующих им смыслов. В вербальных системах наиболее оптимален в этом плане язык профессионально-философского общения. Он доступен далеко не каждому и подразумевает соответствующий уровень подготовки коммуникантов: их теоретическую обученность и хотя бы минимальную практику владения языком.
Симметрично вербальному ряду: обиходный - литературный -специальный профессионально-философский язык располагаются и уровни музыкального языка: обиходный - профессионально-эстетический - музыкально-философский. Так, прикладные, бытовые и любые «обслуживающие» музыкальные жанры представляют область обиходного языка. Иное - эстетический музыкальный язык. Будучи атрибутом академической музыкальной традиции, он, начиная с творчества венцев, характеризует независимость художественно-моделирующей системы музыки от слова, обряда или ритуала.
Если лексика прикладных и бытовых музыкальных жанров коммуникативно не замкнута, то внутри академического пласта искусства существуют самые различные «этажи» вхожести слушателя в состояние сознания композитора, что вносит определенные коррективы в состав ее аудитории. Наиболее высокое положение на этой коммуникативной «лестнице» по праву занимает система сложных жанров (ССЦ), рожденных эпохой Просвещения. Именно эти музыкально-знаковые образования, располагая максимальной для музыки возможностью «абстрагирования», оказываются приспособленными для выражения сложнейших смыслов, в т.ч. касающихся сущностных аспектов бытия. Таким образом, слушатель имеет дело здесь со специфической «сферой музыкальной философии, справедливость которой доказывается средствами самой музыки» (Н.Каретников). Оперируя языком профессионального общения и не всегда совпадая с установками слушателя, она требует от него того же сопрофессионализма: сотрудничества, сонастроенности на единую с автором концепционную волну.
Вместе с тем несомненны серьезные различия в осуществлении акта коммуникации в пределах вербальной и музыкально-философской семиотической систем. На первый взгляд, необиходность лексики, в целом свойственная профессиональным формам инструментального высказывания, отсутствие здесь каких-либо видеоэффектов, иная (по сравнению с вербальной) степень достоверности музыкальной информации, утяжеленной к тому же сложным концепционным рядом и т.д., - как бы уже сами по себе указывают на коммуникативную замкнутость «чистых» музыкальных жанров. Однако это не совсем так. Если недоступность языка вербального «философского общения» делает бессмысленным само участие в такого рода «мероприятии», то коммуникативная «непроницаемость» музыкально-философских систем, скорее, кажущаяся. Их устройство в чем-то подобно самому произведению талантливого художника, которое «... открыто для каждого, но в котором всегда существуют такие слои, в которые вхожи немногие» (С.Губайдулина), а глубина и множественность заключенных в них смыслов обеспечивает и множественный характер вовлечения перципиента в эти разнообразные семантические «этажи».
В этом плане, пожалуй, наиболее показателен жанр симфонии, благодаря своему мультилингвизму (интернациональным формам интонирования, лексико-языковому разноречью, богатству эмоциональной амплитуды и т.д.), одновременно обращенный к различным социальным слоям общества. Так, языком «интерлексики» блестяще владели: Гайдн, впервые сплавивший в своих симфониях германо-сербо-хорватский интонационный строй, и Малер, расширивший пространство интонирования симфонии за счет бытовых и «первичных» жанров; Шостакович, продолживший малеровские традиции привлечения «низких» жанров в сферу симфонии и обогативший ее язык специфическими способами «двуголосого» интонирования, и Шнитке, интонационным фондом которого становится в буквальном смысле вся культура.
Немало и исторически документированных фактов, указывающих на особую заботу крупнейших художников-философов о контакте со слушателем. Так, Шостакович не только четко разграничивал для себя идею (жанр) произведения и его композицию, относя симфонию к сфере «большой мысли», но и был обеспокоен тем, чтобы этот жанр доходил до аудитории: «На любой стадии работы художник, - отмечает он, -всегда должен искать контакта со слушателями. Это его творческий и нравственный Золг»(-Г.Д.) [364, с.45,364-365]. Важнейшей предпосылкой такого контакта становится особая стратегия выбора композитором-симфонистом тематизма, технология наполнения его общезначимыми формами интонирования
От логики познания - к логике понимания
Существует и ряд демонстрирующих это фактов его художнической биографии, в том числе и один, весьма любопытный, который приводит А. Климовицкий. Он связан с малоизвестным вариантом бетхо-венской «расшифровки» Gloria Patri Палестрины, где современник французской буржуазной революции позволяет себе слегка исправить «ошибки» своего великого предшественника. И тем самым невольно перемещает модальную гармонию последнего в функциональное измерение чуждой ему гомофонно-гармонической системы. Как отмечает А. Климовицкий, «... правка эта заслуживает особого внимания: она чрезвычайно последовательна в своем неприятии «чужого», она мастерская - с точки зрения способности композитора несколькими штрихами снять с оригинала покров этой «чуждости» и перевести музыку в свою, бетховенскую систему. Она исключительно интересна, ибо отчетливо запечатлела и продемонстрировала столкновение двух концепций слышания и философии музыки, столкновение двух ее титанов и творцов» [132, с.120].
Этот канон у Бетховена «работает» не только в плоскости: «Я» -окружающий мир, мое творчество - другая культура (как в примере с Gloria), но и в звене: композитор - слушатель, ибо голос автора, входящего в контакт с адресатом, во всех образцах классического концепци-онного творчества, бесспорно, является ведущим. А творчество Бетховена даже впервые дает примеры «приказного» текста, формулирует «... тип исполнителя, подчиненного воле автора, и слушателя, обязанного слушать, а значит слышать то, что ему внушается. Здесь - источник формирования нового отношения: «автор - исполнитель - слушатель», где публика (слушатель) собирается не ради удовольствия от музицирования и музыки вообще, но приходит заранее осуществляя свой выбор» [134, с.51].
Самоутверждение личности в культуре XVIII века во-многом предопределило не только мыслительные, но и музыкальные клише «про блемных» отношений Человек - Мир. Разделяя стороны и возвышая одного члена оппозиции над другим, эпоха антропоцентризма неизбежно создает ситуацию, когда «... одна сторона отношения помещается в преимущественное положение, а другая вытесняется на смысловую периферию» [277, с.87]. Идея эмансипации тем самым оборачивается идеей противостояния, «борения» человека с окружением, поведенческой моделью, связанной с его корректирующим, силовым вмешательством в существующий порядок вещей, позитивное в своей основе деятельное начало - концепцией человека-преобразователя.
Принцип «центрической» трактовки отношений многократно закодирован в жанровой программе ССЦ, и прежде всего - в специфике претворения ею проблемной ситуации. Важнейшие стереотипы, непосредственно вытекающие из отношения неравенства, касаются и организации самого процесса музыкального развертывания. Один из них -тип драматургии «цели» - по-своему реализует идею прогресса (прошлое - «хуже» будущего). Другой, особенно важный в контексте наших рассуждений, лежит в основе «конфликтного становления музыкального смысла», достигаемого непрерывным моделированием проблемных ситуаций (другой - это «объект»). Развитие в этой связи осуществляется толчками-мутациями, путем перманентно действующего механизма притяжений-отталкиваний. Внутри одних таких зон концентрируется очаг напряжения, возникает форма диалогического отношения-волоса (Г.П. - П.П.; экспозиция - разработка; сонатное аллегро - медленная часть). В других - дается форма-o/weew, восстанавливается нарушенное равновесие (экспозиция - реприза; сонатное аллегро - финал). При этом в каждом из блоков возникают свои функциональные отношения и соответствующие им структуры.
Наглядной иллюстрацией проблемной ситуации служит сонатная экспозиция - сложноорганизованная структурно-семантическая единица (коннотатор) ССЦ. Не вдаваясь в детальный анализ музыкально драматургических функций главной и побочной партий, подробно проделанный Ю. Тюлиным [317, 318 и др.], подчеркнем лишь ту смысловую нагрузку, которую несет на себе тип «контраста-противоречия». А именно: сосредоточенность сонатно-циклического развития на про-блемности как основной форме общения человека с действительностью и противоречии как центральном элементе ее логического освоения не случайна и отражает установку на несовершенство «объекта», во взаимодействие с которым вступает «субъект». Реализуемый с помощью техники «динамического сопряжения», такой контраст становится кульминационным моментом в «сверхтематических» блоках сонатно-циклического процесса. Противоречие здесь и толчок к развитию, и главный смысловой диссонанс, связанный с этапом нарушения исходной монологичности сознания. Однако собственно-смысловая сторона диалога в этих условиях вытесняется противостоянием, натиском, преимущественным и подавляющим действием одной из сторон против другой.