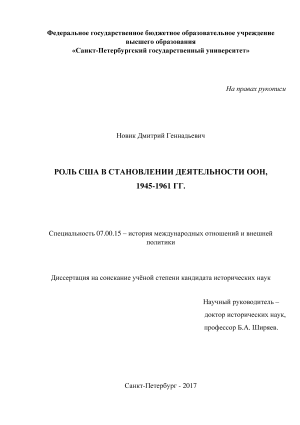Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. США и державы-победительницы в процессе создания ООН 37
1.1. Подготовительный этап создания ООН 37
1.2. Создание ООН: Конференция Объединённых Наций в Сан-Франциско51
1.3. Вопрос о местоположении Центральных Учреждений и его влияние на дальнейшее развитие ООН 70
Глава 2. Разногласия по поводу полномочий ООН и её Генеральных секретарей 77
2.1. Устав ООН и Генеральный секретарь 77
2.2. Взаимоотношения США и ООН: независимость персонала Секретариата 93
2.3. Освобождение американских лётчиков в 1954-1955 гг. 108
Глава 3. Международные кризисы: роль США и ООН 116
3.1. Война в Корее 119
3.2. Переворот в Гватемале 1954 г. 146
3.3. Международные кризисы октября–ноября 1956 года: Суэцкий кризис157
3.4. Международные кризисы октября–ноября 1956 года: Венгерское восстание 179
3.5. Конголезский кризис 183
Заключение 194
Список использованных источников и литературы 209
- Создание ООН: Конференция Объединённых Наций в Сан-Франциско51
- Вопрос о местоположении Центральных Учреждений и его влияние на дальнейшее развитие ООН
- Взаимоотношения США и ООН: независимость персонала Секретариата
- Международные кризисы октября–ноября 1956 года: Суэцкий кризис157
Создание ООН: Конференция Объединённых Наций в Сан-Франциско51
Разумеется, далеко не все предложения делегации Новой Зеландии были отклонены Конференцией. Благодаря Новой Зеландии был сформирован специальный раздел Устава, посвящённый Экономическому и Социальному Совету ООН (а сам Совет стал одним из Главных органов), было внесено положение, обязывающее всех членов ООН уважать строго международный
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг: Сб. документов [В 6-ти характер обязанностей служащих Секретариата, при этом самим служащим Секретариата было запрещено запрашивать и принимать указания от правительств любых государств. Также были определены принципы набора на работу персонала Секретариата143. При этом легко заметить, что отклонены были именно поправки, тем или иным образом ущемлявшие права и привилегии «пятёрки» будущих постоянных членов Совета Безопасности.
В комитетах и комиссиях Конференции борьба между участниками резко обострилась. По вопросу о количестве членов Совета Безопасности была внесена коллективная поправка Венесуэлы, Египта, Ирана, Ирака, Колумбии, Ливана, Сальвадора, Турции, Чили, и ряда других об увеличении числа членов, например, с первоначальных 11 до 15144 . Многие латиноамериканские страны возражали против поправки, закреплявшей учёт военного вклада и географического фактора при выборах новых непостоянных членов Совета Безопасности (несмотря на это, поправка была в итоге принята). На заседании одного из комитетов разгорелась полемика между представителем Соединённого Королевства (А.Кадоган), который осуждал попытки сузить права Совета Безопасности, и представителем Индии, который предложил вовсе полностью пересмотреть саму основу выработки Устава – т.н. предложения Думбартон-Окса, поскольку «они не обеспечивали права малых стран». А.А. Громыко в своём донесении в Народный комиссариат иностранных дел сделал вывод о том, что «В комитете происходит открытая борьба между авторами плана Думбартон-Окса и малыми державами, пытающимися ограничить права Совета Безопасности. Застрельщиком среди малых стран выступает Новая Зеландия. Кстати, нужно отметить, что доминионы Британской империи, и в особенности Австралия и Новая Зеландия, особенно активно выступают в пользу ограничения прав Совета. Четыре приглашающие державы в этом вопросе выступают дружно»145. Тем не менее, как отмечалось выше, в стане делегации США действительно обсуждалась возможность отхода от «Ялтинской формулы» и изменения правил голосования в Совете Безопасности при принятии решений, касающихся мирного урегулирования споров146.
Из-за того, что к самой сути принципа единогласия возникало множество вопросов, от имени приглашающих держав было подготовлено специальное заявление с разъяснением основных положений этого принципа. В нём, в частности, говорилось следующее: «Далее, никакой член Совета не может воспрепятствовать рассмотрению и обсуждению Советом спора или ситуации, на которые обращено его внимание. Сторону, участвующую в таких спорах, также нельзя, таким образом, лишить возможности быть выслушанной Советом. Равным образом требование единогласия постоянных членов не может помешать какому-либо члену Совета напомнить членам Организации об их общих, принятых по этому Уставу обязательствах в отношении мирного разрешения международных споров»147 . Стоит отметить, что делегация СССР запросила дополнительного времени на изучение заявления.
Можно заметить, что в целом все предложения «малых» стран вели к одной и той же цели. Основной их целью было уравнивание всех членов ООН и отмена особого, привилегированного положения постоянных членов Совета Безопасности. При этом многие поправки вели к этой цели через увеличение значимости органов ООН с максимальным представительством, в первую очередь – Генеральной Ассамблеи. При этом, Совет Безопасности должен был превратиться из фактически лидирующего органа в структуру, подчинённую Генеральной Ассамблее. Стоит здесь заметить, что формально Совет Безопасности как раз является подчинённым по отношению к Ассамблее органом. Это можно утверждать хотя бы потому, что именно Совет ежегодно отчитывается перед Ассамблеей, ей же определяется (пусть и не полностью) его состав.
Определённые разногласия вызвал и вопрос о будущей системе опеки. Вопрос этот имел важное политическое значение, поскольку от его разрешения зависело то, каким образом после окончания войны победившие державы смогут использовать подконтрольные им несамоуправляющиеся территории. Учитывая, что до массового обретения независимости бывшими колониями оставалось ещё достаточно много времени, фактор контроля над несамоуправляющимися территориями имел важное значение в формировании политической структуры послевоенного мира. Для США проблема системы опеки, и более глобальная проблема отношения с зависимыми территориями имела особое значение. В частности, нужно отметить, что заявление В.М. Молотова на одной из пресс-конференций о том, что СССР будет защищать в новой международной организации права несамоуправляющихся народов, вызвало беспокойство в американском правительстве, так как США традиционно считали себя главным защитником прав зависимых народов и опасались, что теперь этой роли они могут лишиться148. Тем не менее, вопрос о системе опеки, хотя и был весьма важным, вызвал всё же меньше противоречий, чем проблема сохранения принципа единогласия постоянных членов Совета Безопасности, далее следует привести лишь основные моменты его рассмотрения.
Делегация Великобритании предложила проект раздела, посвящённого системе опеки, предусматривающий, в частности, что «Никаких ревизий существующих мандатов Лиги Наций, осуществляемых государствами – членами Объединённых Наций, не должно производится без согласия заинтересованной державы-мандатария»149. Также в документе предусматривалось, что государства, осуществляющие опеку, могут использовать вооружённые силу подопечных территорий для обеспечения мира и безопасности согласно Уставу ООН150.
Вопрос о местоположении Центральных Учреждений и его влияние на дальнейшее развитие ООН
Вопрос о том, являлся ли конфликт в Корее внутренним или международным (до ввода на полуостров войск ООН), весьма сложен. С точки зрения ООН, правительство Республики Корея было единственным правительством, созданным на территории всей Кореи на законных основаниях и выражающим волю всего корейского народа. То, что оно не контролировало северные территории было лишь следствием нежелания СССР и северокорейской администрации сотрудничать с Комиссией ООН по вопросу о Корее. При такой трактовке, с одной стороны, логично рассматривать конфликт как внутреннюю борьбу за власть, при которой вмешательство ООН невозможно.
С другой стороны, положения Главы VII Устава ООН касаются ситуаций, представляющих собой угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, не конкретизируя, должны ли соответствующие события непременно затрагивать территорию нескольких членов Организации. То есть, если некий внутригосударственный конфликт может иметь последствия для международного мира и безопасности, ООН правомочна принимать меры в его отношении. Однако, такая возможность должна быть однозначно установлена Советом Безопасности, и заинтересованные государства должны так или иначе участвовать в этом процессе. При рассмотрении корейского вопроса в Совете Безопасности ссылок на угрозу соседним или каким-либо иным государствам не делалось.
Аргументация сторонников вмешательства в корейский конфликт в общем виде сводилась к тому, что Республика Корея является государством, созданным при непосредственном участии ООН, под её опекой и по её решению. Нападение на это государство воспринималось как агрессия против самой Организации, её решений, принципов и целей. 293 Кроме того, в ходе первого заседания представитель Южной Кореи обратился к Совету Безопасности с просьбой об оказании помощи его стране, сказав: «Я призываю Совет Безопасности к немедленному принятию мер для устранения этой угрозы международному миру. Я также призываю Совет Безопасности приказать агрессорам прекратить огонь и уйти прочь с нашей территории. Мы обязаны своим существованием Объединенным Нациям. Я верю что Совет Безопасности на который возложена главная ответственность за поддержание мира не откажется от выполнения этого повелительного долга».294 В речи представителя Южной Кореи стоит отметить, что он говорит о вторжении в свою страну, то есть, технически, говорит о вторжении со стороны другой страны. Это не ошибка перевода, в английском тексте официального отчёта о заседании Совета (Дж.Чанг говорил по-английски) записано: «The invasion of my country…» – «вторжение в мою страну…». 295 Случайна ли это оговорка или намерена – неизвестно. Однако именно такая риторика позволила вывести обсуждение вопроса на уровень рассмотрения возможной угрозы международному миру и безопасности.
В результате, как известно, была принята резолюция 82 (1950), проект которой был предложен делегацией США (в текст были внесены небольшие изменения). Эта резолюция призывала к немедленному прекращению военных действий и, что очень важно, прямо обвиняла Северную Корею в развязывании войны.296 Делегация Югославии пыталась предложить гораздо более взвешенный проект резолюции, отмечавший лишь сам факт военных действий на Корейском полуострове и призывавший к их прекращению, а также приглашавший правительство Северной Кореи выступить в Совете Безопасности. Проект резолюции был отклонён297.
И здесь необходимо напомнить, почему принятие подобной резолюции вообще стало возможным и почему Югославия стала единственным представителем социалистического лагеря в Совете Безопасности ООН. Причиной этого стало то, что СССР бойкотировал заседания Совета Безопасности, как и вообще работу ООН с января 1950 года. Решение о бойкоте было принято в знак протеста против отказа ООН признать правительство Китайской Народной
Республики единственным законным представителем Китая на международной арене и передать ему соответствующее место в структурах ООН, в том числе, место Постоянного члена Совета Безопасности. Целью бойкота было парализовать работу ООН, особенно её Совета Безопасности и вынудить США и остальных членов Организации пойти на уступку в вопросе о представительстве Китая298. Как известно, этой цели такой шаг не достиг – Совет Безопасности продолжил работать, несмотря на отсутствие одного из Постоянных членов – фактически отсутствие приравняли к воздержанию от голосования, которое в практике Совета не препятствует принятию решений (хотя возможность Постоянного члена воздержаться от голосования и никак не зафиксирована в основных документах ООН). Известно также, что советский представитель в ООН Я.А. Малик запрашивал у Москвы инструкции по действиям в связи с первым заседанием Совета Безопасности по корейскому вопросу (что подразумевало возможность вернуться к работе в Совете. А.А. Громыко, занимавший тогда пост первого заместителя министра иностранных дел СССР вспоминает, что МИДом уже была подготовлена директива, предписывающая Малику на заседании Совета отвергнуть все обвинения в адрес КНДР и СССР и, в случае голосования по какой-либо резолюции, направленной против КНДР или КНДР и СССР, заблокировать её. Однако И.В. Сталин лично отдал приказ о бойкоте заседания, несмотря на предостережение о возможных последствиях299. А.А. Громыко, однако, обходит тот факт, что СССР уже на тот момент бойкотировал работу Совета Безопасности. Громыко считал, что данный шаг Сталина был продиктован скорее эмоциями, нежели политическим расчётом.300
Взаимоотношения США и ООН: независимость персонала Секретариата
Разумеется, было бы в корне неверным определить политику США в ООН в 1945-1961 годах как контрпродуктивную и направленную на разрушение роли Организации. Это не соответствует историческим фактам. Соединённые Штаты были одними из создателей и во многом авторами идеи подобной международной организации. В создание ООН были вложены бесчисленные материальные, политические и интеллектуальные ресурсы американского народа, а главное его надежды, как надежды и других народов Земли на безопасное и мирное будущее без войн и конфликтов. США поддерживали ООН с первого дня её работы во всех областях. Крайне важной оказалась организационная поддержка, позволившая ООН получить удобную штаб-квартиру в развитом и безопасном районе – городе Нью-Йорк. В течение всего рассматриваемого в данной работе исторического периода США продолжали поддерживать Организацию и участвовать в совершенствовании её нормативного и организационного инструментария. В качестве серьёзных достижений можно отметить уже упомянутые выше резолюцию Генеральной Ассамблеи 377 (V) «Единство в пользу мира» и схему создания миротворческих сил без участия Военно-Штабного Комитета. Эти действия уже рассматривались в качестве элементов политики США по использованию ресурсов ООН. Однако здесь нет противоречия. В данном случае можно заключить, что, развивая инструментарий своего политического влияния, США параллельно совершенствовали и инструментарий Объединённых Наций, поскольку эти преобразования шли на пользу ООН, приобретавшей новые возможности реализации своей основной цели в условиях Холодной войны. В данном случае новый или обновлённый инструментарий предусматривал более широкое участие государств-членов в реализации главной функции ООН – сохранению международного мира и безопасности. Для США была важна возможность «обходить» при принятии решений СССР и его союзников. Вовлечение большего количества членов ООН в процесс было необходимым условием этого. И одновременно оно вело к демократизации ООН, к повышению роли её членов, не имевших статуса великих держав. Сверхдержавы всё равно продолжали играть главную роль, но постепенно им всё больше приходилось прислушиваться к мнению других стран, и особенно важным это стало после начала активного процесса деколонизации. Можно сказать, что заявившие о себе на Конференции Объединённых Наций в Сан-Франциско «малые страны» продолжили борьбу за право голоса уже в рамках ООН. Пожалуй, верным будет тезис о том, что они продолжают её и сейчас, в полностью изменившихся условиях. Положительная роль США в данном отношении заключается в том, что они, как главные архитекторы Устава, заложили в него широкие возможности дальнейшей демократизации Организации и продолжили развивать их в последующие годы. Отрицательная же роль США в том, что эта сверхдержава использовала процессы демократизации ООН для решения своих целей, зачастую обеспечивая себе поддержку в международном органе за счёт политического давления. Можно вспомнить слова Президента США в 1953-1961 гг. Д. Эйзенхаура, сказанные им по поводу дипломатических отношений с СССР и военной мощи США: «Я считаю, что мы должны постоянно увеличивать нашу мощь, чтобы образумить этих людей и говорить с ними с позиции силы и попытаться достигнуть того, что часто называется модус-вивенди…»463. Точно так же руководство США относилось к силе дипломатической, стремясь постоянно наращивать свою международную поддержку, даже если это могло дискредитировать в конечном итоге институты, её оказывающие. Подобное поведение для государства такой мощи и такого статуса вполне логично и обосновано, но учитывая роль ООН в системе международных отношений и её «моральный груз ответственности» за сохранение мира во всём мире, оно является крайне опасным, поскольку может лишить государства мира надежды на третейскую роль всемирной организации. К началу 1960-х годов влияние США было уравновешено усилиями административного руководства ООН, проводившего независимую политику беспристрастного арбитража и строго следования нормам Устава, являющегося универсальным ориентиром для современных международных отношений начиная с момента его вступления в силу в 1945 году.
Нельзя забывать, что многосторонние политические институты, международные организации не существуют сами по себе. Они являются отражением политики государств, в них входящих, собственные действия таких институтов являются своеобразной равнодействующей устремлений и интересов всех их участников. Конечно, логично и ожидаемо, что при этом наибольшее влияние на эту равнодействующую будут оказывать те государства, которые обладают наибольшим политическим влиянием. Но особенность сферы международных отношений в том, что, несмотря на лидирующую роль отдельных участников мирового политического процесса, подлинно важные, общечеловеческие цели могут быть эффективно достигнуты лишь при участии и согласии всех участников. Подчёркивая важность совместных дружественных действий в рамках ООН Е.Ю. Начарова пишет: «…ООН не сможет успешно справляться с новыми вызовами международной безопасности, если государства, входящие в нее будут видеть непримиримых врагов друг в друге»464. Важно также учитывать, что согласие по всем вопросам должно быть действительным и основываться не на подчинении воле одного или нескольких лидирующих государств, а на подлинном консенсусе с учётом не только реальных интересов всех участников, но и целей и задач самой организации, которые совпадают с общечеловеческими целями развития глобального сообщества людей.
На современном этапе всё чаще поднимается вопрос о системном кризисе ООН и необходимости проведения широкой реформы этой организации. И в самом деле, из истории создания и первых лет деятельности ООН видно, что в её конструкцию были заложены «мины», не позволившие её потенциалу полностью раскрыться, затормозившие развитие важных видов деятельности Организации. Структура ООН построена таким образом, что наиболее эффективно она может выполнять свою главную функцию по поддержанию международного мира и безопасности лишь при условии согласия всех постоянных членов Совета Безопасности. Такая ситуация в истории ООН встречалась довольно редко. И это ожидаемо – странно было бы ожидать согласия между мощнейшими державами, делящими между собой остальной мир. Однако факты истории ООН показывают, что такое согласие всё же имело место в ряде случаев, и тогда деятельность ООН приносила наибольший результат. ООН действительно оказалась несовершенной, но она была лучшим, что могло быть создано в конкретный момент времени. И её потенциал далеко не исчерпан. Если ООН удавалось держать за столом переговоров двух непримиримых противников по Холодной войне – СССР и США, и даже находить вопросы, по которым их мнения совпадали, разве текущая ситуация в мировой политике может оказаться для неё сложнее? Конечно, важное значение имеет множество факторов, в том числе и личностный – крайне важны фигуры глав государств, представителей при ООН, Генеральных секретарей. Но ещё более важным оказывается искреннее желание создать более безопасный мир для будущих поколений. Пожалуй, самая большая беда ООН в том, что с её созданием мировое сообщество успокоилось, решив, что мир в надёжных руках, и тут же принялось решать свои проблемы, попутно эти «руки» «связывая». Осознание персональной ответственности каждого государства, и, в первую очередь, такого мощного как США, за мир и безопасность во всём мире может вернуть силы ООН и сделать её реальным инструментом поддержания мира и безопасности. Разумеется, это возможно лишь при глубоком осознании плюрализма мыслей, идей, политических ценностей и интересов, культурных и цивилизационных различий – всего того разнообразия, для защиты которого и создавалась ООН в те дни, когда тень нацизма – идеологии ненависти и превосходства одних над другими ещё висела над миром.
Международные кризисы октября–ноября 1956 года: Суэцкий кризис157
Генеральный секретарь ООН Трюгве Ли вспоминал, что впервые информацию о начале военных действий в Корее он получил от заместителя госсекретаря США Джона Д. Хикерсона незадолго до полуночи (по нью-йоркскому времени) 24 июня по телефону. Хикерсон сообщил Ли, что, по сообщению американского посла в Сеуле, войска Северной Кореи напали на Корейскую Республику на рассвете 25 июня (по корейскому времени) 268 . Ли заявил о готовности созвать Совет Безопасности, для чего затребовал информацию от Комиссии ООН по Корее. Ли объяснял этот шаг необходимостью получения информации от органа ООН, независимого от государств-членов, для принятия решения о созыве Совета Безопасности на основании статьи 99269 . Затем Ли получил два звонка от Э.Гросса, в ходе второго из которых, около 3 часов ночи 25 июня, Гросс формально попросил его созвать Совет270.
Здесь нужно обратить внимание на один процедурный момент.
Заседание Совета Безопасности по вопросу о ситуации в Корее (473-е заседание Совета) было созвано в тот же день, 25 июня в 2 часа дня. Первоначально в проекте повестки дня стоял один вопрос (помимо собственно утверждения повестки дня – стандартного пункта любой повестки дня СБ271): «Агрессия против Корейской Республики. а. Письмо представителя Соединенных Штатов Америки от 25 июня 1950 г на имя Генерального Секретаря с препровождением адресованного Председателю Совета Безопасности сообщения относительно акта агрессии против Корейской Республики (S/1495)». Председатель (представитель Индии Бенегаль Н. Рау) предложил внести в повестку ещё один подпункт: «b. Каблограмма от 25 июня 1950 г Комиссии Организации Объединенных Наций по вопросу о Корее на имя Генерального Секретаря относительно агрессии против Корейской Республики (S/1496)».272
Таким образом, формально заседание Совета было созвано на основании письма делегации США (постоянного члена Совета Безопасности), причём само это письмо препровождало сообщение для Председателя Совета Безопасности, а требование о созыве заседания Совета содержалось уже в препровождаемом сообщении. Таким образом, 473-е заседание Совета Безопасности следует рассматривать как созванное в соответствии с Правилом 2 Временных правил процедуры Совета Безопасности: «Председатель созывает заседание Совета Безопасности по требованию любого члена Совета Безопасности».273
На этот малозначимый, на первый взгляд, процедурный момент следует обратить внимание в связи со следующим.
После рассмотрения вопроса об агрессии на Корейском полуострове в ООН и ввода вооружённых сил западных стран под флагом Организации, отношения СССР с Генеральным секретарём Трюгве Ли значительно ухудшились. До событий на полуострове Ли рассматривался Советским Союзом как фигура благоприятная и, вероятно, дружественная. Ли, в свою очередь, поддерживал СССР в ряде ключевых вопросов, в частности, поддерживал передачу представительства Китая от Китайской Республики к КНР. Когда СССР объявил бойкот структурам ООН, в частности, Совету Безопасности, после отказа признать представителей КНР законными представителями всего Китая, Ли стремился вернуть СССР к работе в ООН. Менее чем за месяц до начала военных действий в Корее, Ли посетил Москву, где беседовал со Сталиным, хотя корейский вопрос на этих переговорах и не поднимался274. Также стоит отметить, что это был не первый визит Трюгве Ли в Москву. До 1950 он был в СССР дважды – в 1920-х в качестве представителя Норвежской Рабочей партии (тогда обсуждалось вступление партии в Коминтерн) и после Второй Мировой войны, незадолго до своего избрания на пост Генерального секретаря ООН (тогда Ли представлял правительство Норвегии в качестве министра иностранных дел). Будучи представителем левой Рабочей партии, Т.Ли пользовался поддержкой стран социалистического лагеря.
Однако после начала рассмотрения корейской проблемы в ООН, отношение СССР к Ли резко изменилось. Генеральный секретарь был объявлен пособником империалистов и нарушителем Устава 275 . Непримиримая позиция Советского Союза вкупе с нежеланием США уступать привела к блокированию Совета Безопасности при обсуждении вопроса о назначении нового Генерального секретаря, из-за чего Генеральная Ассамблея была вынуждена своей резолюцией 492 (V) продлить полномочия Трюгве Ли на три года. Подробнее эта ситуация будет рассмотрена ниже.
При этом Советский Союз рассматривал Ли как одного из основных инициаторов вторжения в Корею276 . В Советской исторической энциклопедии сохранилось следующее определение: «Ли (Lie), Трюгве Хальвдан (16.VII.1896 -30.XII.1968) - норв. политич. и гос. деятель. […] В февр. 1946 был назначен Ген. секретарем ООН на срок 5 лет. На этом посту активно поддерживал политику империалистич. держав, гл. обр. США и Великобритании; это особенно проявилось в 1950, во время вооруж. интервенции США в Корее. В нояб. 1950 Ген. Ассамблея ООН под давлением США продлила срок полномочий Т. Л. на 3 года без рекомендации Совета Безопасности (чем был нарушен Устав ООН). Явно прозападная позиция Т. Л. вызвала возмущение мн. стран - членов ООН, и он вынужден был в апр. 1953 уйти в отставку». Таким образом, Трюгве Ли рассматривался как активный сторонник вторжения. Более того, в ряде западных публикаций делается прямая ссылка на то, что Ли, пусть и формально, применил по отношению к корейской проблеме статью 99 Устава ООН.278 Однако ряд других авторов не считают данный конкретный случай примером применения статьи 99.279 Как представляется, верна скорее вторая точка зрения. Применение Генеральным секретарём своего права согласно статье 99 соответствует конкретной процедуре Совета Безопасности и находит определённое отражение в документации Совета. В качестве примера можно привести вопрос о положении в Республике Конго (он будет подробно рассмотрен в соответствующем параграфе данной работы). В этой ситуации Генеральный секретарь, посчитав, что сложившееся положение может угрожать международному миру и безопасности обратился с письмом на имя Председателя Совета Безопасности, в котором прямо указал, что он намерен представить Совету своё мнение о ситуации, которая, по его мнению, может представлять угрозу международному миру и безопасности, и предлагает Председателю созвать срочное заседание Совета.280 В предварительной повестке 873-го заседания Совета вторым пунктом стоит «Письмо Генерального Секретаря от 13 июля 1960 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/4381)»281 . Аналогичная процедура была применена, например, в ходе кризиса вокруг захвата заложников в посольстве США в Иране в 1979 году. Тогда также вторым пунктом предварительной повестки дня было указано «Письмо Генерального секретаря от 25 ноября 1979 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/13646)»282 (как упоминалось ранее, первым пунктом предварительной повестки дня всегда