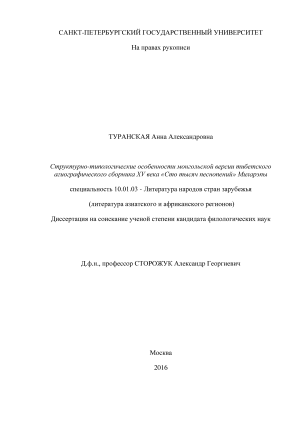Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Монгольская версия «Гурбума» Миларэпы в контексте тибето-монгольской агиографии: генезис, типология и источники 23
1.1. Особенности литератур средневекового типа 23
1.2. Агиография в мировом литературном процессе 25
1.3. Типологические особенности тибето-монгольской агиографии
1.3.1. Тибетская агиография 32
1.3.2. Монгольская агиография 38
1.4. Генезис житийной традиции Миларэпы в Тибете 42
1.4.1. Ранние жизнеописания Миларэпы (XI – первая половина XVвв.) 42
1.4.2. Намтар и «Гурбум» Миларэпы, составленные Цаннён Херукой 50
1.5. Монгольская версия «Гурбума» 57
1.5.1. Монгольский перевод «Гурбума» Ширегету Гуши Цорджи 61
1.5.2. Ксилографическое издание монгольского перевода «Гурбума» 61
1.5.3. Рукопись избранных глав «Гурбума» Миларэпы из собрания
дома-музея Ц. Дамдинсурэна 66
1.5.4. Монгольские сочинения, связанные с намтаром и «Гурбумом»
Миларэпы 70
Глава 2. Базовая структура монгольской версии «Гурбума» Миларэпы: литературоведческий анализ 76
2.1. Литературная специфика тибето-монгольской агиографии 76
2.2. Схема литературоведческого анализа базовой структуры монгольской версии «Гурбума» Миларэпы 78
2.3.Жанровая принадлежность тибетского оригинала и монгольской версии «Гурбума» Миларэпы 80
2.4. Архитектоника монгольской версии «Гурбума» Миларэпы 84
2.5. Хронотоп монгольской версии «Гурбума» Миларэпы
2.5.1. Категория времени 89
2.5.2. Категория пространства 94
2.6. Заполнение пространственно-временной структуры монгольской версии «Гурбума» 100
2.6.1. Система персонажей 100
2.6.1.1. Миларэпа – центральный персонаж «Гурбума» 101
2.6.1.2. Второстепенные персонажи 108
2.6.2. Сюжетика рассказов монгольской версии «Гурбума» 118
2.6.2.1. Пребывание/путешествие 119
2.6.2.2. Встреча 120
2.6.2.3. Средства разрешения конфликта
2.6.2.3.1. Демонстрация магических способностей 122
2.6.2.3.2. Исполнение гуров 124
2.6.2.4. Развязка или результат 129
Глава 3. Национально-культурная специфика монгольской версии «Гурбума» Миларэпы 136
3.1. Средневековый перевод в свете коммуникативной теории 136
3.2. Теория скопоса 139
3.3. Скопос монгольского перевода «Гурбума»
3.3.1. Круг переводов Ширегету Гуши Цорджи 143
3.3.2. Колофоны переводов Ширегету Гуши Цорджи 146
3.4. Особенности перевода «Гурбума» на монгольский язык 150
3.4.1. Топонимы, имена собственные и буддийская терминология 151
3.4.1.1. «Восстановление» санскритского оригинала 151
3.4.1.2. Транскрипция, транслитерация или их сочетание 152
3.4.1.3. Калькирование 153
3.4.1.4. Сочетание транслитерации/транскрипции и калькирования 156
3.4.1.5. Лексические добавления и опущения 156
3.4.1.6. Генерализация и конкретизация
3.4.2. Этнографические лакуны 159
3.4.3. Образные выражения и пословицы 162
3.4.4. Литературный этикет 164
3.4.5. Элементы цензуры 168
3.4.6. Особенности монгольского перевода гуров сборника
3.4.6.1. Стихосложение 168
3.4.6.2. Поэтические фигуры и тропы 176
Заключение 187
Список источников и литературы
- Монгольская агиография
- Схема литературоведческого анализа базовой структуры монгольской версии «Гурбума» Миларэпы
- Скопос монгольского перевода «Гурбума»
- Сочетание транслитерации/транскрипции и калькирования
Введение к работе
Актуальность данного диссертационного исследования определяется
несомненной значимостью переводных буддийских сочинений (в частности
агиографических) для становления монгольской средневековой литературы и формирования у монголов буддийского мировоззрения.
Упоминания «Гурбума» Миларэпы, которого называли «Сократом Азии» и «буддийским Фаустом», впоследствии ставшим «буддийским Франциском Ассизским», включены во все значительные труды по средневековой литературе Монголии. Между тем, в мировом монголоведении до сих пор не было предпринято литературоведческого исследования этого письменного памятника. Исходя из этого, актуальными являются описание источниковой базы памятника, исследование его литературной природы и положения в системе национальной монгольской литературы, анализ жанровой специфики и типологии сборника, исследование его композиционно-структурной организации и содержания, а также бытования в монгольской среде.
Степень научной разработанности темы исследования
В современном словоупотреблении термин «агиография» имеет два значения: совокупность текстов, описывающих жизнь и деяния святых, и научная дисциплина, изучающая эти тексты, а также богословские и историко-церковные аспекты святости.
Зарождение агиографии как науки принято связывать с деятельностью иезуитского общества болландистов, которое с середины XVII по середину XX вв. осуществило масштабный проект по изданию житийной литературы на греческом и латинском языках. Болландисты положили начало критическому методу работы с агиографическими источниками и систематической их классификации. Впервые изучением не только текстов, но также смыслов агиографических легенд и истории их развития, занялся немецкий философ Г. Узенер (1834-1905), который, взяв за основу античную мифологию, попытался применить к агиографии метод сравнительного анализа религий. Его концепция была опровергнута болландистом И. Делеэ (1859-1941), который сформулировал новый подход, тем самым положив начало «критической агиографии». И. Делеэ в качестве главного принципа изучения агиографических текстов ввел критерий достоверности сообщаемых в источнике сведений, сделав предметом изучения генезис культа святого и его
исторические модификации, а агиографию особым направлением исторических исследований.
Агиографические сочинения изучаются с историко-богословской, исторической, социокультурной и литературной точек зрения. Историко-богословский подход ориентирован на реконструкцию и анализ религиозных воззрений эпохи создания сочинения, представлений о святости и т.д. В социально-культурном аспекте агиография дает возможность изучать динамику развития культа того или иного святого, социальные параметры религиозной жизни и религиозно-культурные представления общества. Историки рассматривают агиографические тексты как источники информации по истории эпохи или истории церкви. Менее всего жития изучены как памятники литературные.
Регламентированность структуры агиографических сочинений позволила уже
первым исследователям житийных сочинений ограничиться замечаниями о
«формульности», «трафаретности» и «повторяемости» их литературной составляющей.
Лишь в последние десятилетия, благодаря «реабилитации» понятия литературного канона
для так называемых традиционалистских литератур в трудах Д.С. Лихачева, Б.Л. Рифтина
и других исследователей, появились работы Б.И. Бермана, Л.А. Дмитриева,
М.Е. Ермакова, О.В. Панченко, Т.Р. Руди и других литературоведов, анализирующие жанровую специфику, композиционную структуру, поэтику и топику агиографической литературы.
В отличие от житийных традиций других регионов тибетская и монгольская агиография до сих пор не была объектом целостного изучения. Ее исследование ограничивается введением в научный оборот, публикацией и переводом источников, а также текстологическим и источниковедческим интересом к отдельным памятникам. Автору данной работы не известны какие-либо специальные исследования, посвященные литературной специфике тибетской или монгольской агиографии.
Пристальное внимание исследователей фигура Миларэпы и посвященные ему сочинения привлекли только во второй половине XIX в. Первым упоминанием о «Гурбуме», а точнее о некоторых историях из сборника, является статья моравского миссионера Х.А. Ешке, опубликованная в 1869 г.
В последней четверти XIX - первой половине XX вв. появилась серия статей и работ, представляющих собой переводы отдельных фрагментов наиболее занимательных глав «Гурбума» и частей жизнеописания Миларэпы или пересказ содержания этих текстов. В них, призванных, по большей части, познакомить европейского читателя с личностью тибетского святого и посвященными ему сочинениями, большинство исследователей отмечали изящность и оригинальность языка этих текстов.
Высокая оценка сочинений, посвященных Миларэпе, привела к тому, что они были переведены на европейские языки. В 1928 г. был впервые издан перевод жизнеописания тибетского йогина на английский язык, выполненный У. Эванс-Венцем, а в 1961 г. – «Гурбум» в переводе Г. Чанга.
С 50-х годов XX в. появляются научные исследования этих литературных памятников. В предисловии к факсимильному изданию 1969 г. жизнеописания Цаннён Херуки исследователь тибетской литературы Дж. Смит указал на то, что жизнеописание и «Гурбум» Миларэпы являются результатом письменной житийной традиции, насчитывающей более трех с половиной столетий, и доказал, что именно Цаннён Херука является составителем этих текстов.
Тибетский «Гурбум» стал объектом исследования нескольких диссертационных работ. Так, диссертация Ч. Ван Туйла 1972 г. была полностью посвящена литературоведческому анализу 28-й главы «Гурбума», В. Урубшуров – исследованию литературных тропов и символов тибетского буддизма на примере жизнеописания и «Гурбума» Миларэпы. Э. Куинтман в своей работе проводит текстологический анализ текстов, которые легли в основу сочинений, составленных Цаннён Херукой.
Отношение монголоведов к большинству переводов с тибетского как к литературе сугубо вторичной и не заслуживающей пристального внимания привело к тому, что монгольские тексты жизнеописания и «Гурбума» Миларэпы, долгое время находились вне интереса исследователей. Одно из первых замечаний об этих сочинениях содержится в статье Б.Я. Владимирцова 1919 г. «Буддизм в Тибете и Монголии». В 1922 г. был издан его перевод с монгольского языка двух песнопений из «Гурбума», а позднее переводы монгольских колофонов этих текстов.
В 1959 г. фрагменты монгольских текстов жизнеописания и «Гурбума» были изданы с комментариями Ц. Дамдинсурэна, а почти десятилетие спустя, в 1967 г., вышло факсимильное издание жизнеописания Миларэпы с переводом на английский и комментариями Дж. Боссона, а также перевод этого текста Л. Лёринца на венгерский язык. Значительная часть упоминаний о «Гурбуме» в монголоведческой литературе связана с работами, посвященными Ширегету Гуши Цорджи и его переводческой деятельности.
Начиная с 90-х годов XX в. интерес к переводным сочинениям, в частности, жизнеописанию и «Гурбуму» Миларэпы, существенно возрос в первую очередь в самой Монголии. По большей части эти сочинения изучаются в рамках исследования переводческих техник и приемов. «Гурбум» был также издан в переложении на современный монгольский язык.
Оценивая степень изученности темы, следует отметить, что, несмотря на популярность литературного памятника, проблема, поставленная в диссертационном исследовании, предметом комплексного изучения не становилась. Это обусловило выбор темы и постановку исследовательской цели.
Целью диссертационного исследования является комплексное исследование структуры и типологии монгольской версии прозопоэтического сборника «Гурбум».
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
исследовательских задач:
показать исторические условия формирования тибето-монгольской агиографии и дать систематическое описание ее типологических особенностей;
описать генезис оригинального тибетского сочинения и его монгольской версии;
описать источниковую базу монгольской версии «Гурбума», ввести в научный оборот ранее не исследовавшиеся списки памятника, а также монголоязычные сочинения, содержащие отдельные рассказы (повествования) из «Гурбума» Миларэпы;
описать базовую структурную организацию литературного памятника;
определить типологические характеристики памятника и его место в ряду других сочинений тибетской агиографии;
определить скопос (функцию) монгольского перевода «Гурбума»;
исследовать национально-культурную специфику монгольской версии «Гурбума»;
определить место литературного памятника в системе национальной монгольской литературы.
Объектом исследования является монгольская версия прозопоэтического сборника «Сто тысяч песнопений, пространно разъясняющих жизнеописание досточтимого Миларэпы» (монг. Getlgegci milarasba-yin tuuji delgerenggi ilasan ‘bum daudal kemegdek orosiba).
Предметом исследования являются базовая структура и типологические характеристики монгольской версии прозопоэтического сборника «Сто тысяч песнопений», а также его национально-культурная специфика.
Источниковая база исследования
Диссертационное исследование базируется на комплексе литературных источников, которые образуют группу агиографических текстов, связанных с личностью и культом Миларэпы, одного из самых известных и почитаемых тибетских святых.
Основным источником данной работы стал экземпляр ксилографического издания монгольского перевода «Гурбума» Миларэпы, осуществленного в середине XVIII в. в Пекине, который хранится в рукописном фонде Восточного отдела Научной библиотеки
СПбГУ под шифром Е-55, объемом 282 листа. В работе также были использованы все доступные автору списки с ксилографического издания: бурятская рукопись из Монгольской государственной центральной библиотеки объемом 376 листов, рукопись под названием «Шастра святого Милы» (монг. Mila boda-yin astir) из библиотеки Академии общественных наук Внутренней Монголии объемом 445 листов и рукопись из частной коллекции объемом 547 листов.
Другим источником для настоящего исследования стала уникальная рукопись избранных глав из монгольского перевода «Гурбума» Миларэпы объемом 160 листов, хранящаяся в библиотеке дома-музея академика Ц. Дамдинсурэна в Улан-Баторе, которая, по всей вероятности, восходит к монгольскому переводу Ширегету Гуши Цорджи, не подвергавшемуся редактуре в ходе ксилографического издания памятника.
Помимо этого, в работе были использованы неизвестные ранее в отечественном
востоковедении монголоязычные тексты, содержащие отдельные рассказы
(повествования) из «Гурбума», в частности, бурятское ксилографическое издание текста «Сборник историй из [собраний] песнопений досточтимого святого Миларэпы» (монг. Getlgegci milarasba boda-yin mgur-ud-aca kedi jil tegj bicigsen orosibai ::) из фонда Института восточных рукописей РАН.
В работе также использовались тибетские источники – современное издание дергеской редакции жизнеописания и «Гурбума» Миларэпы, электронная копия ксилографического издания текста под названием «Некоторые отдельные устные традиции, включающие шесть ваджрных гуров досточтимого Миларэпы» (тиб. rJe btsun mi la ras pa’i rdo rje mgur drug sogs gsung rgyun thor bu ‘ga’), жизнеописания Цаннён Херуки, составленные его учениками Лхацун Ринчен Намгьелом (тиб. lHa btsun rin chen rnam rgyal, 1473-1557) и Гоцанг Рэпой (тиб. rGod tshang ras pa, 1482-1559).
Теоретико-методологическая основа исследования
Теоретико-методологическими основаниями данного диссертационного
исследования являются принцип историзма и комплексный подход. Принцип историзма позволяет изучать литературные и культурные явления в контексте соответствующей исторической эпохи. Используемый в данной диссертационной работе комплексный подход подразумевает применение системы разнообразных методов, позволяющих наилучшим образом выявить характерные особенности рассматриваемого литературного памятника.
Важное место в исследовании занимает сравнительно-исторический метод, который позволяет изучать литературные связи и взаимодействия между литературно-художественными явлениями разных регионов и выявить специфику изучаемого явления.
Значимым методологическим основанием диссертационного исследования стало сочетание культурно-исторического подхода, ориентированного на изучение связи литературы с действительностью и обществом и развития литературы как исторического процесса под воздействием различных условий и обстоятельств, и историко-функционального подхода, используемого для описания литературных текстов как исторически развивающихся систем во всей совокупности присущих им связей.
В процессе написания работы также применялись типологический метод, связанный с представлением о типе литературы как структурно сформированной целостности, и историко-генетический, позволяющий выявить закономерности бытования того или иного литературного жанра.
Структурный метод, рассматривающий литературный текст как целостную знаковую структуру, позволил выделить элементы структуры литературного памятника, установить их взаимодействие и описать базовую модель произведения.
В качестве метода исследования также использовался коммуникативно-функциональный подход, согласно которому переводной текст может рассматриваться как вид деятельности, который имеет свою функцию, предполагаемую аудиторию и условия осуществления.
Теоретической основой данной работы являются фундаментальные труды таких исследователей как М.М. Бахтин, Н.И. Конрад, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, Б.Л. Рифтин, А.П. Скафтымов, Б.В. Томашевский, В.Н. Комиссаров, И. Эвен-Зохар, К. Райс и Х. Фермеер.
Научная новизна
Настоящая диссертация является первым в монголоведении опытом системного исследования монгольской версии объемного прозопоэтического сборника «Сто тысяч песнопений, пространно разъясняющие жизнеописание досточтимого Миларэпы», известного также под кратким названием «Гурбум». В ней впервые дана комплексная характеристика типологических особенностей тибето-монгольской агиографической традиции; описан генезис тибетского оригинального текста «Гурбума» и его монгольского перевода; введены в научный оборот и описаны неизвестные ранее в отечественном монголоведении списки памятника, а также монголоязычные тексты, связанные с жизнеописанием и «Гурбумом» Миларэпы; выявлены и проанализированы особенности монгольской версии «Гурбума» с позиций жанровой специфики и типологии; осуществлен литературоведческий анализ базовой структуры монгольского сборника, в частности, определена жанровая принадлежность произведения и его положение в системе жанров монгольской средневековой литературы, исследована его архитектоника,
рассмотрены пространственно-временная организация и система персонажей текста, проанализированы композиционно-структурное строение и содержание; выявлены и описаны национально-культурные особенности монгольской версии «Гурбума».
Теоретическая значимость работы
Данное исследование представляет ценность для развития теории средневековой монгольской литературы, в первую очередь монгольской агиографии и поэзии. Предложенная аналитическая модель может быть применена при исследовании как переводных, так и оригинальных монголоязычных текстов. Полученные результаты могут быть востребованы для дальнейшего изучения средневековой монгольской литературы.
Практическая значимость
Положения и выводы, сформулированные в диссертации, представляют ценность для практики литературоведческих, исторических и культурологических исследований. В диссертации был рассмотрены и введены в научный оборот не исследовавшиеся ранее в востоковедении монголоязычные агиографические сочинения. Полученные в рамках исследования теоретические результаты могут быть использованы для подготовки курсов по истории средневековой литературы и культуры Монголии.
На защиту выносятся следующие теоретические положения:
Центральное положение в становлении буддийской литературной традиции в Монголии второй половины XVI - первой половины XVII вв. занимали переводные с тибетского тексты, выполнявшие роль исходных моделей, на основе которых в дальнейшем развивалась принимающая монгольская литература. В этот период переводные сочинения играли активную роль в формировании центрального сегмента в иерархической системе жанров монгольской литературы, новых правил композиции и литературного этикета.
В конце XVI - начале XVII вв. началось интенсивное проникновение в монгольскую культуру индо-тибетского буддийского агиографического субстрата. В этот период на монгольский язык был переведен ряд тибетских житийных текстов, ставших органической частью национальной монгольской литературы и заложивших основы для формирования в Монголии агиографического канона и культа буддийских святых.
Одним из такого рода произведений стала монгольская версия тибетского прозопоэтического сборника «Гурбум», составленного в 1488 г. и описывающего деяния одного из самых почитаемых тибетских святых Миларэпы. Осуществленный в 1615 г. перевод этого сочинения на монгольский язык был призван положить начало рецепции культа Миларэпы в Монголии. Он также, наряду с другими переводами и иными видами
покровительства буддизму, служил усилению престижа потомков Алтан-хана, позиционировавших себя в качестве буддийских правителей.
Для успешной популяризации идеи буддийского освобождения и образа Миларэпы среди монголов переводчику Ширегету Гуши Цорджи необходимо было точно передать модель описания деяний святого, обретшего состояние будды в течение одной жизни в результате буддийских практик, и, в то же время, адаптировать агиографический текст к воспринимающей культуре, в которой он инициировался, сделать образ святого близким и понятным монгольскому реципиенту, не знакомому с реалиями тибетского буддизма.
Первая задача была достигнута за счет сохранения в монгольской версии базовой структуры тибетского оригинала, передающей архетип культурного героя, который расширяет сакральное пространство с помощью проповеди буддийской доктрины и демонстрации сверхъестественных способностей. Решение второй задачи было осуществлено с помощью прагматической адаптации текста перевода к фоновым знаниям монгольского реципиента, выразившейся в ряде переводческих трансформаций, таких как купюры или упрощение сложных фрагментов текста, привлечение для передачи этнографических лакун монгольских «аналогов», использование монгольской системы гонорифической лексики, приспособление текста к привычной для монголов традиционной поэтической форме и т.д.
В результате подобного рода трансформаций была создана монгольская версия «Гурбума» Миларэпы, в которой растворялась близкая тибетскому читателю конкретика текста. Из трех информационных пластов, которые можно выделить в тибетских житиях, историческая составляющая уходила на второй план, а на первый выдвигались эмоциональная и дидактическая стороны памятника. Монгольская версия «Гурбума» оказала существенное влияние на формирование в монгольской литературе канона буддийской агиографии и на появление оригинальных монгольских сочинений житийного жанра.
Апробация результатов
Отдельные положения и результаты исследования были представлены на
различных конференциях: 26-й Международной конференции по источниковедению и
историографии стран Азии и Африки «Модернизация и традиции» (Санкт-Петербург,
2011), Пятых Доржиевских чтениях «Буддизм и современный мир» (Санкт-Петербург,
2012), 27-й Международной научной конференции по источниковедению и
историографии стран Азии и Африки «Локальное наследие и глобальная перспектива»
(Санкт-Петербург, 2013), Международной конференции «Б.Я. Владимирцов —
выдающийся монголовед XX века» (Санкт-Петербург, 2014), Международной
конференции «З.К. Касьяненко – Учитель и монголовед (посвящается 90-летию)» (Санкт-Петербург, 2015), научной сессии Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург, 2015).
По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Структура диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы и трех приложений. Общий объем диссертации 258 с.
Монгольская агиография
Одним из специфических явлений средневековой словесности, демонстрирующих удивительную устойчивость и однородность в литературах Востока и Запада, является агиография. Как и другие явления средневековой литературы, агиография не остается неизменной на протяжении всего периода своего существования. В ее эволюции можно наблюдать в известной мере сходные процессы: беря свое начало в древней литературе и пользуясь необычайной популярностью в средние века, агиография отмирает с переходом к новой литературе [Рифтин, 1974, с. 13-14].
В современном словоупотреблении термин «агиография» означает особое направление средневековой словесности, совокупность жизнеописаний (житий) святых16, составленных в рамках той или иной религиозной традиции.
Большинство научных трудов определяет агиографию как жанр средневековой литературы. Однако жанр есть категория историческая, представление о которой меняется от эпохи к эпохе. В эпоху средневековья жанры становятся предметом осознания и систематизации. Тем не менее, строгая классификация жанров в средние века, как правило, отсутствовала. В ней совмещались функциональный и формальный принципы деления, что зачастую приводило к ее значительной дробности [Аверинцев, 1994, с. 22]. Учитывая многоликость агиографического материала внутри национальных литератур, сами авторы работ по агиографии указывают на относительность такого определения и вынуждены использовать для обозначения групп агиографических текстов, различающихся по стилю и композиции, такие определения как «поджанр» или «жанровая разновидность». Так, например, один из крупнейших исследователей византийской литературы отмечает: «… термин сам по себе носит условный характер, и еще более условным является представление о некоем едином жанре, состоящем в действительности из столь разнообразных поджанров» [Каждан, 2002, с. 189].
В данной работе мы будем определять агиографию как совокупность жанров, объединенных одним тематическим признаком. Это обусловлено наличием сложной иерархии житийных сочинений, а также многообразием жанровых маркировок в исследуемых литературах Тибета и Монголии17. При этом под жанром понимается исторически сложившаяся, реально существующая и обозначенная тем или иным традиционным термином разновидность произведений [ЛЭ, с. 264]. Как «относительно устойчивый тип» произведений жанр характеризуется единством тематического содержания, стиля и композиционного построения [Бахтин, 1986, с. 428]. Однако для дифференциации жанров может быть значим и один из выделенных признаков.
Агиографические жанры являются одними из самых продуктивных в литературах Средневековья. Только Bibliotheca Hagiographica Latina включает более восьми тысяч жизнеописаний святых [Heffernan, 1988, p. 12], а Общество болландистов издавало жития святых в серии Acta Sanctorum в течение 300 лет [Лурье, 2009, с. 17]. «Из литературы, предназначавшейся для чтения, наибольшей распространенностью пользовалась литература житийная», – отмечает один из крупнейших специалистов по средневековой русской литературе [Гудзий, 1938, с. 29].
До наших дней дошло множество стихотворных и прозаических жизнеописаний, написанных в разное время и при различных обстоятельствах. Описываемые в них персонажи принадлежали к самым разным социальным слоям и религиозным вероисповеданиям. Их авторы могли быть современниками героя повествования или составить свое сочинение через столетия после его смерти; использовать документальные свидетельства о жизни святого или полагаться на устные легенды о нем; составить свой текст по приказу свыше или руководствоваться лишь вдохновением. Подобное разнообразие весьма затрудняет определение и систематизацию агиографических сочинений в целом. Тем не менее, консервативный этос житийной литературы уводит все эти различия на второй план, ставя во главу угла принятую обществом парадигму святости и переплавляя второстепенные детали в устойчивые нарративные модели, что при всем разнообразии литературного материала позволяет выделить типологически сходные черты в агиографии национальных, региональных и зональных литератур. Именно сходство агиографических моделей (а никак не биографий в современном понимании этого слова) позволило монголоведу Б.Я. Владимирцову провести параллель между Франциском Ассизским (лат. Franciscus Assisiensis, 1182-1226) и тибетским йогином Миларэпой [Владимирцов, 2003а, с. 205].
Агиографическое сочинение – это жизнеописание святого, составленное членом сообщества верующих. Текст жития представляет обществу документальное свидетельство процесса санктификации того или иного персонажа, и, таким образом, сам становится частью священной традиции и соответствующим образом воспринимается членами сообщества. Подобного рода тексты распространяют идею о святости своего героя и необходимости поклонения ему. В качестве «документального» источника о жизни святого они получают «апробацию», одобрение со стороны общества, и со временем канонизируются традицией [Heffernan, 1988, p. 16]. За редким исключением18 агиографические сочинения отличаются от обычных, «светских» биографий своей соотнесенностью с культом. Базовым определением для агиографического памятника в его отличии от всех остальных стало определение агиографической легенды, выдвинутое основателем критической агиографии И. Делеэ в 1905 году. В более современной трактовке агиографической легендой «является всякий документ, созданный и/или распространяемый вследствие и/или для распространения соответствующего культа» [Лурье, 2009, с. 35].
Схема литературоведческого анализа базовой структуры монгольской версии «Гурбума» Миларэпы
Вплоть до недавнего времени исследователи тибетской литературы и культуры объясняли появление столь «зрелых» текстов как намтар и «Гурбум» Миларэпы развитием устной биографической традиции, полагая, что предания о Миларэпе передавались изустно от учителя к ученику, пока не была записаны Цаннён Херукой [Cutillo, 1995; Tiso, 1989; Urubshurow, 1984]. Тем не менее, в последние годы в первую очередь благодаря исследованиям П. А. Робертса и Э. Куинтмана стало известно, что к моменту составления этих сочинений Цаннён Херукой наряду с устной существовала и письменная житийная традиция Миларэпы, прираставшая письменными памятниками более трех с половиной столетий. Ниже мы перечислим девять дошедших до нас сочинений, делая акцент на той их части, которая впоследствии вошла в «Гурбум», составленный Цаннён Херукой42.
Первые посвященные Миларэпе сочинения, которые поддаются аттрибутированию, были написаны его непосредственными учениками Нгэндзонг Рэпой (тиб. Ngan rdzong ras pa, XI в.) и Шиба О (тиб. Zhi ba od, XI в.) и представляли собой краткие повествования о некоторых деяниях и песнопениях Миларэпы. Эти повествовательные фрагменты вошли в сочинения XIV в. «Большое жизнеописание [учителей] Кагью» (тиб. bKa brgyud kyi rnam thar chen mo), а также «Облако благословений» (тиб. Byin brlabs kyi sprin phung) Шамарпы Качо Вангпо (тиб. Zhwa dmar pa mkha spyod dbang po, 1350-1405), а впоследствии были включены Цаннён Херукой в «Гурбум» в виде отдельных глав [Chang, 1962, p. 312-357; Quintman, 2006, p. 54-55, 58-62; Roberts, 2007, p. 63].
Тилопы (тиб. Ti lo pa, 988-1069) и Наропы – этот текст вошел в первый том собрания сочинений Гампопы [Quintman, 2006, p. 65; Roberts, 2007, p. 64-68, 235]. Изложение событий в намтаре Миларэпы носит фрагментарный характер и построено в форме ученических записей устного изложения44 [Roberts, 2007, p. 64]. Текст сочинения может быть условно разделен на три части: первая посвящена описанию жизни Миларэпы до его ухода от Марпы, вторая – деяниям, медитативным практикам и встречам с милостынедателями и учениками, третья – описанию смерти тибетского йогина. В этом раннем жизнеописании Миларэпы основные детали повествования существенно расходятся с текстом Цаннён Херуки, в котором их заменили более драматические события. Так, Миларэпа не теряет своего отца в детском возрасте – его отец умирает значительно позже, а мать не упоминается в тексте вообще. Отсуствуют какие-либо упоминания о вражде между семьями Миларэпы и его тетки, напротив, она проявляет заботу о его благополучии. Хотя Миларэпа занимается магией, он никак не использует полученные знания, и в тексте отсутствуют какие-либо упоминания о греховности занятий такого рода. Марпа не отказывает Миларэпе в наставлениях, но поскольку последнему нечем заплатить за обучение, он должен выполнять работу по дому. Марпа не заставляет Миларэпу строить и разрушать здания и так далее. Вторая часть намтара содержит истории45 о Миларэпе (о пребывании тибетского йогина в горах Лачи (тиб. La phyi) [Chang, 1962, p. 11-23], посохе [Chang, 1962, p. 190-200], встрече с одной из духовных учениц Лэгсэ Бум (тиб. Leg se bum) [Chang, 1962, p. 552-563]), впоследствии с существенными изменениями включенные Цаннён Херукой в «Гурбум». Так в жизнеописании, составленном Гампопой, Миларэпа, будучи отрезанным от остального мира на горе Лачи снежной бурей, ошибочно принимает голоса учеников, отправившихся на его поиски, за крики животных; он не превращается в снежного леопарда, который ведет поисковую партию к пещере и так далее. Следует отметить, что, хотя сами песнопения-гуры в намтаре отсутствуют, в тексте даются отсылки к некоторым из них, например, гуру о снежных горах Лачи и гуру о посохе. Последующее деление школы Кагью на «четыре больших и восемь малых школ» (тиб. bKa brgyud che bzhi chung brgyad), а также развитие религиозных институтов в конце XII – начале XIII вв. привели к росту числа текстов, связанных с биографической традицией Миларэпы [van der Kuijp, 1996, p. 46]. Намеченный в ранних сочинениях «скелет» житийного образа святого начал обрастать плотью новых литературных сюжетов и «биографических» подробностей. Стремление зафиксировать в одном сочинении как собственно намтар Миларэпы, так и проповеди, сопровождаемые песнопениями, привело к появлению текстов, которые Э. Куинтман предложил называть «прото жизнеописаниями/песнопениями» (тиб. rnam mgur) [Quintman, 2006, p. 86]. Структура этих сочинений следовала образцу, установленному Гампопой – краткая житийная линия обрамляла ряд эпизодов из жизни Миларэпы, включавших целые песнопения, их фрагменты или же только названия. Эти эпизоды занимали промежуточное положение между описаниями начала жизни и смерти Миларэпы и представляли собой разрозненные нарративные блоки, описывающие случаи из жизни йогина [Quintman, 2006, p. 89-90]. Иногда подобные прото-жизнеописания/песнопения включались в сборники сэртэны, объединявшие жизнеописания лиц, принадлежащих к одной линии преемственности [Smith, 2001b, p. 39-52].
Скопос монгольского перевода «Гурбума»
Отправным пунктом литературоведческого анализа литературного произведения является определение его жанровой принадлежности. В средневековых литературах Тибета и Монголии функциональный жанр был категорией осознанно ведущей, что проявлялось во включении жанровой маркировки в название произведения. Классификация жанров была подвижной и совмещала функциональный и формальный принципы деления, что не позволяет установить четкие границы между жанрами и существенно затрудняет определение жанровой принадлежности сочинений.
Сочинение Цаннён Херуки в названии маркировано как «гурбум» (тиб. mgur bum)142, что, как было отмечено выше, буквально означает «сто тысяч песнопений» или «собрание песнопений»143. Название сборника также указывает на непосредственную связь «Гурбума» с намтаром Миларэпы, отмечая, что он является дополнением к последнему (тиб. mi la ras pa i rnam thar rgyas par phye ba)144. Будучи своего рода моделью, наглядно демонстрирующей возможность достижения состояния будды с помощью практик Ваджраяны, намтар описывает всю жизнь Миларэпы от рождения до смерти. «Гурбум» в пространной форме излагает лишь часть жизнеописания Миларэпы после достижения им пробуждения, связанную с его общением с учениками, участием в религиозных диспутах и демонстрацией различных сверхъестественных способностей, которые являются своего рода доказательством достижения им необходимого результата. То есть фактически предметом описания «Гурбума» являются деяния, проповеди и чудеса будды. После издания «Гурбума» Миларэпы в Тибете стали появляться и другие самостоятельные сочинения подобного рода, в первую очередь в традиции Кагью, в рамках агиографической школы, начало которой положил Цаннён Херука145, а затем и в других школах тибетского буддизма. В качестве примеров можно привести «Гурбум Цаннён Херуки» (тиб. gTsang smyon he ru ka i mgur bum), написанный его учеником Нацог Рангдролом (тиб. sNa tshogs rang grol, 1494-1570) и гурбум Кунга Сангпо (тиб. Kun dga bzang po, 1458-1532) «Гурбум сумашедшего Кунга Сангпо [из области] Уй» (тиб. dBus smyon kun dga bzang po i mgur bum), составленный Нгаванг Драгпой (тиб. Ngag dbang grags pa, 1458-1515). Гурбумы небольшого объема входили в состав сборников песнопений учителей той или иной традиции. Самый известный из них – «Океан песнопений [учителей традиции] Кагью» (тиб. bKa brgyud mgur tsho), составленный восьмым кармапой Микьо Дордже (тиб. Mi skyod rdo rje, 1507-1554) [Roberts, 2007, c. 40, 49]. Впоследствии гурбумы стали включаться в собрания сочинений (тиб. gsung bum) тибетских авторов. Так, например, в сумбум Таранатхи (тиб. Ta ra na tha, 1575-1635) вошло сочинение «Устные наставления и гурбум» (тиб. Zhal gdams mgur bum gyi skor), в сумбум Ролби Дорже – сочинение «Некоторые устные наставления и гуры» (тиб. gSung mgur zhal gdams ga zhig).
Однако в большинстве своем собрания песнопений по-прежнему входили в состав намтаров, что приводило к двойной жанровой маркировке – «намтар и гурбум» (тиб. rnam thar mgur bum, rnam mgur). Среди сочинения, маркированных подобным образом, наибольшую известность в Тибете получили «Краткий намтар и дополнение к намтару гур[бум] досточтимого Рэчунга, обретшего радужное тело в течение одной жизни» (тиб.Tshe gcig la ja lus brnyes pa rje ras chung pa i rnam thar rags bsdus mgur rnam par rgyas) [Roberts, 2007, p. 36-37], «Намтар и гурбум повелителя йогинов прославленного Драгпа Тайе [под названием] “Удивительное драгоценное ожерелье”» (тиб. rNal byor gyi dbang phyug grags pa mtha yas dpal bzang po i rnam thar mgur bum ngo mtshar nor bu i phreng ba) или «Намтар и гурбум Бараба Гьелцэн Пэлсангпо» (тиб. Ba ra ba rgyal mtshan dpal bzang po i rnam thar mgur bum sogs).
Таким образом, можно сказать, что в Тибете сложился особый, весьма немногочисленный жанровый подвид жизнеописаний-намтаров, в основном ограниченный литературной традицией школы Кагью. Ко времени перевода намтара и «Гурбума» Миларэпы на монгольский язык монголы едва ли были широко знакомы с образцами буддийской агиографии146. Широкое распространение агиографической литературы в Монголии началось в конце XVI – начале XVII вв. с переводов с тибетского, и намтар и «Гурбум» Миларэпы в переводах Ширегету Гуши Цорджи были одними из первых текстов, положивших начало рецепции буддийского агиографического субстрата и формированию жанрового канона житийных произведений, которые впоследствии стали органичной частью средневековой монгольской литературы. К началу монгольского «ренессанса» стройной системы передачи тибетских жанровых наименований на монгольском языке не существовало. Такие термины как «намтар», «гур» и «гурбум» были так называемой «безэквивалентной» лексикой, что сказывалось на их передаче в монгольских переводах. Один и тот же тибетский жанровый маркер мог по-разному передаваться на монгольском языке не только разными переводчиками, но даже в работах одного и того же переводчика. Так, например, в переводе Гуши Цорджи жизнеописание Миларэпы имеет жанровую маркировку «намтар» (монг. rnam tar), а в переводческом колофоне и переведенном им же названии Гурбума – «тууж» (монг. tuuji), то есть «история» или «предание». В переводе Тойна Гуши намтар Миларэпы147 имеет маркировку «цадиг» (монг. cadig), то есть «джатака», «жизнеописание» [Kara, 2000, Mong. 318], а в переводе ойратского переводчика Гэлэг Равжа Цорджи – «тууж» [Uspensky, 2001, № 222]. Такое положение дел приводило к неразграниченности маркировок «трансплантируемых» жанров переводных тибетских сочинений в монгольской литературе148.
В названии сочинения Гуши Цорджи передает тиб. mgur bum как «сто тысяч песнопений» (монг. bum daulal), поскольку в монгольском языке заимствованное из тибетского слово bum используется только в значении числительного. Однако в авторском колофоне он избегает использовать этот термин, говоря о «Гурбуме» как о священной книге (монг. sudur). В издательском колофоне намтара и «Гурбума» Миларэпы, переведенном Нгаванг Тэнпэлом почти полтора столетия спустя, тиб. bum заменено его санскритским эквивалентом (санскр. laka), и «гурбум» передан как lag-a toyatan dayulal.
Не было на момент перевода «Гурбума» в Монголии и традиции исполнения подобного рода песнопений. Гуши Цорджи передает термин «гур» как «стихи» (монг. silg) или «песня», «песнопение» (монг. egesig, daulal), а иногда вообще опускает его в переводе и использует такие выражения, как «так проповедовал» (монг. eyin nomlar-un), «изрек» (монг. jarli bolur-un) или «так ответил» (монг. eyin qariular-un). Практически таким же образом этот термин передается и в главах, заново переведенных Нгаванг Тэнпэлом: «песня», «песнопение» (монг. egesig, egesig daun, daulal). Тибетское выражение «исполнил гур» (тиб. mgur di gsungs, mgur du gsungs) передается как, например, «проповедовал, спев» (монг. daulan nomlar-un), «проповедовал песню» (монг. egesig-i nomlar-un, egesig daun-i eyin nomlar-un), «спев, так проповедовал» (монг. egesigler-m eyin nomlar-un).
Сочетание транслитерации/транскрипции и калькирования
В литературах средневекового типа соотношение между исходными и переводными текстами, которые составляют значительную часть общего фонда памятников, характеризуется рядом дополнительных особенностей, делающие понятие эквивалентности перевода оригиналу еще более относительным. Прежде всего, отсутствовала четкая оппозиция между оригинальной и переводной литературой, переводные сочинения были органической частью национальной литературы. Одним из проявлений отсутствия такого разграничения было то, что переводы свободно включались в своды оригинальных сочинений. Книга входила в круг сакральных предметов, что ставило ее выше своего творца. Отсюда размытость границ между автором текста, его редактором, копиистом и тем более переводчиком. Статус перевода определялся теми же параметрами, что и статус оригинала. «Письменность, как и вся средневековая культура, была иерархична, а место в иерархии зависело от внелитературного авторитета соответствующего памятника» [Левин, 1995, с. 19] вне зависимости от его оригинального или переводного характера. Отсутствовал институт профессиональных (в современном понимании этого слова) переводчиков. Переводы могли осуществляться в политических и религиозных целях, для узких целевых групп, а также в качестве добродетельного поступка. Буквализм (естественный результат пословного принципа) и «рабское» следование оригиналу, свойственные большинству средневековых переводов, парадоксально уживались со смелой редактурой переводных памятников, подвергавшихся купюрам, осложнявшихся интерполяциями и включавшихся в различные компиляции [Алексеева, 2004, c. 66; Левин, 1995, с. 17-25; Лихачев, 1968, с. 14; Even-Zohar, 2000; Long, 2010].
Вышесказанное в полной мере относится и к монгольской переводной литературе второй половины XVI – начала XVII вв. Несмотря на то, что переводные тексты занимали центральное положение в литературе этого периода и стали основой для образования новых исходных моделей, на базе которых монгольская литература развивалась в дальнейшем, процесс перевода буддийских сочинений на монгольский язык изучен недостаточно. Большинство исследований сводятся к постановке проблемы, сравнению нескольких переводов одного и того же тибетского текста или же описанию отдельных переводческих трансформаций316. По мнению исследователей, в Монголии сложилось два типа переводов – дословный (близкий к тибетскому оригиналу) и смысловой, стремящийся к сохранению монгольского строя языка. Первый доминировал в количественном отношении, второго придерживался ряд крупных монгольских переводчиков, в том числе и Ширегету Гуши Цорджи [Цендина, 1995, с. 78-79; Цыбиков, 1981, с. 37-39]. При этом за рамками исследования остаются цели переводчика и соответствующий им выбор целевой группы и определенных переводческих стратегий, его взаимоотношения с инициаторами перевода, осуществление самого процесса перевода и т.д.
В качестве метода анализа переводных текстов в средневековой литературе, а также исследования их функций, Л. Лонг предлагает использовать одну из фундаментальных концепций современного переводоведения, теорию скопоса, то есть цели или функции перевода, определяющей его читательскую аудиторию и переводческую стратегию [Long, 2010].
Теория скопоса (от греческого skopos – «цель, задача») была сформулирована 1970-х годах американским лингвистом К. Райс и доработана десятилетие спустя немецким исследователем Х. Фермеером317. Теорию скопоса можно считать коммуникативной, так как, согласно ее концепции, перевод происходит в рамках коммуникативной ситуации, специфика которой заключается в присутствии в ней двух разных культур.
Согласно скопос-теории, перевод может рассматриваться как вид деятельности, который имеет свою функцию (цель), предполагаемую аудиторию и условия осуществления. Именно они определяют выбор стратегий и методов перевода [Vermeer, 2000, p. 221]. В подобной ситуации перевод нельзя трактовать узко как «процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания» [Бархударов, 1975, с. 10]. По сути, перевод состоит в «адаптации текста к воспринимающей культуре, в которой он инициируется» [Venuti, 1998, p. 240-244].
Перевод (или «межкультурная коммуникация»), как правило, инициируется заказчиком (инициатором), обращающимся к переводчику, поскольку ему нужен определенный перевод для определенного адресата (реципиента). Основными факторами и составляющими процесса межкультурной коммуникации являются автор, отправитель и реципиент исходного текста, исходный текст, инициатор перевода, переводчик, текст перевода и его реципиент(ы). На практике некоторые коммуникативные роли в этом процессе могут исполняться одним и тем же индивидом. Так, например, отправителем может быть автор исходного текста, инициатором перевода может выступать сам переводчик и т.д. Отдельные звенья этой цепи могут быть разделены значительными временными промежутками [Nord, 1991, p. 4-6].
Важная роль в процессе межкультурной коммуникации принадлежит инициатору перевода. Помимо того что он является самостоятельной фигурой (если это не сам переводчик, реципиент текста перевода и т.д.), он начинает процесс перевода и задает его направление. Инициатор начинает процесс межкультурной коммуникации, поскольку ему нужен определенный коммуникативный инструмент для конкретной цели: текст перевода [Nord, 1991, p. 8; Vermeer, 2000, p. 221, 229-230].