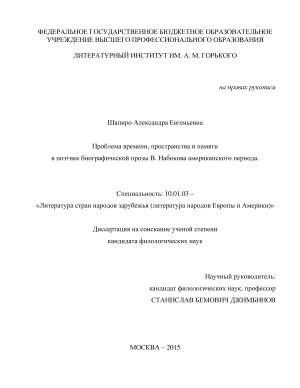Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Образы минувшего в контексте творческого метода и «теории времени» В. Набокова .
1.1 «Ада, или Радости страсти»: поэтика времени и пространства 39
1.2 «Память, говори»: метафизика воспоминаний 53
Глава 2. Биографический роман и поэтические свойства памяти .
2.1 «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»: поэтика «портретной живописи» в биографическом романе 73
2.2 «Прозрачные вещи»: память как зеркало действительности 93
2.3. «Смотри на Арлекинов»: реальность и вымысел в мемуарной прозе 111
Заключение 131
Список литературы 14
- «Ада, или Радости страсти»: поэтика времени и пространства
- «Память, говори»: метафизика воспоминаний
- «Прозрачные вещи»: память как зеркало действительности
- «Смотри на Арлекинов»: реальность и вымысел в мемуарной прозе
Введение к работе
Актуальность исследования обусловлена следующими факторами:
1) выявление и рассмотрение концептуальных для биографической прозы Набокова американского периода категорий времени, памяти, пространства позволяют значительно расширить рамки целостного восприятия поэтики писателя. Будучи не только выдающимся художником-билингвом, но и серьезным
исследователем литературной стилистики, Набоков едва ли не во всех своих крупных сочинениях прямо или косвенно размышляет о жизни как о своеобразном воплощении творческого процесса. Писателя, казалось бы, мало интересовали главенствующие идеологии эпохи. При этом своеобразное научно-философское «полиглотство» Набокова, на которое справедливо указывают многие исследователи его творчества, опосредованно отражает его интерес к актуальным для ХХ века философским течениям. И все же писателя гораздо больше волнует не абстрактное мудрствование, а поиск эстетических, нравственных и философских «точек опоры», неких согласованных для литературы и науки символов и знаков, позволяющих объяснить, истолковать, оправдать неординарность собственного миропонимания. Поэтому категории времени, памяти и пространства им не столько декларируются (хотя их теоретическому обоснованию уделяется много внимания), сколько становятся главными инструментами в построении художественного мира, в котором образы минувшего позволяют проникнуть в скрытую от обыденного взора реальность бытия;
-
разработка темы диссертации позволяет по-новому осмыслить сам жанр биографической художественной прозы, в который Набоков привнес много нового. Во внушительном корпусе русской и англоязычной «мемуарной беллетристики» биографические сочинения Набокова, созданные им в Америке, занимают особое место. Память Набокова – своего рода ноосфера, в которой исторический факт и реальность присутствуют, но не доминируют. Необходимость рассмотрения этого явления тем более очевидна, что все чаще и чаще, иногда спекулятивно, к биографической прозе Набокова обращаются как к некоему «хранилищу» фактов, сведений, свидетельств, значительно недооценивая ее образно-философский, собственно поэтический, метафизический смысл;
-
анализ поэтики времени, памяти и пространства «американской» биографической прозы писателя позволяет рассмотреть важную для
набоковедения проблему – влияние метафизических идей на эволюцию стиля писателя;
4) в течение многих десятилетий попытки концептуально-метафизического осмысления творчества Набокова предпринимались не системно, при этом, преимущественно американскими учеными и критиками. С начала 90-х годов прошлого века в России аналитические интересы исследователей были сконцентрированы, как правило, на вопросах национальной, ментально-исторической, жанровой этимологии стиля Набокова. Метафизика творчества в ее общепоэтическом измерении оказалась, таким образом, на периферии отечественного набоковедения.
Непосредственным материалом для исследования послужили прозаические сочинения писателя, созданные им в американский период творчества, этимологически связанные между собой концептуально-теоретическими, жанрово-биографическими мотивами: «Ада, или Радости страсти», «Память, говори», «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Прозрачные вещи» и «Смотри на Арлекинов!».
Объект исследования – «мемуарная» беллетристика Набокова американского периода в контексте эволюции его мировоззрения и стиля.
Предметом исследования является поэтическая трансформация концептуальной для всего творчества писателя триады, «время – память – пространство», а также различные модификации жанра биографической прозы, осуществленные за счет преодоления устоявшихся жанровых канонов.
Исходная гипотеза диссертации заключается в том, что, используя классические литературные формы биографического повествования, Набоков наполняет их принципиально новым, в высшей степени оригинальным содержанием, что позволяет ему, во-первых, максимально точно выразить индивидуальную «философию времени и пространства»; во-вторых, обозначить
наиболее важные критерии оценок собственного творческого метода, и, наконец, найти в авангардно преображенной им поэтике «романа-воспоминания» наиболее адекватную форму выражения своего миросозерцания.
Главной целью диссертации является системный анализ концептуальных элементов поэтики поздних биографических опусов Набокова (времени, памяти, пространства), позволивших писателю обосновать и выразить основополагающие для него мировоззренческие и художественные идеи. Для этого потребовалось поставить и решить следующие задачи:
– рассмотрение наиболее характерных свойств «теории времени» Набокова в контексте философской культуры прошлого и современности;
– анализ эмпирических и метафизических подтекстов набоковского толкования времени, памяти и пространства;
– изучение возможностей обогащения художественной лексики и расширения жанровых границ биографической прозы за счет преодоления привычных толкований фундаментальных философских понятий и различных этических категорий.
Методика исследования непосредственным образом диктуется содержательной и структурной логикой художественных текстов, рассматриваемых в диссертации. Применяется метод комплексного анализа, в котором герменевтический взгляд соседствует с литературно-историческим, интертекстуальный – с философско-этическим.
Теоретической базой исследования стали работы отечественных и зарубежных мыслителей, ученых-литературоведов, критиков: М. Бахтина, В. Виноградова, Ю. Лотмана, Б. Аверина, В. Александрова, Н. Анастасьева, А. Леденева, И. Гальперина, А. Долинина, А. Люксембурга, Н. Мельникова, О. Казниной, В. Старка, С. Федякина, А. Аппеля, И. Арнольда, Б. Бойда, К. Проффера, Н. Пейджа, Л. Токер, М. Шрайера и др.
На формирование исследовательской позиции автора оказали влияние труды известных философов, искания которых, в свою очередь, находились в орбите научных и метафизических интересов самого В. Набокова: А. Бергсона, А. Уайтхеда, К. Юнга, М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна и др.
При том, что на сегодняшний день набоковедение накопило внушительный объем работ по многим аспектам творчества и биографии писателя, степень научной разработанности темы диссертации нельзя считать исчерпывающей. Отдельные философско-этические, психологические, научно-аналитические элементы набоковской поэтики, в том числе категории памяти, времени и пространства, затрагиваются западными и отечественными учеными и критиками. При этом в большинстве из них важные для Набокова концепты рассматриваются сегментарно, вне стремления обозначить внутреннее единство всех художественных, научных, аналитических, философских, психологических слагаемых поэтики писателя.
Серьезным импульсом для системного изучения набоковской метафизики стала небольшая статья Дж. Леонарда «Вместо потерянного времени: Ада», впервые переведенная автором диссертации на русский язык в 2012 году. Это одна из наиболее интересных работ, в которой предпринята попытка комплексного подхода к изучению набоковской метафизики. Статья посвящена анализу романа «Ада» в контексте «теории времени» писателя. При весьма глубокой и аргументированной проработке различных трансцендентных подтекстов романа, исследователь не ставит перед собой задачу морфологического охвата поэтики писателя. Одним из первопроходцев в исследовании категорий времени в прозе Набокова является Н.Э. Зэллер – автор статьи «Спираль Времени в Аде». Здесь также нет стремления осмыслить эволюцию метафизического и научно-теоретического элементов набоковской поэтики, но отмечены весьма интересные
концептуальные связи «теории времени» Набокова с «поэтикой времени» М. Пруста.
Заслуживает внимания статья К. Сугимото «Многослойное время у В. Набокова», в которой отмечается приоритет автобиографичности в значительной части прозаических сочинений Набокова. Дж. Грин в статье «Образы «Идеального Прошлого»: Набоков, автобиография, биография и вымысел» оценивает представления писателя об истории в ее локальном, субъективно-личностном выражении. Обращает на себя внимание скептическое отношение критика к достоверности передачи фактов в «документальных» работах Набокова. Статья К. Морару «Время, творчество писателя, экстаз в «Память, говори»: воплощение прустовской задумки» посвящена рассмотрению опосредованного отражения в биографической прозе Набокова идей, обозначенных в романном цикле М. Пруста «В поисках утраченного времени».
Весьма ценным вкладом в набоковиану является монографический труд Г. Грейбса «Художественные биографии: английские романы В. Набокова». Рассматривая романы «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Под знаком незаконнорожденных», «Лолита», «Пнин», «Бледное пламя», «Ада, или Радости страсти», «Прозрачные вещи» и «Смотрите на Арлекинов!», ученый подчеркивает исходный и общий для них биографический импульс. Х. Пичева в монографии «Искусство памяти в изгнании. Владимир Набоков и Милан Кундера» сравнивает творческие подходы В. Набокова и М. Кундеры в ситуации, когда обоим писателям пришлось осваивать не родное для них языковое и культурное пространство, что, по мнению исследовательницы, сделало тему «родных берегов» смысло-образующей в их творчестве. К. Анри-Томмс в работе «Воспоминание, память, воображение. Выборочные автобиографические романы Владимира Набокова» рассматривает и сопоставляет метафизическое значение отдельных элементов памяти (припоминание, воспоминание) в автобиографических романах Владимира
Набокова и «Исповеди» Блаженного Августина. Можно скептически относиться к самой концепции подобного анализа, но сравнительный анализ метафизических концепций писателя-агностика и выдающегося религиозного мыслителя, намечаемый Анри-Томмсом, позволяет нам более точно обозначить проблему трансцендентного начала в набоковской поэтике. Рассматривая основные философские учения, посвященные важнейшим метафизическим категориям, мы еще вернемся к «Исповеди» Блаженного Августина, как к произведнию, явно перекликающемуся в некоторых своих положениях с «теорией памяти» В. Набокова.
Модернистскому толкованию категории памяти в творчестве Набокова посвящена интересная книга Дж.Б. Фостер мл. «Искусство памяти Набокова и европейский модернизм». Автор рассматривает культурные предпосылки творчества писателя и его место в мировой культуре. В качестве особенности отношения писателя к функции памяти отмечается свойственное творческому методу Набокова единство художественного вымысла и мнемонической правды. М. Гришакова в рамках диссертационного труда «Модели пространства, времени и образов в произведениях В. Набокова: методы повествования и культурные модели» изучает характерность пространственно-временного (визуального) моделирования в произведениях Набокова в эстетическом контексте модернизма и пост-модернизма.
Широкий круг эстетических, смысловых и историко-биографических проблем, чрезвычайно важный для понимания набоковского творчества, рассматривается двумя крупнейшими набоковедами – В. Александровым и Б. Бойдом. Первый обращается к проблеме «потусторонности», как некоей главной теме творчества писателя. Бойд, помимо подробнейшей, превосходной биографии писателя («Владимир Набоков: Американские годы / Русские годы»), написал еще и диссертацию, позднее переработанную в монографию – «Место сознания в набоковской «Аде», в которой скрупулезно исследует феноменологию творческого мышления Набокова. Уже после издания книги Бойд как бы дополняет ее весьма
ценным «приложением» в виде статьи «Метафизика Набокова: Ретроспективы и перспективы», в которой рассматриваются различные мировоззренческие истоки творчества писателя в контексте его философских исканий.
Невозможно обойти вниманием работы, на прямую не связанные с категориями времени, памяти и пространства в поэтике биографической «американской» прозы В. Набокова, но ключевые для набоковедения в целом.
Н. Анастасьев был первопроходцем в этой области в России. Монументальные труды ученого «Феномен Набокова» и «Владимир Набоков. Одинокий Король» представляют собой фундаментальные исследования жизни и творчества писателя и значительно превосходят по глубине анализа и по образно-эмоциональному изложению работы Э. Филда со схожей проблематикой.
А. Долинин в «Истинной жизни писателя Сирина» анализирует весь корпус набоковского наследия в контексте его жизнеописания. Исследователь высказывает неординарные идеи об отношении Набокова к героям своих произведений, объясняющие, в частности, интерес писателя к различным психологическим аномалиям в отношениях между людьми. Ученым также был подготовлен важнейший для набоковедения двухтомник «В. В. Набоков: pro et contra», в который вошли статьи, рецензии и отзывы о творчестве писателя, переведенные с разных языков, и позволившие российским читателям ознакомиться с работами западных исследователей-набоковедов за последние пол-века.
Главным «архивариусом» набоковского наследия в России можно считать Н. Мельникова, подготовившего целый ряд интереснейших изданий, посвященных критике творчества писателя, таких, как: «Критика русского зарубежья», «Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников», а также русское издание интервью писателя «Набоков о Набокове и прочем».
Очень ценными для отечественного и зарубежного набоковедения являются научные сборники «Набоковский вестник» музея им. Набокова в Санк-Петербурге
под редакцией В. Старка и «The Nabokovian» Канзасского университета (под эгидой Набоковского общества), включающие статьи авторов из многих стран мира, посвященные различным аспектам жизни и творчества писателя.
В этих и других, ценных для набоковедения работах, интересующие нас проблемы затрагиваются, как правило, не системно. Время создания полной и исчерпывающей «метафизики Набокова» еще не пришло, но стремление к более целостному рассмотрению концептов памяти времени и пространства в биографической прозе писателя приближает его.
Научная новизна работы состоит в самой постановке проблемы: впервые предпринята попытка выявления и комплексного исследования основополагающих содержательных и поэтических элементов «художественной мемуаристики» В. Набокова американского периода, которую условно можно номинировать, как позднюю биографическую прозу писателя.
Новизна методов научного исследования диктуется тем, что анализ, затрагивающий самые разнородные лексические, образные, биографические, философские, психологические аспекты творчества, осуществляется на стыке различных областей гуманитарного знания: от литературоведения до философии и психологии творчества.
При том, что фундирующим элементом исследования является литературоведческий взгляд на художественное воплощение концептуальных мировоззренческих и научных идей, в диссертации предлагается новый для набоковедения тип морфологического осмысления итоговых (в историческом и метафизическом смыслах) произведений писателя.
Основные положения, выносимые на защиту диссертации:
обоснование концептуального значения категорий времени, памяти и пространства в поздней биографической прозе В. Набокова;
художественное выражение «теории времени и пространства» Набокова в контексте эволюции его стиля и мышления;
память и воспоминание, как основной метафизический источник творческого процесса Набокова.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в научный оборот вводится специально разработанный понятийно-терминологический инструментарий, способствующий, с одной стороны, объяснению не проясненных еще факторов и парадоксов набоковской поэтики, а с другой стороны, пригодный для более широкого (универсального) применения в литературоведческих работах со схожей проблематикой.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов исследования при подготовке и чтении специальных курсов по зарубежной литературе, морфологии и философии творчества на филологических факультетах гуманитарных вузов. Материалы диссертации могут быть положены в основу учебных пособий, спецкурсов и лекций по истории и теории зарубежной словесности, эстетике и философии.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлены в публичных выступлениях на различных академических площадках США и России (лекция «Подлинная жизнь Владимира Набокова» - Пенсильванский государтсвенный университет, США, Библиотека Патти, 10/24/2014 - «The Real Life of Vladimir Nabokov», PSU Pattee Library, State College, PA.; лекция-семинар «Метафизика Владимира Набокова» - МГК им. П.И. Чайковского, 18/04/2015 и др.). Одним из важных элементов внедрения результатов исследования в научную и образовательную практику стала переводческая деятельность диссертанта и участие в семинаре "Трудности перевода: теория и практика поэтического перевода" профессора Э. Уэннера с публичным докладом «Евгений Онегин: вариации перевода» - Пенсильванский государственный университет, США, 31/9/2014.
Структура работы отвечает основным аналитическим задачам исследования и состоит из введения, двух глав, подразделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и приложения, включающего первые русские переводы важных англоязычных литературоведческих источников, выполненные автором диссертации.
Исследование состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения.
«Ада, или Радости страсти»: поэтика времени и пространства
Бесконечные головоломки не мешают, по мнению Ходгарта, оценить своеобразие набоковского стиля. Более того, критик утверждает, что стилистика романа нарочито не прозаическая. «Ада», по его мнению, представляет собой роман-поэму о любви. Ходгарт обращает внимание и на специфическую «постановку глаза» Набокова в «Аде», настолько же литературную, насколько и живописную. Находит критик даже определенную художественно-изобразительную связь между «живописью» Набокова и разных мастеров изобразительного искусства. Ряд сцен, по мнению Ходгарта, резонирует образы живописцев-венецианцев и импрессионистов, а «демоническая» часть романа «написана глазами» Иеронима Босха.
Роберт Альтер – профессор иврита и сравнительной литературы в университете Калифорнии (Беркли) – в своем очерке7 делает акцент на оценке высокого архитектонического мастерства Набокова в «Аде» и ряде других крупных работ. Этот роман (особенно, после «Лолиты» и «Бледного пламени») представляется критику вершинным в творчестве писателя. Метафизические идеи, воплощенные в «Аде», озвучивались еще в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», но только в «Аде» были освещены во всей своей очевидности не только теоретические принципы, но и возможные горизонты взаимосвязей искусства, реальности и «постоянно-непостоянного» времени. Как и другие исследователи набоковской поэтики, Альтер отмечает значимость пародийности в стилистическом облике романа и для него это исключительно новаторский, позитивный элемент набоковской поэтики. Критик называет «Аду» самым «солнечным» романом XX века, и это при том, что в основе сюжета повествования – «темная драма» смертельной, кровосмесительной страсти. Критик считает, что нарочитая детализация «откровенных» сцен романа также носит сугубо шаржированный, пародийный характер. Альтер воздает должное «мастерству аллюзий» Набокова. Место действия романа – это пространство бесконечных аллюзий. Ардис – выдуманная страна, которая, с одной стороны, связана с тремя важнейшими для Набокова языками (русским, французским и английским), с другой – является «местом вне времени и пространства». Здесь органично «соседствуют» Л. Толстой и Дж. Остин, небоскребы, телефоны и чеховские усадьбы. Аллюзии Набокова, по мысли критика, – это не абстрактные фантасмагорические видения, а тонкое отражение его ностальгического сознания.
Альтер считает, что в романе присутсвуют многочисленные «отсылки» к Дж. Остин, Тургеневу, Диккенсу, Флоберу, Толстому, Достоевскому, Джойсу, Прусту и даже к бульварным порнографическим и готическим романам, а главное, и к самому Набокову. В очерке Альтера подробно рассматривается влияние «Рене» Шатобриана на поэтику «Ады». Критик отмечает зеркальность инициалов Вина и Ады (в латинском алфавите), обосновывая антропоморфность героев, а точнее, одного «собирательного» героя. Сюжет романа Набокова сравнивается с раввинской интерпретацией библейской истории о грехопадении, согласно которой Адам сначала обладал признаками и мужчины и женщины. Не менее интересны сопоставления «Ады» с «Садом» Эндрю Марвелла. В любовных сценах романа критик находит параллели к аналогичным сценам у Пруста. Альтер полагает, что взаимоотношения главных героев романа воплощают Эдем – вне контекста добра и зла. По богатству идей, символов и загадок роман «Ада», по мнению критика, принадлежит к числу избранных в мировой литературе.
С. Карлинский – американский славист, литературовед, заведующий кафедры Славянских языков и литературы Калифорнийского университета (Беркли) – в очерке, посвященном «Прозрачным вещам»8, замечает, что роман содержит «ряд дверей», никуда не ведущих, и ряд «потаенных дверок», которые все же приоткрываются. Карлинский не склонен всецело отождествлять Набокова с главным героем романа, как это делают другие исследователи. По внутренним характеристикам они едва ли не антиподы. Критик выделяет ряд знаковых, в его понимании, реминисценций «из русской литературы». Так в Арманде и Хью он видит вариации образов Наташи и Пьера из «Войны и мира» Толстого. Многое в романе, по мысли Карлинского, напоминает темы, присущие В. Одоевскому и А. Ремизову. При этом метод Набокова исключает формальную компилятивность. Карлинский считает, что Набокову в очередной раз удалось поместить бесформенную, всегда потенциально опасную реальность в четкие рамки литературного искусства. Набоков сознательно демонстрирует и даже исследует художественные средства, которыми это достигается. В этом смысле роман сам по себе является «прозрачной вещью», и именно благодаря пониманию этого читатель «выходит» из трагической, и даже жестокой истории Набокова, с чувством просветленной радости, легкости.
Джонатан Рабан – британский романист и путешественник, преподаватель университета Восточной Англии – в критическом очерке, посвященном «Прозрачным вещам»9, обращает внимание на специфический «набоковский пафос». Наиболее важное чувство, а зачастую и единственное, выражаемое Набоковым, – это, по мнению аналитика, сентиментальность. Суть повествования открывается, если «отбросить обертку» из игр, «зеркальных эффектов», ироничного философствования. Критик сравнивает писателя с «пресловутой обезьяной», наблюдением над которой, по признанию самого Набокова, была навеяна «Лолита»: получив бумагу и краски, она смогла нарисовать лишь решетку своей клетки. По мнению Рабана, Набоков в последние годы своей жизни стал походить на это животное, а романы его сводятся все к одному и тому же. «Прозрачные вещи» Рабан воспринимает как диалог между создателем и его героем, который подслушивают читатели.
«Память, говори»: метафизика воспоминаний
Своеобразная «духовная самостоятельность» памяти – свойство, на которое Набоков намекает достаточно часто. Писатель не ссылается на память как на безжизненный «архив» мыслей, событий и чувств. Скорее он обращается к ней как к собеседнику, свидетелю, знатоку и судье. Одно из пробных названий романа «Память, говори» – «Speak, Mnemosyne». Мнемозина здесь, с одной стороны, – мистическое воплощение древнегреческой богини памяти, с другой – объект лепидоптеристической «страсти» писателя – научное «имя» бабочки. От этого заглавия писатель в итоге отказался, остановившись на более однозначном, семантически точном – «Память, говори».
В романе «Ада» есть строки, которые опосредованно, пусть и апологетически, характеризуют самого Набокова: «гениальный обладатель всеобъемлющей памяти» [35, с. 522]. Именно это свойство писатель демонстрирует в своих автобиографических произведениях.
В отличие от «Ады», где герой помнит и осознает себя с семимесячного возраста, Набоков начинает свою художественную историю памяти с четырехлетнего возраста. То было таинство Крещения, в котором будущий писатель впервые осознал свою метафизическую близость, неразрывность с родителями. Писатель, получивший христианское воспитание, довольно рано отошел от Бога и церкви. Вспоминая чувство сродства с родителями в момент Крещения, он не трактует его как первый в жизни проблеск богообщения. Но сам факт того, что своеобразной «точкой опоры» в его странствовании по лабиринтам собственной памяти является важнейший для христианина момент жизни, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что при всем своем мистическом скептицизме Набоков признает: источники его памяти, как и всякой жизни надматериальные, трансцендентные.
По своему идейному направлению, с точки зрения восприятия и толкования времени и пространства, роман «Память, говори» очень близок четвертой части романа «Ада, или Радости страсти», в которой наиболее полно излагаются постулаты набоковской «теории времени». Сравним некоторые из возникающих смысловых параллелей.
«Память, говори» открывается картиной, которая позже, практически без изменений, войдет в роман «Ада»: «Колыбель качается над бездной, и здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя вечностями тьмы. Хотя обе они – совершенные близнецы, человек, как правило, с пущим спокойствием вглядывается в бездну преджизненную, чем в ту, к которой летит (со скоростью четырех тысяч пятисот ударов в час). Я знавал, впрочем, юношу-хронофоба, испытавшего едва ли не панику, просматривая домашнего производства фильм, снятый за несколько недель до его рождения. Он увидел почти не изменившийся мир – тот же дом, тех же людей – и вдруг понял, что его-то в этом мире нет вовсе и никто по нем не горюет» [36, с. 325]. Метафора «щели» перенесена в более позднее произведение как одна из ключевых для понимания набоковского взгляда на концепты времени и памяти. Прошлое и будущее воспринимаются писателем как нечто несоединимое. При этом именно к прошлому, но не к будущему человек может относиться с сердечным сочувствием. Набоков испытывал явный интерес к изучению «хронофобии» – форме душевного недуга, проявляющегося в боязни времени. Заметим, что классическое толкование хронофобии фиксирует негативный психо эмоциональный статус личности, находящейся в одном месте длительное время. В интерпретации же Набокова, хронофоб страдает от самого осознания времени. Подобное толкование далеко от каких бы то ни было медицинских штудий. По Набокову, хронофобией в ХХ веке страдают не только внешне «изолированные» индивидуумы (например, заключенные), но и многие из тех, кто находится в широком коммуникативном пространстве.
Писатель убежден, что боязнь времени сопутствует многим людям с повышенной чувствительностью, не свойственной ординарному человеку, но чаще всего провоцируется кризисом самосознания одинокой личности в «безжизненном пространстве» действительности. Вполне возможно, что Набоков и себя относил к числу «хронофобов». Будучи утонченным художником, он обладал гипертрофированным чувственным восприятием, позволявшим ему видеть мироздание как бы «рентгеновским» зрением, переживать боль и радость самого времени. Отсюда и желание чувственно и мыслительно подчинить себе время и память, сделать их основными художественными средствами для выражения сокровенного. В «Аде» мотивы хронофобии находят воплощение в медицинских опытах главного героя. Размышляя о своей врачебной практике, Ван Вин не случайно называет наиболее интересным случай с пациентом, страдающим боязнью времени. Отчасти этот недуг и сподвиг главного героя «Ады», а, возможно, и самого Набокова заняться углубленным исследованием феномена времени и его воздействия на человека.
Набоков неоднократно возвращается к размышлениям о «ключевых» моментах жизни, на которых основывает свою работу память: «Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг» [36, с. 331].
В третьей части второй главы «Память, говори» писатель вспоминает о своей матери, достоинством которой было трепетное отношение к прошлому. Она часто обращала внимание будущего писателя на важные, в ее понимании, вещи: это были, как будто бы малозначительные элементы внешнего интерьера – жаворонки, «клинопись птичьей прогулки на снегу». Набоков говорит, что его учили не просто видеть и чувствовать красивое, но фиксировать в памяти свои ощущения. Рассказы матери он называет «отметинами и зарубками», совсем как ключевые события жизни.
«Прозрачные вещи»: память как зеркало действительности
Так в этот драгоценный и хрупкий миг Джулия и он … скрепили договор о прошлом, неосязаемый пакт, направленный против реальности, представленной шумным углом улицы с шелестящими мимо машинами, деревьями и чужими людьми. … Арманда же знала о будущем (конечно, известном автору в каждой детали) не больше, чем о прошлом, которое Хью вновь смаковал заодно с молоком, припорошенным бурой пыльцой» [36, с. 48].
Для героев «Прозрачных вещей» реальность складывается из сложных рефлексий времени и пространства собственного воображения, а не на основе объективной действительности. Образы Джулии и Арманды – это две контрапунктирующие линии (орбиты) повествования. Точки пересечения этих самостоятельных линий возможны лишь в воображении Персона. В реальной жизни героини не вступают в прямой контакт. Они не догадываются об отведенных им ролях в театре воспоминаний Персона.
При этом Набоков не ограничивается исследованием метапамяти главного героя. Скрупулезно анализируются свойства памяти практически всех персонажей повествования. Так, весьма показательны размышления об уникальной способности Арманды запечатлевать все, что связано с ее страстью к светским раутам: «Она любила устраивать дотошно продуманные приемы, и как бы давно ни состоялся тот или иной замечательный вечер (десять месяцев назад, пятнадцать или раньше, еще до замужества, в материнском доме в Брюсселе или Витте), каждый участник и каждая частность навек застывали в гудящей стуже ее опрятного разума. В воспоминании эти вечера представлялись ей звездами на волнующемся занавесе прошлого, а гости – оконечностями ее собственной личности: уязвимыми точками, к которым следует впредь относится с ностальгическим уважением» [36, с. 62]. Поверхностность натуры героини подтверждается не живописанием каких-то важных поступков и мыслей, а мелочными (в метафизическом отношении) свойствами памяти, фиксирующей лишь самое незначительное, внешнее во всем его предметном многообразии. Набоков явственно стремится сформулировать новую формулу оценки личности. Смысл этой формулы можно передать условно так: узнайте что и как помнит человек и поймете – кто он. Вакууму небытия, по Набокову, можно противопоставить не воспоминания как таковые, а только те, которые «овеществляют», высвечивают в реальности моменты наивысших взлетов человеческого духа, состояние метафизического блаженства.
Жизнь Хью Персона предстает в повествовании как череда ярких вспышек, незабываемых мгновений, память о которых любовно лелеется и позволяет их переживать заново. Содержанием одного из таких эпизодов непрестанно возрождаемой жизни становится первый поцелуй с Армандой: «Этому мигу ласковой муки не суждено было повториться, – а вернее, ему не достало времени, чтобы вернуться назад по завершении присущего его ритму цикла; но то недолгое содрогание, в котором она растаяла вместе с солнцем, вишнями, с прощенным пейзажем, установило тон его нового бытия с царившим в нем ощущением все-идет-хорошо, которого не колебали ни самые дурные ее настроения, ни самые дурацкие причуды, ни самые досадные притязания. Этот поцелуй, а не то, что его предварило, и стал подлинной их помолвкой» [36, с. 55].
Мы уже не раз отмечали различные коннотации сна в биографических произведениях Набокова. В «Прозрачных вещах» эта тема получает свое развитие. Сон Хью Персона – это некое второе, сверхреальное, возможно, единственно прозрачное пространство жизни: «В другом не менее зловещем ночном испытании он старался остановить или отвести струйку то ли зерна, то ли мелких камушков, сочившуюся из прорехи в ткани пространства, но ему во всех мыслимых смыслах мешало какое-то паутиноподобное, ветошное, волокнистое крошево, какие-то кучи и котлованы, ломкий хлам, валкие великаны. В конце концов он утыкался в массы мусора – и это была смерть. Не такими пугающими, но может быть даже в большей степени опасными для рассудка были обвальные сны на краю пробуждения, обращающего их образы в движение словесных осыпей в долинах Сона и Стоуна, чьи округлые серые скалы, Roches tonn es , (изумленные скалы) названы так по причине их как бы изумленной, осклабленной поверхности, меченной темными зенками (carquillages)» [36, с. 59]. Во сне Персон как бы разрывает измеряемое, замкнутое, непроницаемое пространство жизни, погружаясь в прозрачную вечность воспоминаний. Примечательно, что именно в сновидении смерть предстает в своем полном, объемном, исчерпывающем и сокрушительном обличии. Для героя реальная повседневная жизнь, в отличие от сновидения, не вмещает в себя магической силы искажения времени и пространства, заключенной в смерти.
Набоков изменил бы себе, если бы и в «Прозрачных вещах» не остановился на размышлениях о сути творческого процесса. Небольшой объем текста, непосредственно посвященный этой проблеме, не снижает ее особой важности для писателя. Хью Персон редактирует роман выдающегося литератора «R.». Издательство настаивает на исключении из текста негативных отзывов об известных личностях. Казалось бы, рядовая ситуация, вокруг которой трудно выстроить какую-либо оригинальную «защиту» прав художника на субъективность оценок. Между тем, аргументация Персона апеллирует не к формальности и незыблемости авторского права, а, собственно, к самому существу творческого процесса: «если композиция художественна, если в ней не одна вода, но присутствует и вино, тогда она неуязвима в одном отношении и страшно хрупка в другом. Хрупка, потому что когда пугливый редактор заставляет художника заменить щуплый на пухлый или брюнет на блондин, он уродует и образ, и нишу, в которой тот установлен, и целую церковь вокруг; – а неуязвима по той причине, что как бы сильно изображение не менялось, прототип будет все равно узнаваем по очертаниям дырки, оставшейся в ткани рассказа» [36, с. 68].
Для Персона подлинность исторических и литературных героев может быть подтверждена лишь стремлением художника (биографа) «вырвать» их из железных объятий реальности. Действительные события и преображающая их память отнюдь не антагонистичны. Они взаимно дополняют друг друга. Набоков не раз говорил об «одалживании» своим героям фактов собственной биографии. Размышляя о сути творчества в контексте концептуальных категорий, писатель делает очень важный, на первый взгляд, технологический, на самом же деле – метафизический вывод: художественное произведение – не образ, а идеальное выражение замкнутого пространства с неразрывной логико-тектонической связью частей и целого.
«Смотри на Арлекинов»: реальность и вымысел в мемуарной прозе
В системе эстетических и метафизических ценностей Набокова центральное место занимает возможность (необходимость) свободного выбора художника, противостоящего механическому действию различных общественных процессов и связей. Главные герои большинства рассмотренных в диссертации романов – не только и не столько реальные изгнанники, но изгнанники метафизические. Эти характеры, легко увлекаемые течением времени, потерявшие стабильность внешних связей, вынуждены лелеять целостность своего внутреннего мира в атмосфере тотальной раздробленности мира внешнего. Память нисколько не примиряет их с «прекрасным» прошлым. Да и прошлое часто оказывается отнюдь не благостным. Память становится воплощением огромного, неизмеримого и отнюдь не однородного пространства, через которое героям необходимо прорваться чтобы, обрести себя и свое личное, подлинное время. Поиски новых атрибуций времени далеки от какой-нибудь научной схоластики. Набоков намекает на то, что достигнуть общезначимого консенсуса в восприятии времени невозможно: у каждого человека свое время, своя орбита и «скорость» движения в безграничном, неизмеримом космосе. Попытки директивно сбалансировать личное и общесоциальное в этих сферах приводят к тотальному насилию над самым ценным, что есть в человеке – его творческим духом.
Только творческое воображение, по мысли Набокова, способно сообщать материальному миру свойства бесконечной «душевной» податливости, своеобразной метафизической грациозности. Предметный мир для художника реален в той степени, в какой он для него прозрачен. Собственно, эстетизм набоковской поэтики и заключается, главным образом, в стремлении срывать непроницаемые покровы «действительности» со всего, к чему прикасается взгляд художника.
Изучение методов познания реальности, используемых Набоковым в биографической прозе американского периода, позволяет констатировать: жизнь человека рассматривается как воплощение сложного творческого процесса. Образы минувшего интересны писателю лишь в той степени, в которой позволяют ему преодолеть линейную однонаправленность времени, раздвинуть границы действительности не за счет эфемерных грез о будущем, а благодаря проникновению в поэтическую неизбывность, «незаконченность», «недоговоренность» прожитого. Анализ метафизической поэтики Набокова, ярко выраженной в его «американских» биографических сочинениях, позволяет констатировать рождение особенного типа «мемуарной беллетристики», в котором исторический факт возрождается не для того, чтобы восполнить лакуны механической памяти, а для расширения, преодоления границ действительного времени и пространства.
Для нас очевиден своеобразный жанровый авангардизм Набокова, который в каждом из рассмотренных нами произведений, предлагает новый, неожиданный взгляд на саму форму биографического повествования. При всем, что отличает образный строй и проблемный подтекст романов «Ада, или Радости страсти», «Память, говори», «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Простые вещи», «Смотри на Арлекинов!», во всех них разрабатывается совершенно особенный тип концентрической архитектоники. Писателю претит линейный, поступательный тип развертывания биографического материала.
Композицию биографического романа в интерпретации Набокова можно уподобить свече, зажженной с обоих концов. Частые смещения и напластования времен призваны разрушить иллюзию хронологической заданности жизнеописания. Подлинность, истинность жизни выявляется из всего, что обладает способностью помнить, запечатлевать мельчайшие детали бытия. Набоков меньше всего стремится зафиксировать внешние образы той или иной исторической эпохи, быть летописцем времени в общепринятом смысле. Скрупулезное изучение собственной биографии необходимо писателю отнюдь не в агиографическом смысле. Объясняя, живописуя, восстанавливая, преображая или искажая факты личной биографии, Набоков стремится объяснить себе и читателю самое важное – сущность творческого процесса.
Общность поэтических проблем, разрабатываемых в рассмотренных нами романах, дает основания классифицировать их как своеобразный метацикл, объединенный сквозной идеей – обоснованием литературного творчества.
Смысл набоковских художественных «мемуаров» не может быть постигнут в контексте привычных воспоминаний, даже если они исчерпывающе подробны и точны. Для писателя творческое воображение – естественная и основная форма, а не случайная, придаточная функция памяти. И дело не только в том, что воспоминаемые образы обрастают новой судьбой в процессе их извлечения из «кладовых памяти». Набокову удается добиться поразительного эффекта: воображаемое и реальное сложно переплетено, неразрывно связано как бы изначально, еще до того, как художник освещает их своим взглядом.
Творческое воображение, таким образом, – это и сама память, и ее главная «энергетическая» сила. Концепты времени, памяти и пространства используются Набоковым, прежде всего, как слагаемые сложной живописной палитры, то есть как основные элементы художественной поэтики. Этим можно объяснить и своеобразную «политембровость» набоковских текстов, напоминающих «сверхвербальные» симфонические партитуры, где солирующий голос отдельного инструмента не отделяется от общего оркестрового состава, а как бы рождается из него. Автор выступает в роли не только композитора, но и дирижера, задача которого – добиться точного баланса между солистом и иллюзорно аккомпанирующим ему оркестром.