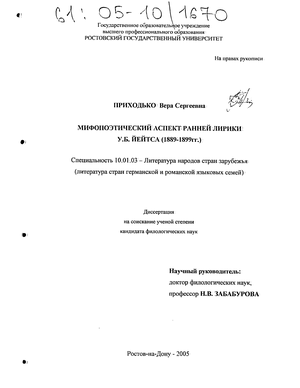Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Сборники "Crossways", "The Rose" и "The Wind Among the Reeds" как проявление мифотворчества c.21
Глава 2. Антиномии и связанные с ними мифологемы в "Crossways", "The Rose" и "The Wind Among the Reeds" c.44
2.1. Антиномия двух миров; c.46
2.2 Тема медиации и значимость мифологемы Пути с.48
2.3. Антиномии с.51
2.4. Центр Мира и единство противоположностей с.53
2.5. Мифологема Розы с.62
216 Мотив соединения с Возлюбленной; с.64
2.7 Человек как взаимодействие противоположностей с.66
Глава 3 Взаимодействие двух ипостасей лирического субъекта в ранних поэтических сборниках Йейтса как воплощение мифологемы Пути с.73;
3.1 "Crosswavs" / «Перекрестки» (1889): «ПУТЬ святого» с.75
3.1.1 Общая характеристика сборника "Crossways'' с. 75
3:1.2 Ступени «пути святого» с.79
3.1.3 Баллады в "Crossways'' с.90
3.2 "The Rose" / «Роза» (1893): «путь поэта» с.95
3.2.1. Сопоставление первого и второго «путей» в "The Rose" с.95
3.2.2 Общая характеристика сборника "The Rose"' с. 104
3.2.3 Триптих о Розе с. 107
3.2.4 Ступени «пути поэта» с.116
3.2.5 Пробуждение способности к творчеству cJ55
3.3 "The Wind Among the Reeds" I «Ветер в камышах» (1899):
«нераздельность и неслиянность» противоположностей с.163
3.3.1. Общая характеристика сборника "The Wind Among the Reeds " с. 163
3.3.2 Ветер как основная мифологема сборника "The Wind Among the Reeds"
3.3.3 " Faery " и "sidhe " в "The Wind Among the Reeds" с 169
3.3 4 Взаимодействие мужского и женского начал в "The Wind Among the Reeds " с. 172
3.3:5 Употребление личных местоимений в "The Wind Among the Reeds" с 177
3.3.6 Взаимодействие ипостасей лирического субъекта в "The Wind Among the Reeds " c\ 189
3.3:7 Обретение способности к Творчеству с. 194
Заключение с.202
Библиография с.211
Приложение "Crossways " с.224
"The Rose " с.236
"The Wind Among the Reeds " c.250
- Сборники "Crossways", "The Rose" и "The Wind Among the Reeds" как проявление мифотворчества
- Тема медиации и значимость мифологемы Пути
- Ступени «пути святого»
Введение к работе
У.Б. Иейтс (1865-1939гг.) стал одной из заметных фигур мировой литературы уже в 1923 году, с получением Нобелевской премии, хотя своим достаточно ранним признанием он во многом обязан той роли, которую сыграл в литературе ирландской, будучи-одним;из лидеров так называемого «Кельтского Возрождения». По словам М.Л. Казамиана, он был «самым безличным и самым личностным, самым осознанно творящим, и самым вдохновенным из современных поэтов» [124, с.246]. Неоднозначность оценок личности Исйтса и его творчества современниками и более поздними исследователями только подтверждает масштабы этого литературного феномена, до сих пор не раскрытого во всей полноте и дающего материал для новых исследований.
Отзывы критиков рубежа XIX - XX веков и коллег-литераторов (таких как Т.С. Элиот [152, 153] и Т. Вратислав [237]) положили начало исследованию творчества Иейтса. Вместе с тем, совершенно закономерно, что эти отзывы часто носили полемический характер:
Авторы статей и монографий, вышедших уже после смерти поэта, в 1940-50-х годах, обратились к осмыслению феномена Иейтса в рамках культуры, мыслящей его своим гениальным современником. Соответственно, многие из этих работ, сочетая биографический; культурно-исторический иг собственно литературоведческий аспекты, дают первый опыт литературно-критических обобщений [171; 190].
Одновременно начинают появляться исследования, заложившие «фундамент» тщательного литературоведческого изучения наследия Иейтса. С каждым десятилетием «надстраивались» все новые этажи огромного «здания» критики. Со временем, работы общего характера почти полностью уступили место аспектному рассмотрению, где четко обозначились определенные приоритетные направления.
5 Закономерным шагом стали попытки определить место Йейтса в литературном процессе и степень влияния на его творчество различных литературных течений, таких как романтизм (связь с ним отражена, в частности, в статье В.В. Хорольского "Традиции английского романтизма в мировоззрении и творческом методе У.В.Йейтса" [108]); символизм (среди англоязычных авторов, занимавшихся данным вопросом, можно назвать Р. О'Дрисколла [200] и Н. Фрая [164]; а среди отечественных исследователей эта проблема рассматривается в работах КО. Голубович [37] и В.В. Хорольского [107]); модернизм (наиболее общим является здесь исследование С. Смита [217]). Несколько работ посвящены определению роли античной классики в творчестве Йейтса (к примеру, книга П. Льебретс [187]). Значительную роль сыграли: в формировании творческой манеры Йейтса фольклор (исследований, посвященных этому аспекту, очень много, среди них можно выделить книги М. Туэнте [228], К. Мэйр [192], Б. Брамсбак [142]; П. Смита [216]) и традиция китайского театра Но [89].
Особый интерес вызвали мировоззренческие концепции Йейтса, где одна из центральных позиций- была; отдана мифу. В первую очередь внимание критиков было обращено на его работу с ирландскими мифами, вновь «открытыми» деятелями «Ирландского Возрождения» (Ml Туэнте: [228], А, Бхаргава; [134], ГГ. Смит [216]« ПШ. Маркус [191]). Ряд работ иосвящеш увлечению Йейтса восточной мифологией и различными оккультными учениями Востока (О. Комесу [184], ПС. Шри [221]). Интерес Йейтса к мистике и эзотерическим традициям, таким как алхимия; герметизм. Каббала, платонизм; и неоплатонизм, теософия, учение розенкрейцеров, труды Яі Бёме и Э: Сведенборга исследуетсяі в работах В; Мур [195]і К. Рэйн [206-208], М: Фланнери [159]| Г. Хоу [172]; Фі Кинахана [182]| У. Горски; [167]; Изучалась ш рецепция Иейтсом европейской философии нового времени (Дж. Холдридж [170]; Д.Т. О'Хара [201]) и различных теорий» мифа, изложенных: в трудах Дж. Вико, Дж. Фрэзера, К. Юнга (Д. Хоффман [169J, Д. Олбрайт [130], И. Фрай [164], П. Уре [231]).
6 Появились также исследования компаративного характера, где творчество Йейтса рассматривается через сопоставление с творчеством представителей различных философских-и литературных направлений. Здесь лидирующие позиции занимаег, пожалуй, Уильям Блей к, оказавший на Йейтса значительное влияние, о котором подробно писали X. Адаме [129] и К. Рэйн [206]. Но в заглавиях критических работ встречается немало других известных имен, в том числе, индийских и лионских. В качестве примера можно отметить следующие книги: «Грёза Адама: мистическое сознание у Китса и Йейтса» Дж. Джонса [178]; «Дзами, Басе, Йейтс, Паунд: исследование японской и английской поэтики» М. Уэды [229]; «Т.С. Элиот и Йейтс: попытка исследования» С. Саркара [210]; «Йейтс и Шелли» Дж. Борнштейна [140]; «Йейтс и его современники» И: Флетчера [160]; «Йейтс и Ницше» О. Бол мана [137], «Рильке, Валери и Йейтс*. область Самости» П. Шоу [214].
В отечественном литературоведении особенно часто встречается пара Йейтс и Блок (А. П. Саруханян [91], О.М. Иванова [45], Г. М. Кружков [59, с.450]), но есть и другие примеры сопоставительного анализа (статьи Г.М. Кружкова в приложении к книге переводов стихотворений У Б.Йейтса «Роза и Башня» [59], статья АД Саруханян о Иейтсе и Джойсе [92], диссертационное исследование ЕВ! Косачевой [55]).
С 1970-х начали появляться подробные биографии Иейтса, наиболее авторитетными из которых можно считать книгу Р. Эллманна «Йейтс: Человек и. его Маски» [156] и двухтомник Р. Фостера «У.Б; Йейтс: одна жизнь» [161]! В целом биография Йейтса не уступала в своем, своеобразии и неоднозначности его творчеству, что позволяет говорить о его стремлении превратить свою жизнь в миф - «миф о поэте». Этот миф порождает все новые исследования, рассматривающие его под самыми различными углами зрения. В частности, центральной^ темой книги Б. Маддокс [189] стал сексуальный аспект жизни Иейтса. В соответствующем ключе написаны
7 работы приверженцев теории психоанализа (среди них, к примеру, книга Д. Линча [188]).
Отдельно можно упомянуть очень тщательно исследованную тему политической активности Иейтса, его участия (как деятеля культуры, разумеется) или, в отдельные периоды жизни, напротив,; неучастия1 в'бурных переменах, происходивших в Ирландии в начале XX века в ходе борьбы за независимость. В связи с продолжением конфликта на севере острова до недавнего времени, этот аспект жизни и творчества Иейтса весьма актуален и пользуется популярностью среди западных исследователей [162; 225].
Определенное количество работ посвящено особенностям поэтики произведений Иейтса. В качестве объекта исследования выступала его драматургия; поэзия, проза, их эволюция и взаимодействие (книги Н. Джеффареса «Стихи- Иейтса» [177], X. Вешиїер «Техника ранних стихотворений Иейтса» [234]), а также отдельные аспекты поэтики (так, исследование М. Перлофф [203] посвящено разбору рифм, а У. Видер [233] рассматривает особенности употребления повторов в лирике Иейтса). Можно также найти подробный анализ конкретных текстов, например, «пять поздних пьес» (так определяет предмет своего исследования ФАС. Уилсон в книге «Иейтс и традиция» [236]) или стихотворение "The Sorrow of Love", разбор которого дает Р. Якобсон для? иллюстрации специфики формального анализа лирического произведения [ 175]:
В России активное «освоение» творчества У.Б. Иейтса началось значительно позже, чем;за рубежом (в 1990-х). Долгое время русскоязычный читатель был знаком лишь с ограниченным числом стихотворений и отдельными пьесами Иейтса, которые публиковались в литературных журналах. На сегодняшний день выпущено уже несколько сборников переводов поэзии, прозы и драматургии; Иейтса («Роза и Башня» [18]; Избранное [16]; «Роза алхимии» [17]). Однако стоит отметить, что полного
8 перевода па русский язык его собрания стихотворений "Collected Poems" (1933) до сих пор не существует.
Среди критических исследований-отечественных литературоведов (В.В. Хорольского, В.Л. Ряноловой, FIB. Тишуниной, Л.П. Саруханян, НА. Соловьевой, Г.Э. Ионкиса, Т.М. Кривиной, Т. Полюдовой и др.) есть несколько монографий, но в основном это статьи в научных сборниках. Больше всего внимания уделялось драматургии Йейтса как создателя ирландского национального театра, этой теме посвящены монографии В.А. Ряноловой [89] и Н.В. Тишуниной [97], а также диссертационные исследования. Среди них, в частности, работа Л.В. Машинян [65], где генезис драмы Иейтса рассматривается с точки зрения мнфопоэтики с опорой на культурологические теории К.Юнга.
В 2000 году вышел в свет перевод мистико-философского трактата Иейтса "A Vision", который был написан им на основе «откровений», полученных в результате сеансов автоматического письма его жены Джорджи. Трактат с комментариями является частью сборника других прозаических и поэтических произведений Иейтса [15], которые дают, но мнению составителей, относительно полную картину мистического мировидения поэта. Статья А. Нестерова «У.Б.Йейтс: Sub Rosa Mystica» [79], опубликованная; в этом сборнике в качестве приложения, посвящена связям Иейтса с оккультными практиками. Факт такого издания однозначно указывает на специфику современного восприятия творчества Йейтса в России.
Мистицизм Иейтса сам по себе привлекает внимание многих исследователей в разных странах, но данный интерес - лишь часть более широкого интереса мировой культуры к мифу. Изучение феномена мифологического мышления породило немало школ, рассматривавших это явление с различных позиций, в том числе и в отечественной науке [54; 81]. Такое явление в литературе и в культурном сознании XX века, как мифологизация сделало эти исследования еще более актуальными (одним из
9
основополагающих в этой сфере является монография Е.М. Мелетииского
"Поэтика мифа" [73]). «Па рубеже XIX - XX вв. стала очевидной
необходимость обновления мифопоэтического художественного
пространства. Для художественного сознания этой эпохи миф, передающий восприятие мира в целостности, в единении г человека и природы, открыл возможность структурировать стихию, хаос жизни» [53, с.24]. По словам Е.М. Мелетииского, «в литературе XX века появляется настоящий поток
КЗ
"ремифологизации", захватывающий поэзию (Иетс, Паунд и др.), драму <...> и роман» [66, с.41], для которого характерно использование мифа в целях моделирования поэтической вселенной. Не удивительно, что сегодня мифопоэтика является одним из приоритетных направлений в литературоведении. В последние годы термины, непосредственно связанные с этим направлением, встречаются в заглавиях отечественных литературоведческих исследований достаточно часто: Л.П. Саруханян «Новое мифотворчество: У.Б.Йейтс и Дж.Джойс» [92], Е.В. Косачева «Йейтс и Блейк: мистический язык и миф» [55[, А.В. Машинян «Мифологическая поэтика драматургии У.Б.Йейтса» [65], G.M. Иванова «Блок и Йейтс: мифолого-символические; мотивы в драматургии» [45]- Аі Можаева^ «Миф в литературе XX века» [77], Т.А. Шарыпина «Проблемы; мифологизации; в зарубежнойї литературе XIX - XX веков» [112], ЯіЮ: Муратова «Мифопоэтика в современном английском романе:(Д. Барнс, А. Байетт, Дж. Фаулз)» [78], НО. Осипова: «Творчество М.И.Цветаевош в контексте культурной^ мифологии Серебряного века» [84], НС. Приходько «Мифопоэтика; АБлока» [87], ГА. Токарева; «Миф> в^ художественной системе: У.Блейка» \9Щ Е.Н: Корнилова «Мифологическое сознание и мифопоэтика западно-европейского романтизма» [53].
У Б. Йейтс - один из первых европейских авторов, сознательно обратившихся в ; конце XDi века к изучению и і использованию в собственном і творчестве традиционных мифов; разных народов: Цель» этого обращения большинство исследователей видели в осуществлении связи настоящего с
10 прошлым, возрождении национального самосознания ирландского народа (подобное мнение можно найти у Д. Хоффмана [169]; II. Уре [231], Дж. Джонса [178J, II. Смита [216], 'Y.M. Кривиной [56]). Другие авторы говорили о поиске.мистических корней и связи с Душой Мира (Anima Mundi) [200], а также о попытке создания «эзотерической ирландской литературы» ("esoteric Irish literature") [192, с.36].
В рамках изучения мифа особенно важным представляется исследование мифотворчества (в отличие от «мифологизирования» в терминологии Е.М.Мелетинского [73, с.277-373]).
Многие западные и современные российские исследователи (среди них М. Сейден [212], Д. Олбрайт [130], А.В. Машинян [65], К.О. Голубович [38], П.В. Косачева [55]) говорят о Иейтсе как одном из выдающихся мифотвориев нового времени, но большинство из них считают, что это явление свойственно его позднему творчеству (как драматическому, так и поэтическому). Основанием для применения термина мифотворчество при характеристике произведений Иейтса служит их связь с его книгой "Л Vision" (1914-1925), где описывается созхіанная им «мифологическая система». Если эта мифопоэтическая система стала источником «метафор для поэзии» Иейтса (о чем упоминается в работах А. Бхаргава [134]^ Ш Уре [230]; А.В! Машинян [65]^ К.О: Голубович- [38],; Г7.МІ Кружковаї [58і с.22]), то естественно, речь обычно идет о поэзии зрелого периода: Соответственно, количество работ, посвященных зрелой лирике Иейтса, намного превосходит число исследований ранних стихотворений.
В целом, ранняя лирика (датируемаяі концом^ XIX века) соотносится: обычно с понятием і « м ифологизирования»; то есть. сознательным.введением і мифологических аллюзий; и символов В художественный текст. В' рамках подобного восприятия анализируется, к примеру, характерная для ранних стихотворений" Иейтса^ «система противоположностей» ("pattern! of contraries"") (как в работе Ч: Берриманаі [133]). которая считается;однимі из основных егруктурных признаков мифа: Среди русскоязычных рабог стоит
отметить в связи с данным вопросом диссертационное исследование Е.В. Косачевой [55], где автор говорит о необходимости изучения раннего творчества Иейтса, опираясь на тот факт, что в 1890-е поэт был поглощен мифологическими штудиями совместно с Августой Грегори и другими деятелями «Ирландского Возрождения» и изучал наследие У.Бдейка, редактируя сборник его сочинений. Автор указанной диссертации подробно рассматривает самую первую самостоятельную поэму Иейтса "The Wanderings of Oisin" (по своему сюжету' и построению она близка ранним драмам Иейтса) и не ставит задачи целостного анализа всего корпуса текстов ранней лирики.
На наш взгляд, ранняя лирика, а именно, три первых сборника собрания стихотворений "Collected Poems" (1933): "Crossways" (1889), "The Rose" (1893) и "The Wind Among the Reeds" (1899) (они однозначно выделяются критиками как «первый период» творчества Иейтса [105, с. 107; 203, с.23]) -представляет больший интерес, чем принято считать. Её специфика в том, что Йейтс в более зрелом возрасте подверг серьезной редакции большую часть своих ранних стихотворений. В результате появились книги: стихов: сначала "Early Poems and?Stories" (1925) [10]^ затем "Collected?Poems" (1933)e [2]! Последнее издание обычно служит источником для;любой публикации! стихотворений* Иейтса [8; 13: 14; 18].' Таким? образом, те сборники^ стихотворений, которые известны і широкому кругу современных читателей;, приобрели свою окончательную форму уже в 20-х годах XX века, то есть в период работы Иейтса; над «A Vision» и даже после публикации этого произведения; Об этом і известном факте; упоминают У. О'Доннел [199]; w VI. Смит [216]! Существуют различные объяснения; этош особенности: Мы разделяем;точку зрения; тех исследователей (в частности- А. Бхаргава [134. c.l0]t и Hi Фрая* [164* с:221-222]), которые полагают, что Йейтс руководствовался? желанием создать некое масштабное поэтическое целое, отразившее его «стремление к совершенству».
12 Тем не менее, на наш взгляд, многие исследователи ранней лирики Иейтса не придают факту правки стихотворений должного значения. Первоначальные версии ("earlier poems") многие критики оценивают не слитком высоко (например, Д. Дачес [147]). Но не совсем понятны причины, по которым исследователь, работающий с окончательными вариантами ранних стихотворений (как, например, Ф. Мерфи [196]), считает их «приближением к творческой зрелости» [196, с.61], а не самостоятельно пенным поэтическим явлением. Более того, при соотнесении этих стихотворении с биографическими данными принимаются во внимание в первую очередь все же события и переживания в жизни поэта конца XIX века, что представляется недостаточным (хотя и в определенной степени оправданным; поскольку генетическая? связь с контекстом: первоначальных вариантов, несомненно, сохраняется).
Есть все основания считать указанные стихотворения продуктом вполне зрелого творчества Иейтса. С одной стороны, в процессе переработки текста на ранний вариант стихотворения накладывается новое мировосприятие автора (частично отразившееся в "A Vision"). В результате неизбежно возникает эффект самопроизвольной* генерации новых смыслов: иногда даже: помимо авторского сознания. G другой стороны, группировка автором? стихотворений; в; сборники предполагает наличие* общего авторского^ замысла; который; имеет решающее значение, как для понимания!отдельных стихотворений; так и для определения места, которое занимают эти сборники в творчестве Иейтса. К ранней = лирике Иейтса в полной мере применима теория з лирического цикла, который представляет собой единое целое, не равное простой сумме входящих в него частей; Это одинаково верно; В; отношении каждого из сборников в отдельности! и «ранней лирики» (первых трех^ сборников); в целом, а также, несомненно, и всей книги "Collected Poems"
Несомненно, первые сборники? стихов Иейтса нельзя назвать малоизученными; Так, у Р. Эллманна [155] они представлены как идейно-
13 тематические единства. То же можно сказан, и о книге Ф. Мёрфи «Ранняя ікшия Иейтса: поиск единства» [196], где выдвигается идея о том, что в ранней лирике отражены различные аспекты Вечной Красоты ("Eternal Beauty") и восприятие Иейтсом антиномий как сущностной основы космоса. Первые сборники- стихотворений воспринимаются автором книги как ступени, ведущие к вершине "Л Vision", и, по его мнению, в них «ключ к вечной красоте и вселенскому воссоединению ("eternal beauty and universal reconciliation") остается не найден» [196, с.63]. В обоих случаях анализ отдельных ключевых стихотворений привлекается только для иллюстрации определенных положений и идей.
Последнее верно и в отношении работы П. Смита «У.Б. Йейтс и Племена Дану: три различных взгляда на фей (faeries) ирландских легенд» [216]. В'связи с заявленной темой книги автор представляет интересные интерігоетации (не только собственные, но и других исследователей) многих стихотворений ранних сборников.
Некоторые другие работы, посвященные ранней лирике, напротив, уделяют внимание каждому сгихотворению, но не рассматривают их как часть целого; Так; У. 0?Доннелл< предлагает [199]і достаточно: простые и традиционные варианты^ прочтения ранних стихотворений (оппозиция между обычным и сверхъестественным* мирами поиск идеального и і отказ от поиска из-за привязанности к реальному миру). Его анализ поэтической
формы ИНТереееН, НО аВТОр НЄ СТреМИТСЯ ДеЛаТЬ КаКИе-ЛИбО ЧеТКИе.ВЫВОДЫ; У
FI: Джеффареса [176] можно найти общие идеи, биографические факты и интерпретации отдельных символов, которые традиционно связываются с ранними* стихотворениями, это прекрасный подробный? комментарий; но не системное исследование.
Указанные работы вносят значительный вклад в изучение раннего* поэтического; творчествам Иейтса; однако более; плодотворным может; оказаться рассмотрение ранних сборников» как структурно-семантического единства, где каждый элемент играет равно значимую роль для смысла всего
целого. Целое неизбежно дает определенное приращение смысла, обнаружить когорое возможно только при рассмотрении всего комплекса стихотворении, составляющих лирический- цикл.
В ранних сборниках Иейтса такой дополнительный эффект возникает в виде специфических проявлений лирического субъекта, вариаций субъектной структуры, составляющих определенную «сюжетную линию». Мы имеем в виду особенности взаимодействия лирического субъекта с объектом лирической медитации или адресатом, а также присутствие в субъекте двух «голосов», также вступающих в определенные взаимоотношения, раскрывающиеся на различных уровнях организации поэтического произведения, но особенно - на уровне формы, Иейтс всегда подчеркивал особую значимость формы в своих стихотворениях и много работал над ней [203; 186; 199].
Стоит отметать, что особенности субъектио-объектных отношений в мировоззрении Иейтса также привлекали внимание исследователей (Дж. Джонса [178], В. Левина [186], Т.Р. Хенна [168], Дж. Холдриджа [170], В. Мур [195]), но полученные ими выводы- либо иллюстрируются поздними стихотворениями: либо остаются:на уровне теории. На роль субъекта ('Яг, the Self) как базового' символа (это «единственный совершенный символ, который* может раскрыть поэт»), стоящего за% «потоком образов»* и-устремленность к: тотальному самосознанию за пределами; антиномий как основы поэтического творчества указывает Б; Левин? [186]; Его текстовый анализ прекрасно демонстрирует звуковые и интонационные структуры; (sound! & stress patterns), визуальные иг аудиальные образы, однако *Я: остается; в его видении неким і целостным объектом, образом4 находящимся в; оппозиции? к реальному миру; Автор не выходит за рамки* традиционного восприятия лирического субъекта, чей образ сознательно развивается поэтом; в* определенном- русле, и Возлюбленной как вполне реального, даже биографически определенного адресата: Кроме: того,* из ранней лирики он*
15 рассматривает лишь несколько стихотворений, считая, что самосознание лирического субъекта достигается лишь в более поздних стихотворениях.
Положения, важные для данного исследования, высказывает Дж. Джонс [178]. Он подробно рассматривает внутренний-процесс становления 'Я' в видении Китса и Иейтса. К сожалению, Джонс так же придерживается мнения, что рассматриваемые им взгляды характерны для позднего Иейтса, и ограничивается: обобщениями, почти не привлекая тексты художественных произведений.
С учетом непосредственной соотнесенности первых трех сборников Иейтса с мифотворческими тенденциями, динамика субъектной структуры, накладывающаяся на систему мотивов и символов рассматриваемых стихотворений^ должна интерпретироваться в мифопоэтическом ключе, представляя лирического субъекта как героя мифа, творимого Йейтсом о самом себе и, одновременно, о человеке вообще. Это тем более закономерно, что фокус мифотворчества нового времени неизменно базируется на внутренней жизни личности.
Применение соответствующих подходов и методов может существенно изменить наше: восприятие истиннош связи раннего творчества; Иейтса! с мифотворчеством и заставить нас по-новому взглянуть на эту часть наследия поэта, открывая^ Ві «простых» (ві сравнении: с более поздней лирикой, по мнению многих исследователей) стихотворениях большую глубину, чем принято считать.
Актуальность обращения к. мифопоэтике ранней лирики: У .Б Иейтса; определяется тремя факторами: недостаточно высокой степенью изученности= поэтического наследия Иейтса1 в отечественном; литературоведении: не соответствующей: его? истиннош значимости: в« мировой литературе; недооценкойї уникальности и поэтической ценности ранней: лирики Иейтса в і англоязычной: критике; актуальностью мифопоэтического подхода к изучению всего корпуса произведений: Иейтса.
Научнпя новизна исследовании определяется отсутствием специальных работ, посвященных проблеме мифотворчества в ранней лирике У.Б. Иейтса. Кроме того, выводы данного исследования основаны на рассмотрении всех стихотворений ранних поэтических сборников Иейтса, воспринимаемых как самостоятельные лирические циклы, в то время как традиционная исследовательская практика состоит в выборочном иллюстрировании положений при ПОМОИЦІ нескольких стихотворений, изъятых из общего контекста.
Объектом данного исследования является ранняя лирика У.Б.Иейтса, а именно поэтические сборники, которые датируются концом XIX века: "Crossways" (1889), "The Rose" (1893), "Tlie Wind Among the Reeds" (1899). Эти сборники; в окончательной редакции представляют собой относительно автономную часть "Collected Poems", определяемую большинством литературоведов как «первый период» поэтического творчества Иейтса.
В качестве предмета исследования избраны проявления мифопоэтнческого в сборниках стихотворений «первого периода» творчества Иейтса; что предопределено неиссякаемым интересом Иейтса к традиционному мифу, его- признанием; ведущей? роли* мифа: в» поэтическом» творчестве и открытым стремлением Иейтса к воплощению в своем собрании поэтических произведений' "Collected Poems" так называемого «личного мифа». Такие проявления; обнаруживаются в комплексе мифологем: и динамике; субъектной структуры и являются воплощением: мифопоэтической концепции Иейтса.
Теоретической основой диссертации стали работы в области; изучения: мифа' в: широком смысле, как культурного и философского» явления.; и в: области: мифопоэтики как особой сферы проявления; мифа в его связи < с литературой. Речь идет о монографиях таких известных ученых, как К. Леви-Стросс, А.Ф: Лосев: М: Элиаде, К. Юнг, Дж. Кэмпбелл, Дж; Фрезер, К. Хюбнер; Э» Кассирер^ а в области: мифопоэтики и теории литературы: Е.М! Мелетинский, В.Н. Топоров, ЮМ. Лотман, М.М. Бахтин, ОМ. Фрейденберг,
17 М. Бодкин. Привлекался также ряд работ обобщающего характера по философии мифа и теории мифа. Для интерпретации отдельных мифопоэтичееких единиц использовались работы Р. Генона, СП. Широковой, МП. Холла, Р. Грейвса и энциклопедическое издание «Мифы народов мира». Рассмотрение субъектной структуры в поэтическом тексте предопределило обращение к работам отечественных литературоведов, разрабатывавших эту проблему (СМ. Бройтмана, Б.О. Кормана, Л.Я. Гинзбург). Необходимость целостного восприятия всего комплекса поэтических текстов, относимых к ранней лирике Йейтса, также потребовала опоры на теории, связанные с проявлениями системности в поэтике и, в особенности, теорию лирического цикла (работы М.Н. Дарвина, Н.В: Фоменко, В:А. Сапогова).
Методологическая основа работы носит комплексный характер и определяется специфическим предметом исследования. Оказалось необходимым применение герменевтического метода, элементов структурно-семиотического подхода, поскольку именно «в основе структурного анализа лежит взгляд на литературное произведение как на органическое целое» (Ю.М. Лотман), метода мифореконструкции и, в отдельных разделах, системно-типологического подхода. Обращение непосредственно к поэтическому тексту предопределило использование различных методов анализа, используемых в стиховедении:
Цель работы - представить реализацию мифотворческой концепции У.Б.Йейтса как одну из основополагающих характеристик трех первых сборников "Collected Poems'" (1933).
Достижение этой цели осуществляется через ряд частных задач:
выявить специфику ранней лирики Йейтса в контексте его творчества; в связи с авторской правкой стихотворений в 1920-х годах и публикацией их в составе книги стихов "Collected Poems'";
обозначить роль мифологизации и і мифотворчества в ранней лирике Йейтса;
- рассмотреть проявления мифопоэтического в исследуемых сборниках
и представить их как целостную мифоиоэтическую сне і ему;
- дать подробный анализ процесса развертывания ключевых
мифологем и символов мифоиоэтической концепции Иейтса в связи с
субъектной структурой в ранних поэтических сборниках Йейтса на
материале всего корпуса поэтических текстов указанного периода:
Па защиту выносятся следующие положения:
комплекс мифологем, мотивов и символов ранней лирики У.Б.Йейтса (1889-1899гг.), основанный на антиномиях, выражает идеи и концепции, присущие более позднему этапу творчества поэта, с его специфическим мифопоэтическим комплексом, что объясняется авторской правкой первоначальных вариантов стихотворений в начале XX в.;
к ранним поэтическим сборникам У.Б.Йейтса в полной мере применима теория лирического цикла, a "Collected Poems" (1933) можно воспринимать как «книгу стихов», в результате чего весь корпус стихотворений первых трех сборников должен рассматриваться как единое художественное целое;
мифопоэтический аспект ранней?лирики У:Б.Йейтса включает в < себя не; только сознательное- мифологизирование, но обнаруживает все признаки мифотворчества, характерного для зрелого творчества поэта;
мифотворческий элемент ранней лирики У.Б.Иейтса проявляется в оригинальном: развертывании? комплексам ключевых мифологем в авторской' интерпретации и их связи со сложной субъектной структурой, которая представляет собой взаимодействие двух «голосов» лирического субъекта;
разнообразные системные: проявления; двух: ипостасей s лирического субъекта в ранней' лирике У Б^ Йейтса: позволяют отождествить их с: темиз противоположными? началами, что: лежат в? основе мифопоэтической концепции Иейтса, а* взаимодействие> этих позиций; в ранних стихотворениях Иейтса интерпретируется как авторское решение мифологемы Пути и темы: поэтического творчества:
Сформулированные выше цели и задачи предопределили структуру работы. Первая глава представляет собой теоретическую часть исследования, раскрывающую соотношение элементов мифологизации и мифотворчества в ранней лирике Иейтса с учетом ряда экстратекстуальных и формально-поэтических факторов. Во второй главе выявляется система мифологем, реализованных в рассматриваемых сборниках, и обозначаются передаваемые этой системой особенности оригинальной мифопоэтической концепции поэта. Третья глава посвящена подробному анализу всего корпуса стихотворений сборников ранней лирики, вошедших в основной вариант книги "Collected Poems" 1933 года. В заключении делаются выводы, ставшие результатом проведенного исследования. Также приводится список литературы, насчитывающий 239 источников по теме данного исследования. В связи с ограниченной доступностью всего корпуса текстов исследуемых в работе сборников, в Приложении приводятся оригинальные, поэтические тексты но следующим- изданиям: Yeats W.B. "Collected Poems" (ed. by Augustine Martin, London, 1990), "The Variorum Edition of the Poems of W.B;Yeats"'(NY, 1957), "The Collected Poems of WB:Yeats: Definitive edition with the author's final revisions" (NY, 1956).
Все переводы поэтических текстов в данной работе сделаны автором; исследования. Автор ставил: перед собой задачу как можно более точно передать содержание оригинала и языковые особенности, поэтому переводы являются подстрочниками и, не претендуют на обладание художественной ценностью. Поэтические переводы некоторых из рассматриваемых стихотворений можно найти в изданиях, указанных в библиографии [16-18]! Названия сборников переведены в заголовках разделов главы 3, посвященных соответствующим сборникам. Названия отдельных стихотворений, неоднократно встречающиеся в разных главах, переведены один раз там, где соответствующему стихотворению-уделено больше всего
20 внимания (в разделах 3;I и 3.2, где в целом стихотворения разбираются в порядке их расположения в сборниках), либо при первом упоминании (в разделеЗіЗ).
Разбор и комментирование стихотворений во многих случаях требовали выделения тех или иных мест в оригинале, с этой целью автором работы использовался? жирный; шрифт и подчеркивание, в оригинале не встречающиеся. Что касается курсива, то он во всех случаях соответствует оригиналу в издании,; взятом автором в качестве; основного источника* текстов [8]:
В переводах, которые не всегда возможно сделать настолько близкими к оригиналу, как это необходимо» для? лучшего восприятия комментария; используются также круглые скобки для указания^ вариантов; перевода, обычно і более буквальных (то есть отрывок, данныш в скобках, дублирует предшествующую і ему фразу или словосочетание): Квадратные скобки; используются для тех; частей перевода; которые отсутствуют непосредственно в оригинале: в соответствующем месте текста; но могут быть добавлены, исходя из контекста; для лучшего понимания переводимого ? отрывка на русском языке.
При разборе стихотворений много внимания уделяется личным местоимениям, которые приводятся с заглавной буквы в тех случаях, когда местоимение замещает имя персонажа или выступает как символ.
Сборники "Crossways", "The Rose" и "The Wind Among the Reeds" как проявление мифотворчества
Поскольку в данной работе ранняя лирика Йейтса рассматривается как мифопоэтический феномен, необходимо в первую очередь дать определения понятиям «миф» и «мифопоэтика».
На сегодняшний день существует огромное количество толкований и интерпретаций мифа. Традиционным можно считать определение, приводимое С.Н. Бройтманом в статье «К истории форм лирического высказывания» [24], где миф рассматривается как «универсальная культурная формула» [24, с.56], универсальное знание о мире, выраженное «в чувственно-конкретном облике» [112, с. 15], порожденное, специфическим способом? моделирования мира и формой сознания, называемой мифопоэтической или мифологической.
Йейтс писал в предисловии к своему сборнику критической прозы "Essays and Introductions" [12] о магистральной теме своего творчества: "this subject-matter ... has come to me in super-normal experience; I have met with some ancient myths in my dreams, brightly lit; and Г think it:allied to the wisdom, or instinct: mat І guides а І migratory bird / «эта: тема і ... явилась мне в; опыте сверхъестественного; BE моих грёзах, полных яркого света, я встретился! с древними мифами; я думаю они? связаны; с: тош мудростью ИЛИІ тем» инстинктом, что направляет перелетных птиц» [12, с. viii].
ОМ. Фрейденберг отмечает следующие: сущностные характеристики мифа в; книге «Миф? и.- литература; древности»: «Образное представление ... , где нет нашей формально-логической І каузальности» и где вещь, пространство, время поняты: нерасчлененно ш конкретно, где человек и мир субъектно-объектно едины, - эту особую! конструктивную систему образных представлений, когда она выражена словами, мы называем: мифом» [100, с.28]і
В целом, по словам И: Новаковскощ «сегодня? насчитывается: более десяти подходов к изучению мифопоэтического сознания» [80]. Но в строгом понимании, собственно мифом можно называть только архаичные мифы, сохранившиеся с доисторических времен, когда они были, по предположению современных ученых, единственной формой познания мира. Е.М. Мелетинский говорит о таких мифах как о первичных. Первичные мифы описывают определенные «сегменты онтологической картины» [53, с. 19] с помощью структурных универсалий, именуемых архетипами, мифологемами, символами.
Согласно концепции К. Юнга, «архетипы есть первичные праобразы, априорно формирующие активность воображения ... . Архетип -некоторый инвариант любого сюжета, мотива, ... имманентно присущие всему роду людей ... мифоподобные идеи, носители мифологического прошлого» [81, с.85]. Иррациональные по сути, архетипы принадлежат «исключительно сфере до-логического прошлого или бессознательного настоящего» [55, с.50]. Мифологему же обычно считают не только «единицей бессознательного, коллективного мифотворчества», но и единицей «мифотворчества сознательного», являющегося «результатом процесса мифологизации» [55, с.49]. В таком случае, «архетип часто может лежать в содержательной основе мифологемы» [55, с.50]. В ряду терминов, обозначающих структурные элементы мифа, символ остается самым сложным для определения; Осознавая эту сложность и разнообразие теорий символа, в качестве базовых положений; мы принимаем то, что символ «должен быть способен разворачиваться в бесконечно значимый ряд смыслов» [23, с.28] и при этом являться «некоторым знаковым выражением высшей и абсолютной незнаковой сущности» [64; с. 10]. В определенной степени, символы «могут быть дешифрованы на рациональном уровне» [81, с.85]. Bbcce "William Blake and the Imagination" (1897) Йейтс писал именно о таком понимании символа: "a symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame7 I «символ, ив самом деле, единственное, что позволяет выразить некую незримую сущность, подобно прозрачному стеклу лампы, за которым горит огонь духа» [12.C.II61.
Тема медиации и значимость мифологемы Пути
«Переход» в Другой мир, столь похожий на смерть, и возвращение, опасное и практически неосуществимое, оказались естественными для одного из центральных героев ирландских легенд, любимого героя Йейтса -Кухулина [47, с.663-652]. Это не вызывает удивления, и не описывается в мифах как нечто необыкновенное, поскольку Кухулин имеет полубожественное.происхождение [47; 50]. Он сын сестры короля Конхобара и Луга, бога из Tuata de Daanan (в русском переводе - Племена Богини Дану), то есть обитателей Другого мира (более подробно они описаны в книге П. Смита [216]). Кухулин - воплощенное посредничество, медиатор, соединивший в себе черты обоих миров, свободно перемещающийся между ними (более подробный разбор» этого образа дан: в главе; 312 в связи со-стихотворением "Cuchulam s Fight; with the Sea"); Как пишет о медиации І Дж; Кзмпбелл, «свобода; перемещаться? в; любому направлении! через границу миров .„ , не оскверняя принципы одного мира принципами другого ... -является талантом мастера» [60, с.226]. Совершенно очевидно, что тема медиации имела для Йейтса исключительное значение. Вспомним хотя бы его веру в возможность общения: с духами через медиумов, обладающих особыми способностями: опыт именно такого общения посредством автоматического письма был положен в основу - "A Vision"/
В ранней лирике: число мифологем; связанных с вестничеством: медиацией, соединением двух миров, достаточно велико: Среди них - Птицы: Мифопоэтические характеристики птиц разнообразны, но у Йейтса актуализируются именно символизм «божественной сущности» и «души», «связи между космическими зонами» [75, II, с.346]. Из более поздней лирики, к примеру, вспоминается одно из «программных» стихогворении "Leda and the Swan" I «Леда и лебедь», основанное на соответствующем античном мифе. Не случайно здесь сошествие божества и контакт с человеком реализуется именно через образ птицы. В стихотворениях ранних сборников встречаются "sacred flocks of red flamingoes" I «священные стаи красных фламинго» ("Anashuya and Vijaya"), peacock I павлин ("The Indian to his Love"), parrot / попугай ("The Indian to his Love"), которые традиционно считаются священными птицами Востока.
В "The Ballad of Father OTIeart" «молодые птицы и старые птицы» ("The young birds and old birds") оплакивали смерть священника, который всю свою жизнь запрещал своей пастве прощаться с умершими по старой традиции. Таким образом, птицы становятся вестниками, утверждающими ценность древних обычаев (в том же стихогворении: "This way were all reproved / Who dig old customs up." / «Так посрамлены были все, I Кто нарушает старые традиции»). В "The Two Trees" мы встречаемся с вороном, вестником богов (в частности, Оди на. и Луга [75, I, с.247]), «медиатором между жизнью и смертью» [75. L с.245], между оппозициями как таковыми:
Особенное важен более абстрактный, образ; белых: птиц (rThe: White Birds"), основанный! на: ирландской легенде о любви: силы: Фанд к Кухулину, где она прибыла: к нему со своей спутницей в облике необыкновенных белых птиц. Здесь раскрыта как божественная сущность сидов, так и способность пугешествия между мирами; В указанном: стихотворении лирический герой жаждет превратиться вместе с возлюбленной; в белых птиц, но не для того, чтобы достичь Другого мира. Упомянутые острова, на- которых обитают сиды не являются для героя=целью: они лишь «преследуют его» ("The White Birds": "L am haunted І by numberless islands..." / «Меня преследуют бесчисленные острова;..»)."[ would that we: were, my beloved, white birds on \ the foam of the sea" / «Как хотелось бы: мне. чтобы; мы были, любимая; белыми: птицами на пене морской» - быть птицей-на водной глади само по себе является целью (подробнее о символике птиц у Иейтса можно прочесть в работе К. Ьрамсбак [ 142, с.85].
Сходным образом решается мифологема Корабля: вместо средства достижения определенной цели, он обретает самодостаточность, становясь отдельным-- пространством (в ранней пьесе Иейтса "Shadowy Waters" все действие происходит на борту корабля), и даже самостоятельной сущностью. В одном из ключевых стихотворений сборника "The Rose", "The Rose of Battle", перед нами «боевые корабли», чья жизнь - в море ("And wage God s battles in the long grey ships" I «И сражаться в божественных битвах на длинных серых кораблях»). Мотив морских странствий звучит и в "The Cloak, the Boat, and the Shoes": "I build a boat for Sorrow: I О swift on the seas all day and night I Sailetli the rover Sorrow, I All day and:night" / «Я: строю корабль для Печали: I О, как быстро все дни и ночи по морю / Плывет скиталец Печаль / Весь день, и всю ночь». Корабль на якоре, появляющийся в "The Indian to his Love" ("Here we will moor our lonely ship" / «Здесь мы поставим на якорь наш одинокий корабль»), связывается со смертью ("moor" - поставить на «мертвый якорь») и означает конец пути.
Ступени «пути святого»
Рассмотрены все те стихотворения, где непосредственно прослеживаются этапы и особенности первого «пути» Баллады, выражающие позицию Автора, вынесены в раздел 3.1.3;
Второе стихотворение сборника, "The Sad Shepherd" «Печальный пастух», отражает начальную стадию, предшествующую сіранствию героя. Состояние, требующее ухода и не позволяющее герою оставаться более в Этом мире, описывается как «дружба» с Sorrow (Печалью), причем выделяется мотив избранности божественными силами, а не сознательного выбора человека: "There was a man whom Sorrow named his friend, I And he, of his high comrade Sorrow dreaming, I Went walking ... along ... the sands" I «Один человек был назван Печалью другом, / И он, в мечтах о своем высоком друге, / Шел по пескам». Состояние этой «дружбы» непривычно и тяжело для обычного человека - он пытается найти утешение ("comforting") в «других», представленных различными символами проявленного мира: stars, sea, dewdrops I звезды, море, капли росы. Эти символы связаны с вечностью (звезды), изначальной мудростью (древнее море) и циклическим обновлением (капли росы). Вместе с тем, раскрываются различные аспекты женского начала: море женского рода ("The sea swept on and cried her old cry still" / «Но [волны] морские помчались дальше и древний плач моря все продолжал звучать», где "her old cry" - буквально - «её древний крик») -бурное первоначало; изначальный хаос; «нежная» долина рое (" far-off. gentle valley") чувственный] аспект и функция порождения; множества: Создается» впечатление, что герош не находит с этими проявлениями никакого сродства. Так, смех шпение звезд остались непонятны ему, величие моря ослепило-и-напугало его ("Не fled the persecution of her glory"/ «Он бежал, преследуемый ее величием»). Капли росы не услышали обращенных к ним слов Героя ("But naught they heard- for they are always .listening:./ The dewdrops, for the sound of their own dropping"). Можно предположить, что причиной тому послужила не замкнутость на себя; («Но- ничего не слышалш они.; поскольку всегда-прислушиваются, / Эти капли росы, только к звуку собственных капель»), а иное восприятие окружающего? мира и способность проникновения в і «трансцендентную реальность» (парцелляция и дополнительный? разрыв; фразы вставкой "The dewdrops" дают либо значимое противоречие: «они не слышали ничего, поскольку всегда слушают», либо идею «они услышали ничто, поскольку всегда прислушиваются»).
Последним, четвертым, адресатом героя становится морская раковина, распространенный символ женского начала [119, с.209]: "[Не] Sought once again the shore, and found a .shall." I «[Он] вновь вышел на берег и отыскал там раковину». Стоит отметить, что первоначально указания были на неодушевленный предмет: to this- will I my story tell, its heart, но в окончательной версии осталось лишь "her wildering whirls" / «её запутанные изгибы».
Если мы рассмотрим по порядку все адресаты героя, то выстраивается определенная последовательность, задающая схему креста: небо (верх- stars) - море (горизонталь - sea) - земля (низ - gentle valley) - снова море (the shore). Качество моря, правда, меняется - в отличие от обращения к самому морю ("Dim sea, hear ту most piteous storyV I «Туманное море, услышь мою печальную историю!») на второй позиции, в финальной части акцент ставится на пограничном пространстве береговой линии (shore). Следовательно, несмотря на кажущиеся неудачи, герой не терпит фиаско, а, напротив, уже продвигается по «пути».
Обращает на себя внимание тот факт, что в финальной части стихотворения; когда герой желает поведать свою печаль морской раковине, он не ждет от нее ответа, она\ является не адресатом (как ранее море), а объектом, средством обращения к самому себе, то есть истинным адресатом становится.