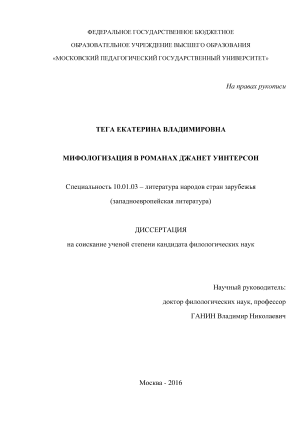Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мотивы и образы древнегреческой мифологии в романе Дж. Уинтерсон «Бремя» 27 - 94
1.1 Английская проза XX века и античная мифология: концепция Бога, Судьбы и Бремени .27 - 63
1.2 Своеобразие интерпретации древнегреческих мифов в романе Дж. Уинтерсон «Бремя» 63 - 82
1.3 Идеи З. Фрейда и их отражение в системе персонажей 82 - 94
Глава 2. Библейские мифы в художественной интерпретации Дж. Уинтерсон 95 - 141
2.1 Религиозно-философская концепция Дж. Уинтерсон .95 - 106
2.2 Интерпретация библейских мотивов в романе «Тайнопись пло-ти» 107 - 123
2.3 Диалектика тьмы и света как основа мифологизации в романе «Хозяйство света» .124 - 139
Глава 3. «Историческое» и «мифологическое» в изображении эпохи наполеоновских войн 140 - 179
3.1 Мифологизация образа Наполеона в романе Дж. Уинтерсон «Страсть» 140 - 152
3.2 Художественное пространство-время как средство мифологизации истории 152 - 162
3.3 Элементы чудесного как способ мифологизации исторических событий 163 - 176
Заключение 177 - 183
Список литературы
- Своеобразие интерпретации древнегреческих мифов в романе Дж. Уинтерсон «Бремя»
- Идеи З. Фрейда и их отражение в системе персонажей
- Интерпретация библейских мотивов в романе «Тайнопись пло-ти»
- Художественное пространство-время как средство мифологизации истории
Введение к работе
Актуальность данного исследования обусловлена неослабевающим на протяжении столетий интересом к мифу как к культурному феномену, а также к
4 Karen L. M. The Wisest Sappho: Thoughts and Visions of H.D. in Jeanett Winterson’s Art & Lies: PhD. The Florida
State University, 2006. 136 p.; Seaboyer J.A. Second Death in Venice: Cognitive Mapping in the Venetian Fictions of
Jeanette Winterson, Ian McEwan, and Robert Coover: PhD. University of Toronto, 2001.
5 Onega S. Jeanette Winterson. Contemporary British Novelists. Manchester: Manchester University Press, 2006. 256 p.;
Andermahr S. Jeanette Winterson: A Contemporary Critical Guide. London: Palgrave Macmillan, 2009. 194 p.
6 Antosa S. “My Monstrous Burden”: Queering the Myth, Rewriting the Self in Jeanette Winterson’s Weight // Textus.
2014. Vol. 27. Issue 3. P. 55 – 74; "Leaning on the Limits of Myself": Jeanette Winterson's "Weight" as an
Existentialist Text // American, British & Canadian Studies. 2010. Vol. 15. P. 104-118; Morrison J. Who Cares about
Gender at a Time like This? Love, Sex and the Problem of Jeanette Winterson // Journal of Gender Studies. 2006. Vol.15.
Issue 2. P.169-180.
7 Rennison N. Contemporary British Novelists. London and New York: Routledge, 2005. 195 p.
8 Childs P. Contemporary Novelists: British Fiction since 1970. London: Palgrave Macmillan, 2005. 287 p.
обострившимся на рубеже XX-XXI вв. вопросам взаимодействия мифа и литературы.
В гуманитарной науке сложилось множество концепций, анализирующих
понятие «миф», взаимосвязь мифа и сознания, мифа и ритуала, мифа и языкового
знака. Для данной работы наиболее значимыми стали определения мифа,
предложенные А. Ф. Лосевым, К. Г. Юнгом и, в особенности, Р. Бартом.
Французский исследователь определяет миф как «коммуникативную систему,
некоторое сообщение…форму, способ обозначения»9. Согласно одной из
важнейших постструктуралистских теорий, мир рассматривается как текст10,
следовательно, и миф, содержащий в себе целый комплекс взаимосвязанных
сообщений, также может трактоваться как текст. В данном исследовании под
мифом подразумевается текст, описывающий вещественную реальность,
насыщенный зримыми образами, которые имеют архетипическое наполнение.
Дж. Уинтерсон использует мифологические элементы в качестве
структурообразующих мотивов и при этом создаёт собственные мифы, поэтому для описания взаимодействия мифа с искусством, в частности, с художественной литературой используется термин «мифологизация». Под мифологизацией подразумевается использование мифа как главного структурообразующего мотива, вокруг которого организуется повествование, а также создание новых авторских мифов на основе традиционных образов.
Новизна работы определяется тем, что в ней впервые предпринимается
попытка дифференцировать фантастические элементы в творчестве
Дж. Уинтерсон на древнегреческие, библейские и исторические мотивы, выявить функцию мифологизации в её произведениях. Исследование приёмов мифологизации позволяет глубже понять психологию героев, концепцию и структуру личности в интерпретации писательницы, рассмотреть путь человека в современном мире и роль, которую играют архетипы в его жизни.
Теоретическая значимость работы заключается в расширении
представлений о мифе как о важном структурном элементе художественного текста; об особенностях мифологизации и её функциях в произведениях современных писателей; о творческом методе Джанет Уинтерсон и функции мифологических элементов в её творчестве.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что её результаты могут быть использованы при изучении истории зарубежной литературы ХХ века, а также при разработке курсов лекций и семинаров по истории современной английской литературы, проблемам мифологизации в художественной прозе ХХ века и творчеству Дж. Уинтерсон.
Методологическую базу исследования составили труды, посвящённые мифу как культурному и философскому явлению (А.Ф. Лосев, Я. Э. Голосовкер, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Кассирер, М. Элиаде, Р. Барт); вопросам взаимоотношения мифа и литературы (Е. М. Мелетинский, В. Н. Топоров, В. М. Пивоев, А. Л. Топорков, Л. В. Ярошенко, Т.А. Шарыпина, Я. В. Солдаткина,
Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2014. С. 265. 0 Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. С. 21.
Я. В. Погребная, Дж. Уайт); изучению творчества Дж. Уинтерсон
(Н. С. Поваляева, Т. М. Хацкевич, Е. С. Куприянова, Е. И. Солодуха, С. Онега, С. Андермар, Н. Реннисон, П. Чайлдс, M. Асенсио Аростегуи, Х. Стилс) и др.
Положения, выносимые на защиту:
1. В основе мифологизации Дж. Уинтерсон лежит использование образов,
регулярно встречающихся в современной британской литературе: образ
Потерянного рая, умирающей цивилизации, образ лабиринта и Минотавра.
Перечисленные мифологические образы позволяют отразить состояние человека,
потерявшего точку опоры в современном мире.
2. Подобно ряду современных английских писателей, Дж. Уинтерсон
интерпретирует в романе «Бремя» древнегреческие мифологические сюжеты и
образы. Новаторство автора заключается в совмещении разных временных
планов, оригинальном использовании фрейдистских идей и смешении античных
мифов с ветхозаветными.
3. В романе «Тайнопись плоти» Дж. Уинтерсон использует для
мифологизации ветхозаветную историю о Соломоне и Суламите, чтобы снять
жёсткую оппозицию между мужским и женским началом и создать собственный
вариант истории любви, претендующий на архетипичность.
4. В романе «Хозяйство света» мифологизация образов света и тьмы
является ведущим приемом, с помощью которого делается попытка решить
извечный вопрос о фундаментальных основах человеческой природы.
Писательница следует некоторым постулатам христианского учения и допускает
возможность победы добра над злом в душе человека.
5. В романе «Страсть» активно используются приёмы мифологизации и
демифологизации истории, вследствие чего образ Наполеона формируется
вначале с опорой на христианскую систему ценностей, а затем её заменяют
фольклорные традиции. Военные события перемежаются с фантастическими
элементами, а пространство и время приобретают характеристики, аналогичные
характеристикам пространства и времени в мифе.
6. Мифологизируя современную действительность, писательница разрушает
систему бинарных оппозиций, традиционно сложившуюся в обществе, чтобы
вернуть своих героев к изначальной целостности. В преодолении внутренней
раздробленности она видит решение актуальных проблем рубежа веков и рисует
портрет сложного и противоречивого человека, способного следовать избранным
путем.
Апробация работы проходила на Международной научной конференции
«XXVII Пуришевские чтения» (Москва, 2015), XI Международной научной
конференции «Художественный текст и культура» (Владимир, 2015),
Всероссийской научной конференции с международным участием
«Художественная литература и философия как особые формы познания» (Санкт-
Петербург, 2014), Всероссийской научно-методической конференции
«Филологическая наука в XXI веке. Взгляд молодых» (Москва, 2014),
Всероссийской конференции молодых ученых «Поэтика и компаративистика»
(Коломна, 2014). Основные положения работы нашли отражение в 8 публикациях, 3 из которых вышли в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Общий объём диссертации составляет 203 страницы. Список литературы включает 237 наименований, 55 из них – на иностранном языке.
Своеобразие интерпретации древнегреческих мифов в романе Дж. Уинтерсон «Бремя»
Некоторые другие элементы античной мифологии, казавшиеся ранее плодом воображения первобытного человека, также стали весьма актуальны в XX веке. Представления об изоморфности вселенной, о циклическом движении истории, о слитности пространства и времени, – те идеи, которые при господстве нью-тоно-картезианской парадигмы считались выдумкой и сказкой, – обрели новую жизнь после открытия теории относительности. Достижения в науке не могли не пошатнуть устоявшиеся религиозные каноны. Разочарование в христианских догматах привело определенный круг людей к восточной философии, псевдорелигиозным практикам и даже к созданию нового язычества (развитие пантеистических идей, русский космизм, нацистская идеология и др.). В этом контексте возрождение интереса к мифу, получившее название «неомифогизм», видится не просто объяснимым, но вполне закономерным для столетия явлением.
Один из наиболее ярких английских писателей начала XX века, в чьем творчестве выразились идеи нового столетия, – Э. М. Форстер (1879-1970). Написав в 1909 году антиутопию «Машина останавливается», автор не только предугадал надвигающуюся информатизацию жизни, но и недвусмысленно выразил свою симпатию пусть не всегда совершенному, но естественному взаимодействию человека с природой. Так же, как и впоследствии в антиутопиях Е. И. Замятина («Мы», 1927), О. Хаксли («О дивный новый мир», 1932), Дж. Оруэлла («1984», 1949) в повести Э. М. Форстера показано, что механическое подавление потребности человека в выражении чувств, в движении, в общении с природой приведет к краху личности, а затем и всей цивилизации. Через все творчество писателя пройдет противопоставление природы и цивилизации, поэзии и техники, мифа и обыденной жизни. В рассказах «История о панике» (1904), «По ту сторону изгороди» (1904), «Друг викария» (1907), «Иное царство» (1909), «Небесный омнибус» (1911), «Дорога из Колона» (1911), «Сирена» (1920), отчетливо прослеживается романтическая идея двоемирия, согласно которой есть внешний, материальный мир и мир поэтический, духовный, скрытый от обывательских глаз, куда могут попасть лишь избранные. «Топос "иного царства" противопоставляется пространству обыденного мира как более "возвышенный", прекрасный, то есть идеальный» 61 , - отмечает исследовательница творчества английского автора Л. И. Сероменко. Иной мир у Э. М. Форстера тесно связан с мифологией: сама идея иного, запредельного пространства уходит корнями в образ Эдема, земного рая, где человек обретает покой и невинность, сливаясь с природой. Иной мир многолик: он предстает то в образе загробного мира на небесах, где обитают души великих поэтов, писателей и даже их героев, то в образе рощи под названием «Иное царство», то в образе затерянной греческой провинции или маленького грота. Как правило, соприкоснуться с иным миром могут дети или люди, открытые миру, способные на искренние и глубокие чувства (Мальчик из «Небесного омнибуса», Юстас, Форд и юная мисс Бомонт, мистер Лукас, сицилиец). Взрослые, даже имеющие отношение к высокому миру литературы («культурный человек» мистер Бонс, «платный педагог» Инскип), напротив, оказываются чужаками в царстве поэзии.
Особое место в повествовательной канве рассказов Э. М. Форстера занимает греческая мифология. Как уже было сказано, миф проявляет себя только на территории иного пространства. Герои, попадающие туда, будто соприкасаются с волшебным, сказочным миром, в котором действуют свои законы. Наиболее отчетливо это прослеживается в рассказе «История о панике». Важно отметить, что местом действия в рассказе является Италия, солнечная и темпераментная страна, противопоставленная в произведениях писателя туманной Англии. «Сопоставление и противопоставление Англии и Италии вводит тему национального и инонационального в творчество прозаика», - отмечает исследователь Д. О. Половцев62. В иное пространство читатель пытается проникнуть с помощью рассказчика - чопорного англичанина, который способен лишь рассуждать о природной красоте, но не в силах по достоинству оценить ее. В заглавие вынесено понятие «паника», происходящее от имени языческого бога Пана. В греческой мифологии Пан явля-61 Сероменко Л.И. Новеллистика Эдварда Моргана Форстера: греко-италийские образы и мотивы: дисс. … канд. филол. наук. М., 2001. С.38. 62 Половцев Д.О. Проблема инаковости в творчестве Э.М. Форстера: автореф. … канд. филол. наук. М., 2009. С. 8. ется божеством стад, лесов и полей. Обычно его изображают козлоногим и покрытым шерстью. Его атрибуты – свирель, флейта, сосновый венок и заячий посох. «Пан как божество стихийных сил природы наводит на людей беспричинный, т.н. панический, страх, особенно во время летнего полдня, когда замирают леса и поля»63. В рассказе туристы-англичане отправляются в лес на пикник, их сопровождает мальчик Юстас, которого рассказчик характеризует как «неописуемо от-талкивающий»64. Юстас праздно проводит время, ничем не интересуется и предпочитает уединение. Лес, играющий важную роль в рассказе, представляется англичанам чуждым и опасным местом, порождающим безотчетный физический страх. Чувство паники, внезапно овладевающее мирными туристами, объясняется автором появлением козлоногого бога. Писатель использует мифологический образ очень тонко: сам бог не показывается на арене событий, однако ряд деталей свидетельствует о его присутствии. Как в мифе, действие происходит в летний полдень, когда умирают все звуки вокруг и наступает мертвая тишина. Заявление героев «Пан мертв» резко контрастирует с испугом, охватившим отдыхающих. На поляне остается один Юстас, который и «встречается» с богом: вернувшаяся компания находит его неподвижно лежащим на земле, а рядом с ним рассказчик обнаруживает козлиные следы. Юстас проходит инициацию: он умирает и возрождается обновленным. Теперь он убежден: «Я понимаю почти все … Деревья, холмы, звезды - я могу видеть все»65. Он сам становится «иным», больше похожим на простых итальянцев, чем на англичан с их «неразвитым сердцем». Юстасу открывается иной мир, мир природы, в который он и уходит в конце рассказа, не в силах вынести «слишком маленькую» комнату, из которой открывается вид лишь на каменную стену (перекличка с романом Е. М. Форстера «Комната с видом», 1908).
Идеи З. Фрейда и их отражение в системе персонажей
В соответствии с концепцией О. Шпенглера178 культура проходит стадию зарождения, становления и умирания. Мифология как основа мировоззрения также претерпевает расцвет и гибель, однако продолжает существовать как часть мировой истории. Обращение к тем или иным мифам даже после утраты ими своего сакрального значения обеспечивает установление диалога между эпохами. Английская литература, как и литературы европейских стран, испытала значительное влияние греческой мифологии в эпоху Возрождения. Подобный интерес к античности в XIV-XVI вв. можно считать возвращением к древнегреческой эстетике, но не к античному мировоззрению. Взгляды человека Нового времени формируются по большей части под влиянием научных знаний, вселенная предстает рационалистически организованным космосом, а мифологические образы приобретают статус универсальных художественных средств. Позже та же участь постигла христианскую мифологию: начиная с XIX века, по мнению О. Шпенглера, можно говорить о «закате» культуры Западной Европы179. Свидетельством отхода от христианской мировоззренческой парадигмы становится использование сюжетов и мотивов священных текстов в качестве структурного элемента произведений искусства, их вольная интерпретация. Библейские легенды перестают восприниматься как абсолютное, истинное знание; «…само рассмотрение христианских текстов как мифологических свидетельствует о глубоко зашедшем процессе секуляризации сознания». Подобная десакрализация священных текстов во многом связана с культурно-исторической обстановкой в Западной Европе в XVII-XIX веках: Реформация способствовала отступлению от религиозного канона, а романтизм привнес в искусство мотив бунта против Создателя. «В романтической поэтике активный герой, строитель сюжета, был героем зла. Именно он -демон, падший ангел - присваивал себе свободу нарушать установленные Богом законы»181, - пишет Ю. М. Лотман. Мистерия Дж. Байрона «Каин» (1821), его поэма «Манфред» (1817), роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) М. Шелли и демоническая мифология в лирике П. Б. Шелли наглядно иллюстрируют стремление англичан противопоставить себя патриархальным устоям и общепринятым авторитетам.
Между тем своеобразие иудаистической и христианской мифологий обусловлено их тесным взаимодействием с религиозной доктриной, с одной стороны, и с фольклорными традициями, с другой. В отличие от большинства мифологических систем (в том числе, и античной), библейская мифология – «не столько мифология священного космоса, сколько мифология истории народа»182. Иудаисти-ческая мифология использует традиционные мифологические мотивы, но перестраивает их внутреннюю структуру и меняет их смысл на противоположный, избавляясь от «языческих» элементов. Христианская мифология еще в большей степени отходит от язычества, поскольку на первый план выходит теология. Библейские образы обладают глубоким символическим наполнением, вследствие чего они сохраняют свои значимость даже в эпоху кризиса христианства. В XX веке богоборческие настроения перетекают в критику теоцентризма, интеллектуальной элите, казалось бы, нет необходимости сражаться с «ветряными мельницами» Теодицеи, если «Бог умер»183. Даже обращаясь к библейской тематике, писатели не пытаются обрести веру, напротив, зачастую они утверждаются в своем скепсисе: «Бога не существует, говорит Барнс, но небезгрешное человечество не торо 97 пится избавляться от него»184. В романе «История мира в 10 главах» Дж. Барнс показывает хаотичность исторического процесса, «отсутствие гармоничного божественного замысла»185 и, как следствие, «отсутствие любви Создателя мира к человеку»186. Г. Свифт в романе «Водоземье» (1983) подчеркивает нелинейный характер истории, ее цикличность; при этом истинный смысл человеческого бытия, по его мнению, заключается в противостоянии безжалостному историческому процессу. Отличительной чертой современной литературы становится синтез традиционных мотивов: у Г. Свифта идея цикличности и вечной повторяемости совмещается с христианской надеждой на Спасение. В статье «Библейский код в романе Грэма Свифта "Водоземье"» Е. Б. Греф исследует библейские мотивы в романе: текст испещрен многочисленными аллюзиями к сюжетам из Ветхого и Нового Завета, а главный герой – школьный учитель Том Крик - играет роль Христа, о чем свидетельствует глава «Евангелие от учителя» 187 . Между тем К. Хьюитт скептически оценивает попытку главного героя примириться с Создателем: «…неожиданное "обращение к Богу" одного из героев видится как пугающее бегство от рационального поведения»188. В романе Дж. Диски «Лишь человек» («Only Human», 2000) ироничному переосмыслению подвергается ветхозаветная история об Аврааме и Сарре. Писательница переписывает знакомый сюжет, заостряя внимание на любовной линии, при этом Бог предстает не далеким демиургом, а одним из участников любовного треугольника. «Вспыльчивый, ревниво относящийся к любви между собственными созданиями, он кажется иногда более человечным, чем сами люди»189, - отмечает Н. Реннисон.
Интерпретация библейских мотивов в романе «Тайнопись пло-ти»
Писательница обращается к образу Наполеона, развенчивая великого полководца и, в то же время, показывая его существенное влияние на современников. Критики усматривают в образе императора черты Маргарет Тэтчер, в частности, П. Чайлдс считает роман своеобразным откликом на эпоху тэтчеризма: «…книга, в которой Уинтерсон создает образное "отражение" реального мира эпохи Тэтчер, помещая его в Наполеоновскую Европу начала XIX столетия»309. Между тем в произведении присутствует не только социально-политический пласт, но и духовно-нравственный. Для создания двойственного портрета императора автор прибегает к использованию библейских образов и мотивов. Центральному герою романа посвятила свою статью отечественная исследовательница Т. М. Хацкевич310, которая сосредоточила внимание на «инаковости» императора, его непохожести на обыкновенных людей. В работе проводится сопоставление Наполеона с Христом, однако библейский контекст не становится предметом специального исследования.
Воссоздание эпохи начала XIX в. играет важную роль в романе, однако повествование о наполеоновских завоеваниях в произведении Дж. Уинтерсон приобретает иной характер, нежели в традиционном историческом романе. В качестве места действия писательница избирает несколько стран: Францию, Россию и Италию. Англия оказывается вне поля зрения автора, возможно, потому, что целью Дж. Уинтерсон не было написание исторического романа, в котором бы разворачивалась панорама военных действий двух держав. Как она сама признается в одном из интервью, история в ее произведении — лишь «изобретенное пространство» (invented space), на фоне которого писательница решает современные ей проблемы311. Венеция, описанию которой в романе уделяется значительное внимание, оказывается плодом авторского воображения, потому что Дж. Уинтерсон, по ее словам, рисовала итальянский город не с натуры, а опираясь на традицию ее изображения в искусстве: «Я писала о Венеции, ни разу не побывав в этом городе, и это здорово, потому что моей Венеции не существует в реальности» 312 . Н. С. Поваляева отмечает, что исторические факты в романе выполняют функцию рамы, в которую, подобно картине, вписан авторский вымысел: «Совершенно очевидно, что для Дженет Уинтерсон история — не столько факт, сколько образ; по ее мнению, нет какого-то универсального и единого видения истории, есть неограниченное количество ее интерпретаций»313. Подобный взгляд коррелирует с утверждением автора, что ее работы «манипулируют» историей. Дж. Уинтерсон пишет: «Есть определенные факты, на которые мы можем опираться: даты, места, люди, однако все остальное относится к сфере интерпретации и воображения»314. Б. М. Проскурнин относит «Страсть» к постмодернистским романам, демистифицирующим и демифилогизирующим историю315. Исследователь пишет о подвижности «структурно-поэтологических» границ жанра исторического романа, подчеркивая новый, индивидуализированный подход к осмыслению прошлого писателей-постмодернистов: «В самом деле, в обозначенные десятилетия едва ли не каждый третий, а то и второй появляющийся роман — исторический, но история при этом осмысляется не как нечто совершившееся, а как нечто рассказанное (вновь очевидно доминирование текстоцентрического подхода к реальности)»316. Достаточно вольное соблюдение исторической достоверности, недопустимое для жанра исторического романа, является характерной чертой историографической метапрозы ( historiographic metafiction )317, сосредоточенной не столько на происшедших событиях, сколько на процессе «рассказывания» о них. Так в романе «Страсть» о событиях начала XIX в. повествуют необычные для исторического романа очевидцы. В произведении на первый план выдвинут не блестящий офицер наполеоновской армии, а повар, который на войне не убил ни одного солдата; героиней становится не прославленная Жозефина, супруга императора, а маркитантка Вилланель. Подобный прием позволяет увидеть известные исторические факты с необычного ракурса, задуматься не только о судьбе гениального полководца, но и о невинных жертвах его политики, вовлеченных в круговерть истории. Эпоха диктует людям свои правила, влияет на линию их жизни, даже если они не находятся в эпицентре политических интриг. Контекст эпохи наполеоновских завоеваний необходим и для раскрытия персонажей в их становлении, и для исследования человеческой природы, которая острее вырисовывается в кризисные периоды.
Композиционно роман поделен на главы, написанные от лица французского солдата Анри и венецианки Вилланель. Однако дискурс Анри соединяет в себе две линии: с одной стороны, молодой рекрут описывает все происходящее на войне в своем дневнике, чтобы запечатлеть испытываемые им чувства, с другой стороны, взрослый, разочарованный во всех прошлых ценностях, находящийся в доме умалишенных, Анри переосмысливает свою жизнь, сопровождая старые записи комментариями. При этом четкой границы между двумя планами повествования нет, одно перетекает в другое, вычерчивая путь духовного роста главного героя.
Художественное пространство-время как средство мифологизации истории
В образе маяка, вокруг которого организуется повествование, воплощается метафора «свет с темнотой внутри». В христианской традиции свет ассоциируется с добром, а тьма – со злом. Дж. Уинтерсон, казалось бы, опирается на данную оппозицию, характеризуя героев своего романа, но при этом обыгрывает понятие света и тьмы, используя мотив слепоты. Продолжая античную традицию, писательница рисует физически зрячего героя духовно опустошенным, а слепого смотрителя маяка, напротив, наделяет внутренним зрением.
Некоей критической точки дуализм света и тьмы достигает в образе Вавилона Мрака. Опираясь на концепцию К. Г. Юнга об архетипах, Дж. Уинтерсон изображает две личности, сосуществующие в одном человеке. Архетип тени порождает темную сторону Мрака, скрытую за маской добродетельного священника. Очевиден творческий диалог, в который вступает писательница с Р. Л. Стивенсоном, автором одного из наиболее известного произведения о двойственности человеческой природы. Дж. Уинтерсон по-своему обыгрывает и юнговскую теорию, и тему двойничества. Не в добром и порядочном человеке обнаруживается злое темное начало, а, напротив, в человеке жестоком и себялюбивом открывается иная, более светлая сторона. Тенью является сам герой, в то время как скрытая в нем личность предстает воплощением света.
Наконец, автор продолжает идеи У. Голдинга, считавшего, что в человеческой душе происходит извечное противостояние добра и зла. Всем своим текстом: заглавием, описанием пути героев, магистральной темой - автор заявляет, что, несмотря на противоборство светлого и темного начала в природе и в душе человека, победа добра над злом возможна. В этом видится следование писательницей основным постулатам христианского учения. Однако она отступает от христианской мифологии в том, что касается отождествления духовного с добром, а плотского – со злом. Парадоксально потеря невинности в ее интерпретации связывает 181 ся не с потерей, а с обретением рая, в котором царит любовь. Определяющим для автора становится свободный выбор: герой сам решает, каким путем ему идти.
Библейские образы и мотивы проходят сквозь всю ткань художественного повествования Дж. Уинтерсон. Их употребление в текстах романов претерпевает определенную эволюцию. В раннем творчестве еще весьма ощутимы следы детских впечатлений автора, звучит обида на приемную семью и на церковь, которые не приняли ее такой, какая она есть. Она интерпретирует библейские истории в ироничном («На свете есть не только апельсины») или даже комичном («Лоция для начинающих») ключе, допуская весьма вольные сопоставления («Страсть», «Тайнопись плоти»). В более поздних романах писательница пытается примириться со своими детскими воспоминаниями («Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной?»), а библейские мотивы подвергаются уже более глубокому и серьезному осмыслению («Хозяйство света», «Бремя» и др.). Так или иначе, на протяжении всего творческого пути Священное Писание остается для автора основополагающим в культурном отношении текстом, помогающим ей создавать собственный художественный мир.
Подобно другим писателям-постмодернистам (Дж. Барнс, Й. Макьюен, П. Акройд, и др.) Дж. Уинтерсон использует историю как текст для интерпретации и мифологизирования. По ее мнению, не существует объективной истины, а значит, каждое историческое событие можно трактовать с той или иной точки зрения. В романе «Страсть» писательница обращается к эпохе наполеоновских войн и выбирает в качестве рассказчиков о событиях начала XIX века повара наполеоновской армии Анри и венецианку Вилланель. Подобно Э. М. Форстеру и Э. Берджессу, автор создает сатирический портрет великого завоевателя. Анри проходит духовный путь, в чем-то сходный с путем А. Болконского: восхищение и обожествление императора сменяется глубоким разочарованием в нем. Для более наглядного изображения данной трансформации писательница использует прием мифологизации и демифологизации. В начале романа Бонапарт сравнивается с Христом, его миссия видится в освобождении и возвеличивании французского народа. Однако вскоре он становится скорее богоборцем, пытающимся за 182 нять место Господа: жестокость Наполеона, его беспощадное отношение не только к врагам, но и к собственным солдатам, развенчивают его образ Гения и Спасителя. В облике императора проявляются комические черты, в частности фольклорные черты кровожадного карлика, людоеда Бугимена. Подобное отношение к французскому завоевателю обусловлено не только традиционной нелюбовью англичан к Наполеону, но и современной политической ситуацией: исследователи обнаруживают в изображении наполеоновских войн черты эпохи тэтчеризма.
Новозаветные элементы используются автором и для создания образа Вилланель, жительницы Венеции, осажденной наполеоновской армией. В ее облике также обнаруживаются христианские черты: во время войны она поневоле становится маркитанткой, переживает страшные унижения, однако не теряет способности к состраданию. И для Наполеона, и для Вилланель, большое значение приобретает образ острова. Наполеон родился на острове и провел на острове последние дни жизни. Вилланель же является венецианкой, а Венеция, будучи городом на воде, предстает обособленным участком суши, подобным настоящему острову. Так называемая «островная» принадлежность влияет на характер героев: в них отчетливо проявляется независимость, свободолюбие, стремление к одиночеству. Анри же обладает «материковым» сознанием: важную роль для него играют патриархальный уклад и традиции, семья и родные места. В начале повествования он принадлежит французской армии, чувствует себя частью единого целого. Однако постепенное разочарование в войне, в Наполеоне приводит его к разочарованию и в прежних ценностях. Духовный путь героя совпадает с его физическим перемещением в пространстве. В изображении автора пространство и время мифологизируются, время обладает способностью замедляться и останавливаться, в структуре пространства выделяется сакральный центр и периферия. В структуре общества наблюдается разделение на верхний, средний и нижний мир, такая иерархия свойственна мифологическому сознанию. Однако писательница разрушает четкую дифференциацию, позволяя своим героям свободно перемещаться по социальной лестнице.