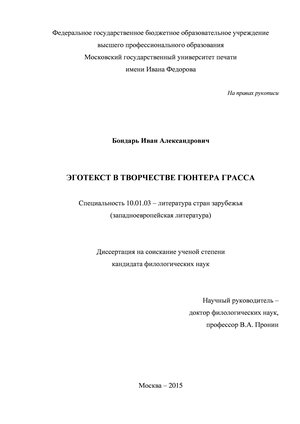Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Художественно-документальная проза в творчестве Гюнтера Грасса
1.1. Эготекст и эгодокумент в современном литературоведении
1.2. Содержание и границы понятия «эготекст»
1.3. Проза Гюнтера Грасса в системе самосвидетельств
Глава 2. Референциальность эготекстов Гюнтера Грасса
2.1. Эволюция мемуарной прозы: от индивида к автобиографическому субъекту
2.2. Три «я» Гюнтера Грасса: гражданин, писатель и обыкновенный человек .
2.3. Функция авторского вымысла в конструировании эго писателя .
Глава 3. Индивидуально-биографическое пространство Гюнтера Грасса
3.1. Пространство в эготексте
3.2. Германия Гюнтера Грасса как мировоззренческий конструкт
3.3. Данциг или Гданьск? - 30 31 - 181
Заключение 182 – 190
Список литературы
- Содержание и границы понятия «эготекст»
- Проза Гюнтера Грасса в системе самосвидетельств
- Три «я» Гюнтера Грасса: гражданин, писатель и обыкновенный человек
- Германия Гюнтера Грасса как мировоззренческий конструкт
Содержание и границы понятия «эготекст»
Для современного литературного процесса ХХI века характерно появление значительного количества произведений с главенствующим документальным началом и параллельный рост интереса к ним не только со стороны литературоведов, но и историков, культурологов, социологов, психологов и т.д. Вследствие различных подходов к исследованию этого вида литературы (исторический, в т.ч. историко-литературный и историко культурологический, а также литературоведческий и собственно лингвистический) наметилась тенденция к обновлению терминов для ее обозначения. Вместо общепринятых обозначений литературных жанров (житие, исповедь, автобиография, дневник, маргиналия, письма и т.д.) стали использоваться такие понятия, как «документы личного характера», «человеческий документ», «автодокументальный текст», «эготекст», «эгодокумент» и т.п.
Получивший наибольшее распространение термин «эгодокумент» был введен профессором Амстердамского университета Жаком Прессером (Jacques Presser) еще в середине 50-х гг. XX века с целью объединения в одну группу произведений различных жанровых форм, изучением которых он занимался (автобиографии, мемуары, бытовые дневники и письма). Дефиниция нового термина была им дана в статье «Мемуары как исторический источник» («Mmoires als geschiedbron»). В понятие «эгодокумент» он включил те исторические источники, в которых «исследователь сталкивается с «я» и иногда (…) с «он» как с одновременно пишущим и присутствующим в тексте субъектом описания»74. Позднее в
Введенный Ж. Прессером термин оказался настолько удачным, что спустя примерно тридцать лет его начинают широко использовать за пределами Нидерландов: во Франции, в Англии, Германии, Польше, России и т.д.
Однако термин «эгодокумент», введенный Ж. Прессером прежде всего для обоснования исторического подхода к исследованию произведений, в которых наблюдалось документальное начало, пока еще не имеет устойчивого, всеми признанного понятийного значения.
В настоящее время ведутся дискуссии о критериях, в соответствии с которыми тот или иной текст может быть отнесен к эгодокументу, о содержательном наполнении этого понятия и о соотношении достоверности и вымысла в такого рода текстах.
Так, в своих трудах Рудольф Деккер, который вслед за Ж. Прессером под эгодокументом понимает текст, «в котором автор пишет о его или ее делах, мыслях и чувствах»76, расширяет предложенный своим земляком перечень текстов, относящихся к эгодокументам, включая в него не только бытовые, но и путевые дневники, а также личные заметки, ограниченные по времени и сфокусированные на особых событиях частной жизни, примечания к генеалогическому древу, в которых большое место занимают личные наблюдения77.
Близкие по своему значению к прессеровской и деккеровской трактовкам термина «эгодокумент» дефиницию и перечень входящих в эту группу документов дает английский историк и культуролог Питер Брк. В
Совсем иную трактовку понятия «эгодокумент» предлагает немецкий историк Винфрид Шульце в своей книге «Эгодокументы. Приближение к человеку в истории» (Ego-Dokumente. Annherung an den Menschen in der Geschichte), опубликованной в 1996 г. в Берлине. Он включает в группу «эгодокументов» не только самостоятельно написанные автором тексты, но и отзывы, полученные, например, в рамках административного судопроизводства, акты уголовного судопроизводства, акты взимания налогов, личных обысков, протоколы допросов, ходатайства, завещания, а также торговые и бухгалтерские отчеты и сопроводительные письма, в которых содержится личная информация. Основанием для отнесения названной выше деловой документации к эгодокументам стало то, что в них добровольно или вынужденно отражено самовосприятие человеком своего места в семье, обществе, стране или представлена информация о социальном слое, к которому относится человек, о его отношении к государственным институтам и происходящим изменениям в них или в его отношении к ним80.
Толкование В. Шульце понятия «эгодокумент» было принято исследователями критически. Критика возникла, во-первых, из-за смешения в его работе понятий «добровольное сообщение» и «принудительное сообщение», что, как следствие, привело к смешению текстов-самосвидетельств и деловой документации. Во-вторых, потому, что
Schulze W. Ego-Dokumente: Annherung an den Menschen in der Geschichte. S. 28. отнесенные В. Шульце к эгодокументам тексты, как считает Андреас Рутц (Andreas Rutz), характеризовали не столько индивидуума как такового, сколько «его взаимоотношения с окружающим его миром»81. С целью ограничить круг источников, подлежащих изучению, историк Бенигна фон Крузенштерн в 1994 г. в статье «Что такое самосвидетельство? Критические замечания и соображения на примерах изучения источников XVII столетия» (Was sind Selbstzeugnisse? Begriffskritische und quellenkundliche berlegungen anhand von Beispielen aus dem 17. Jahrhunder) предложила произведения, которые «самостоятельно сочинены, как правило, самостоятельно написаны (реже – надиктованы), а также являются результатом личной инициативы автора, то есть созданы «по собственному почину» или «самостоятельно»82, выделить в отдельную группу и рассматривать их как часть эгодокументов в предложенном В. Шульце широком понимании значения этого термина. К таким произведениям она отнесла тексты, которые Ж. Прессер, Р. Деккер и П. Брк и считали собственно эгодокументами и применительно к которым в немецком литературоведении в настоящее время наряду с термином «самосвидетельство» (Selbstzeugnis) используются также термины ich-literatur, sebstliteratur, self-literature.
Проза Гюнтера Грасса в системе самосвидетельств
В отличие от «Исповеди» Августина в одноименном произведении Ж.-Ж. Руссо «отсутствует экзистенциальная напряженность открытости, незавершенности исповеди, где человек оказывается на острие бытия лицом к лицу с Богом»242. Более того, в этом произведении французского писателя содержатся скрытые наставления и рекомендации. Поэтому «Исповедь» Руссо, думается, можно рассматривать как первый образец автобиографической прозы, в которой «исповедальное начало присутствует как момент построения целого, как литературный прием, как особая интонация»243. Кроме того, новым для развития автобиографической прозы стало введение в нее темы детства, которая впоследствии будет широко представлена в западноевропейской автобиографической прозе. Третья форма – воспоминания поэта И.В. Гте «Поэзия и правда» (1811 – 1833). На понимание писателем индивидуальности оказало большое влияния пантеистическое учение Бенедикта Спинозы о тождестве бога и природы. «Согласно Б. Спинозе человек, живущий в боге, не порывает тем самым с законами природного мира, а свободно признает над собой власть природной необходимости, ибо знает, что природа есть божественная субстанция и через законы природы им управляет бог. На этом убеждении Гте выстраивает особую теорию отречения от абсолютной свободы самоопределения личности во имя сознательной интеграции своего «Я» в миропорядок, основанный на каузальности и естественной необходимости»
Понимание реального мира и реальной истории как «единого, компактного и полного целого»245 позволило И.В. Гте рассматривать все свое творчество в качестве одной большой исповеди, т.е. имплицитной этой исповеди, по мнению И.В. Гте, недостаточно отчетливо прослеживались внутренние связи. Для того, чтобы преодолеть «неполноту и бессвязность этой исповеди», он и решил написать книгу автобиографического содержания, «которая связала бы воедино эти разрозненные страницы»246 и отразила «одну исповедь в проясняющем зеркале другой»247.
Такая форма исповедальности потребовала от И.В. Гте «обрисовать человека в его отношениях к своему времени и показать, насколько целое было враждебно ему, насколько оно ему благоприятствовало, как он составил себе взгляд на мир и людей и как он отразил его во внешнем мире в качестве художника, поэта, писателя»248. «Для установления сквозной логической связи между отдельными фактами жизни и фрагментами жизнеописания требовалась упорядочивающая схема, структура, и такую структуру Гте ищет в своем собственном «я», в становлении своей индивидуальности и в истории развития той личности, которая явилась источником всех «разрозненных отрывков большой исповеди»249. Самопостижение же индивидуальности, по И.В. Гте, требует почти невозможного, «а именно, чтобы индивидуум знал себя и свой век: себя, поскольку он при всех обстоятельствах остается одним и тем же, а век – как нечто вольно или невольно увлекающее за собой всякого, как нечто определяющее и образующее тебя»250.
По мнению И.В. Гте, наиболее значительной порой индивида является пора развития251. В первых трех книгах, воссоздавая действительные события своей юности, он для восстановления более полной картины событий опирается не только на собственную память, но и использует отдельные, по большей части отрывочные и разрозненные, дневниковые записки разных лет, привлекает переписку с друзьями семьи и с сестрой, подлинные исторические документы, сочинения по истории литературы и т.д. Привлечение такой обширной источниковедческой базы необходимо писателю для того, чтобы с высоты более позднего опыта выявить законы индивидуального и исторического развития в соответствии с законами, подсказанными изучением метаморфозы растений. Однако, убедившись в том, что такое описание процесса становления личности приводит к недопустимо искусственному упрощению человеческого развития, он отказывается от позиции всезнающего истолкователя своей жизни и в четвертой книге приходит к выводу о невозможности объяснения «загадки мироздания и человеческой жизни»252, а также реализации идеи Ж.-Ж. Руссо показать «себе подобным человека во всей правде природы»253.
В отличие от «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо, насквозь пронизанной субъективным началом, в «Поэзии и правде» преобладает эпически дистанцированный, подчеркнуто объективный (иногда повествование идет в третьем лице), порою ироничный и критический по отношению к себе в юности и к другим тон повествования. Избранная писателем позиция истолкователя жизни дает ему возможность при описании внешней, бытовой и духовной атмосферы своей молодости, в особенности литературной жизни, вносить в реальную картину поправки, подсказанные его нынешним пониманием той давно ушедшей эпохи. Это, в свою очередь, в одних случаях приводит к изменению исторической перспективы событий (например, критическое переосмысление И.В. Гте роли литературного движения «Бури и натиска», следствием чего стало сознательное затушевывание бунтарского характера этого периода), а в других – дает возможность «отступить от точного воспроизведения действительности. Это прежде всего относится к романтическим эпизодам его автобиографии
Три «я» Гюнтера Грасса: гражданин, писатель и обыкновенный человек
Германия в эготекстах Г. Грасса – это прежде всего «ментальное пространство», формирование которого происходит в соответствии с мироощущением писателя.
Некоторые исследователи творчества Г. Грасса, считая ключевой в эготексте «Из дневника улитки» метафору улитки, как правило, отмечают, что он крайне политизирован464, представляет собой одну из форм политической работы465 и включает в себя элементы политической пропаганды466. Действительно, метафора «улитки» является ключевой для понимания того, в каком направлении Г. Грасс предлагал двигаться немецкому обществу, какой путь развития писатель видел для него наиболее оптимальным. В то же время при такой постановке вопроса в тени остается философский аспект творчества писателя, считавшего своей главной целью борьбу с немецким идеализмом, «который подобен подорожнику: сколько его ни выпалывай, он снова вырастает»467. В этом аспекте для нас важны две фигуры, не отмечаемые ранее как ключевые в эготекстах Г. Грасса. Это И.В. Гте и Г.В.Ф. Гегель.
Сложность мировоззрения И.В. Гте, его огромный вклад в мировую литературу, противоречивые оценки его личности – от восхищенных («нигде, кроме Гте, не были так представлены в новейшее время внутренняя уверенность, гармоническая законченность и чувство действительности по отношению к миру»468) до скептических (Гте – «классик второго порядка … классик, живущий, в свою очередь, за счет других классиков, прототип духовного наследника»469) – все это заставляет обращаться современных писателей, в том числе и Г. Грасса, к наследию этого поэта, писателя и философа.
К личности и творчеству И.В. Гте он обращается в своей антифашистской «Данцигской трилогии», включающей романы «Жестяной барабан», «Собачьи годы» и новелла «Кошки-мышки», основным связующими элементами которых являются место действия (Данциг, в описываемое в трилогии время входивший в состав Германии), болезненная для немецкого общества тема национального прошлого, связанная с существованием третьего рейха, мотивы ответственности немецкого народа за преступления нацистского режима и сквозные персонажи (Оскар Мацерат, Тулла Покрифке и т.д.)470.
В этой трилогии писатель пытается понять, как общество, воспитанное на идеалистической немецкой философии, на гуманистических традициях культуры прошлого, могло не только принять идеологию фашизма, но и использовать творчество И.В. Гте в своих идеологических целях.
Одну из причин этого Г. Грасс видит в отсутствии серьезного образования в среде немецкого бюргерства, которое подменяется претензиями на «образованность». На самом же деле у представителей мелкой буржуазии не была даже выработана привычка к серьезному чтению. О читательских предпочтениях данцигских обывателей в «Жестяном барабане» красноречиво свидетельствует библиотечка покойного Тео Шефлера, брата наставницы Оскара Мацерата, Гретхен Шефлер, состоявшая из келлеровского морского календаря, истории города Данцига, написанной специалистом по этнической истории немцев Эрихом Кейзером, и исторического романа популярного немецкого писателя Феликса Дана «Битва за Рим». Девушки же из мелко-буржуазной среды увлекались чтением в основном до замужества и читали для того, «чтобы, подпитавшись начитанным, придать браку с торговцем колониальными товарами и с пекарем больше широты, кругозора и блеска»471. После замужества они и вовсе забывали о книгах. Не случайно в «Жестяном барабане» Гретхен Шефлер находит роман Гте «Избирательное сродство» в груде ненужного бездетной героине «детского барахла», где он соседствует с книгой, «рассуждавшей о приходе-расходе» и «богато иллюстрированным толстым томом «Распутин и женщины»472.
Возникает закономерный вопрос: почему Г. Грасс в библиотечку Гретхен Шефлер, помещает именно «Избирательное сродство», а не какое-либо иное произведение И.В. Гте?
Дело в том, что в творческом наследии И.В. Гте этот роман, имеющий то же название, что и вышедшее в 1782 г. исследование шведского химика Торбера Бергмана, один из наиболее сложных для понимания. По словам самого писателя, в «Избирательное сродство» (1809) «вложено больше, чем можно уловить при первом чтении»473. В нем И.В. Гте предпринимает попытку рассмотреть человеческие отношения, в том числе проблему брака, проблему избирательности в любви и связанную с ней проблему отречения, проблему человеческого деяния в его отношении к миру, в контексте последних достижений естествознания, то есть рассматривая жизнь как единый организм, как «конечный корректив человеческого поведения»474.
В том, что Г. Грасс прячет «Избирательное сродство» в груду ненужных вещей Гретхен Шефлер, таится глубокий скрытый смысл. Нарочито неправильным прочтением названия книги – «что-то про «избирательное родство» – Г. Грасс дает понять, что Гретхен Шефлер, даже если она и когда-то читала этот роман, вряд ли была способна понять всю сложность его философской проблематики. Ее, как, впрочем, и мать Оскара Мацерата, с которой Гретхен Шефлер иногда беседовала о книгах, могла интересовать в «Избирательном сродстве» только внешняя канва: любовь и измена, брак и развод и т.п. вещи. Показанные в «Жестяном барабане» семейные отношения четы Мацератов являются своеобразной пародией на роман «Избирательное сродство», который, как полагал К.О.Конради, «есть не что иное, как поздние размышления на … тему – сомнительного союза втроем»475. Именно в таком союзе живут мать Оскара Мацерата, его отец и дядя Ян Бронски. Днем дядя встречается с его матерью в дешевых меблированных комнатах, которые он специально снимает для встреч с нею, а вечером приходит к ним домой поиграть в карты. Правда, в отличие от героев Гте их не мучает «борьба между долгом и влечением»; для них это всего лишь обыденность. Поэтому-то Оскар Мацерат, утверждающий, что не уверен, кто его отец – то ли муж матери, то ли ее двоюродный брат – так ироничен в оценке сложившейся ситуации.
Германия Гюнтера Грасса как мировоззренческий конструкт
Желание Г. Грасса не акцентировать внимание на своем «я» обыкновенного человека может рассматриваться как вполне закономерное в свете того, что его личное восприятие прошлого не в полной мере соответствует сформировавшемуся в общественном сознании благодаря его художественной прозе, публицистике и общественной деятельности образу интеллектуала, стоящего на антифашистских позициях. Поэтому в его эготекстах представлена та их разновидность, в которой эго непреднамеренно обнаруживает себя. В эготекстах «Из дневника улитки», «Головорожденные, или немцы вымирают» Г. Грасс предпочитает говорить о своем прошлом как о гипотетически возможном. С одной стороны, «такая «плавающая» точка зрения – между документальностью и фикцией – позволяет достраивать воображаемый ход событий, насыщать плоскую картинку детской и юношеской памяти и сформированного ею «я»-образа»552, а с другой – избегать исповедальности. Но даже при таком способе повествования становится очевидным, что обыкновенный человек Грасс воспринимает прошлое совсем иначе, чем Грасс-гражданин и писатель: в его оценке прошлого наряду с личными воспоминаниями велика доля коллективной памяти, в которой ссылка на незнание действительного положения дел в стране, а также на страдания, пережитые немцами в период Второй мировой войны и в последующие за ней годы, стали достаточным основанием для того, чтобы не только снять с себя ответственность за преступления, совершенные нацистским режимом, но и почувствовать себя жертвой выигравших войну с нацистской Германией союзнических войск.
Принятие за отправную этой точки зрения приводит в «Луковице памяти» к изменению у Г. Грасса характера исповедальности: ее цель сводится не к раскаянию за совершенное, к чему он всегда призывал нацию, а к цепочке оправданий («не знал», «не понимал», «не видел» и т.д.). Такая рациональная исповедальность, с одной стороны, позволяет не раскрывать до конца мотивы совершенных им в молодости поступков, в том числе это касается и его службы в войсках СС, а с другой – привносит некоторую двусмысленность, поскольку осуждение себя в «Луковице памяти» воспринимается скорее как дань своей гражданской позиции, от которой лауреат Нобелевской премии в силу обстоятельств уже не мог или не захотел отказаться. Эту двусмысленность уловили и некоторые журналисты. Так, немецкая газета «Цайт» подозревала автора «Луковицы памяти» в том, что он использует свое признание о службе в войсках СС в маркетинговых целях, и недоумевала, почему лауреат Нобелевской премии надеется получить немедленное утешение и прощение553. Такой же позиции придерживался и швейцарский еженедельник «Вельтвохе», по мнению которого Г. Грасс «подкинул уголька в огонь», чтобы расшевелить любопытство масс554. Признание нобелевского лауреата расценили как рекламную уловку также и бывший сенатор по культуре Берлина Кристоф Штльцель, и президент Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох555.
Отметим также, что разоблачение преступлений нацистской Германии ведется Г. Грассом в рамках восточной политики Вилли Брандта, «которая ориентировала политику прошлого, основанную на признании ответственности немцев за нацизм, в направлении исторической политики, 553 Jenssen J. Und Grass wunder sich // Die Zeit. 2006. 16. August. 554 Broder H.M. Happy Hour im Fegefeuer // Die Weltwoche. 2006. 16. August 555 Грасс снимает шелуху… когда ему это нужно // Deutsche Welle. 2006. 16. августа. URL: http://www.dw world.de/dw/article/0,,2138280,00.html (дата обращения: 15.01.2012). 189 имевшей целью повлиять на будущее»556 и которая сконцентрировала свое внимание преимущественно на холокосте. Поэтому, видимо, и свою вину, и вину нации Г. Грасс признает прежде всего в отношении холокоста. При этом сохраняется крайне негативное отношение к русскому солдату, вследствие чего писатель обходит стороной и болезненный вопрос польско немецких отношений в первые послевоенные годы, перекладывая вину за гибель данцигских немцев на Красную армию; только одной строкой в «Моем столетии» упоминаются преступления гитлеровцев, совершенные на Украине. В связи с эти утверждение писателя о том, что «повсюду хотят изменить сознание других, но не свое»557, с нашей точки зрения, относится во многом и к самому Г. Грассу. Отсюда и проистекает близкое к мемориальному и одновременно восходящее к образу «дома» ностальгическое пространство потерянного навсегда города Данцига, который в его воспоминаниях навсегда останется немецким.
Таким образом, в эготекстах Грасса прослеживается, говоря словами Р. Барта, «ловкая диссоциация сознания собственной идентичности»558 при невозможности с достаточной степенью достоверности определить, какое из них является истинным, а какое – маской. Это дает основания говорить, что писатель работает на стыке двух моделей: просветительской и той, что литературоведы называют «современное я».
Главным итогом работы стало то, что объединение в одно понятие «эготекст» произведений, относящихся к мемуарно-автобиографической прозе, а также подпадающих под понятие «автофикция», и применение для изучения эготекста не только принятых в литературоведении (культурно-исторический, сравнительно-сопоставительный и др.) методов, но и результатов исследований в социологии и психологии в области верификации эго, позволило:1) проследить изменения в отношении Г. Грасса к самому себе в произведениях, написанных в разные периоды его творческой деятельности; 2) вскрыть зависимость способов и приемов конструирования «я» писателя от поставленных им художественных задач и интеллектуальной атмосферы в его стране и Европе в целом; 3) выявить новый, не отмечавшийся ранее исследователями автофикции модус автобиографического письма («Мое столетие», «Фотокамера»).