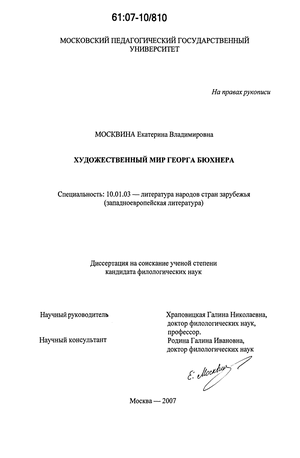Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Категория «художественный мир» и ее аспекты
1.1. Постановка проблемы: теоретическое осмысление термина «художественный мир» 15
1. 2. Культурно-исторический контекст художественного мира Георга Бюхнера 27
1. 3. Биографический контекст художественного мира Георга Бюхнера 46
Глава II. Основные элементы художественного мира Георга Бюхнера
2.1. Система экзистенциальных мотивов 68
2.1.1.Мотивы одиночества, богооставленности и отчуждения 72
2.1.2 .Мотив пустоты 92
2.1.3 .Мотив самоубийства 110
2.1.4.Мотиввины 121
2.2 Пространство и время художественного мира Георга Бюхнера 138
2.3 Метафора «мир-театр» в художественном мире Георга Бюхнера 164
Заключение 189
Библиография
- Постановка проблемы: теоретическое осмысление термина «художественный мир»
- Культурно-исторический контекст художественного мира Георга Бюхнера
- Система экзистенциальных мотивов
Введение к работе
Данная работа посвящена исследованию художественного мира Георга Бюхнера, описанию его основных элементов1.
В отечественном литературоведении творчество Георга Бюхнера мало исследовано. Ему посвящены статьи А.С. Дмитриева, А.К. Дживелегова, А.В. Карельского2 к трем изданиям писателя на русском языке. Авторы указанных работ уделяют особое внимание общественно-политической жизни Бюхнера, его листовке «Гессенский сельский вестник» и драме «Смерть Дантона» на актуальную для советской критики тему революции. Из трех указанных предисловий работа А.В. Карельского наиболее обстоятельна. В ней ученый акцентирует внимание на связи произведений Георга Бюхнера с романтической традицией, анализирует социально-исторический аспект драмы «Смерть Дантона», останавливается на истории создания комедии «Леоне и Лена» и ее пародийной доминанте. Наконец, рассматривает «Ленца» как произведение, в котором Бюхнер художественно низверг основные романтические ценности и идеалы, доказав их несостоятельность на примере судьбы Ленца. Также существуют две статьи об эстетических взглядах Бюхнера А.Л. Дымшица и Ф.В. Цанн-Кай-Си3. Оба автора рассматривают эстетические взгляды Бюхнера как доказательство его принципиально нового для литературы 1830-х годов литературного метода — реализма. Основными доказательствами являются, во-первых, прогрессивная политическая деятельность автора, которая связывается с его литературным творчеством, во-вторых, такими доказательствами служат высказывания самого Бюхнера в письмах, а также так называемые Kunstgesprache (разговоры об искусстве), которые ведут герои бюхнеровских произведений. Авторы статей приписывают высказывания литературных персонажей Бюхнеру и выдают их за его
1 Терминологии посвящен первый параграф первой главы диссертации.
2 Дживелегов А.К. Георг Бюхнер // Бюхнер Г. Избранное. М., 1935. Дмитриев А.С. Георг Бюхнер // Бюхнер
Г. Смерть Дантона. М., 1954. Карельский А.В. Георг Бюхнера // Бюхнер Г. Пьесы. Проза. Письма. М., 1972.
3 Дымшиц А.Л. Эстетические взгляды Бюхнера // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка 1960.
Т.19.Вып. 6. Цанн-Кай-Си Ф.В. Эстетические взгляды Бюхнера // Костромской гос. пед. ин-т им. Н.А. Не
красова. Ученые записки. Вып.З. Кострома, 1957.
эстетическую программу. Кроме указанных работ имя Георга Бюхнера фигурирует в статьях Ф.П. Шиллера, Н.П. Верховского, СВ. Тураева, в энциклопедических изданиях, посвященных истории всемирной или немецкоязычной литературы1, в книге П. Реймана «Основные течения в немецкой литературе 1750-1848» , а также в учебниках и учебных пособиях по зарубежной литературе Г.Н. Храповицкой, А.Г. Березиной, Е.М. Апенко и др3.
В западном литературоведении интерес к творчеству Бюхнера пробудился в 50-е годы прошлого века и отчасти был связан со 100-летием с момента первого издания полного собрания сочинений Георга Бюхнера его братом Людвигом в 1850-м году. Работы немецких ученых первой половины XX века по истории немецкой литературы и драматургии отводили фигуре Бюхнера незначительное место в литературном процессе. Г. Витковский в книге «Немецкая драма XIX века, представленная в развитии» посвящает Бюхнеру один абзац. В нем он определяет Бюхнера как современника Граббе и утверждает, что писатель «как естественник, проповедует в драме «Смерть Дантона» <...> безусловное влияние естественного закона на необходимость всего происходящего и хочет передать в произведении искусства многогранную действительность без каких-либо изменений»4. Также исследователь отмечает в произведениях Бюхнера те черты, которые проявятся у натуралистов на рубеже веков: «Его [Бюхнера], как лучших поздних натуралистов, привлекает только ночная сторона бытия, которую он с помощью свежего наблюдения при всем своем своеобразии изобразил также отвратительно»5.
Книга Вильгельма Коша «Немецкий театр и драма XIX и XX веков»6 отражает стремление автора восстановить основные этапы развития драматургии указанного периода. В ней выстраивается целостная картина теат-
1 История немецкой литературы. В 5-ти тт. / Под ред. Н.И. Балашова и др. Т.З. М., 1966. История всемирной
литературы: В 9тт./ Под ред. И.М. Фрадкина. Т.6. М, 1989. Шиллер Ф.П. Революционные драмы Георга
Бюхнера // История западноевропейской литературы нового времени: В 3-х т. Т. 1. М., 1937.
2 Рейман П. Основные течения в немецкой литературе 1750-1848. М., 1959.
3 Храповицкая Г.Н., Солодуб Ю.П. История зарубежной литературы: Западноевропейский реализм (1830-
1860-е гг.) М., 2005. Березина А.Г. История западноевропейской литературы. XIX век. Германия, Австрия,
Швейцария. М., 2005. Апенко Е.М. история зарубежной литературы XIX века. М, 2001.
4 Witkowski G. Das deutsche Drama des 19. Jahrhunderts in seiner Enrwicklung dargestellt. Lpz., Brl., 1915. S. 28.
5Ebd.,S.28.
6 Kosch W. Das deutsche Theater und Drama des 19. und 20. Jahrhundert. Wiirzburg, 1939
ральной жизни в Германии. Однако в ней нет подробного, досконального анализа творчества даже самых крупных писателей. Наряду с вопросами истории литературы автор рассматривает и теоретический аспект драмы разных периодов. Помимо упоминания с минимальным анализом основных произведений авторов, В. Кош акцентирует внимание на тех теоретических высказываниях о драматургии, которые встречаются у некоторых писателей. Бюхне-ру в книге отводится еще меньше места, чем всем остальным драматургам 1830-х годов. Призма, сквозь которую автор книги смотрит на эпоху и драматургию, — реалистическое направление и его истоки. Бюхнер стоит в одном ряду с швейцарским писателем Робертом Шрипенкерлем и представлен, как и в книге Г. Витковского, предшественником натурализма.
В книге Юлиума Баба1 делается акцент на несколько иной стороне творчества писателя. Для исследователя Бюхнер — прежде всего автор драмы «Войцек», то есть непосредственный предтеча экспрессионизма в немецкоязычной литературе.
Другой ряд работ немецких исследователей объединяет общность биографического и культурно-исторического подхода к творчеству писателя. Это работы X. Майера, Й.-К. Хаусшильда, Э. Йохана, М. Бэзе, Р. Лоха, Г.-П. Кнаппа, Р. Поппе2. В этих работах дается в хронологической последовательности изложение основных событий в жизни писателя на фоне широкого общественно-политического контекста. Разговор о произведениях писателя, как правило, представляет собой аналитический пересказ, в котором акцент делается на идеологически важных аспектах. Как правило, авторы ставят перед собой задачу описать причины выбора темы, процесс подготовительной работы с источниками и т.д., то есть акцентируют внимание именно на фактографической стороне творческого процесса. Иногда дается комментарий, в котором рассказывается о прототипах бюхнеровских героев, как
1 Bab J. Der Mensch auf der Biihne. Berlin, 1910.
2 Mayer H. Georg Biichner und seine Zeit. Frankfurt, 1972. Poschmann H. Georg Biichner. Dichtung de Revolution
und Revolution der Dichtung. Brl., Weimar, 1983. Hauschild J. Ch. Georg Biichner. Hamberg, 1992. Johann E. Ge
org Biichner in Selbstzeugnissen und Dokumenten. Hamburg, 1958. Beese M. Georg Biichner. Leipzig, 1983. Loch
R. Georg Biichner. Das Leben eines Frtlhvollendeten. Berlin, 1988. Knapp, Gerhard P. Georg Biichner. Stuttgert,
1984. Poppe, Reiner. Georg Biichner. Hollfeld, 2001.
это делает X. Майер в главе своей книги «Бюхнер и Ленц»: описывает фигуру Ленца через призму его отношений с И.В. Гёте и показывает, что могло привлечь Бюхнера к фигуре Ленца1.
В книге X. Пошмана биографический аспект занимает меньше места, чем у X. Майера, Й.-К. Хаусшильда, Э. Йохана и М. Бэзе, однако здесь доминирует интерпретация, связанная с узкой идеологической установкой, которая заставляет автора смотреть на драму «Смерть Дантона» с позиций игровой модели подражания исторической практике и освещения интересующих вопросов2. Автора интересует прежде всего социально-политический пласт пьесы, ему важен изображенный в пьесе исторический период французской революции и отраженные в ней противоречия. Он вписывает личность и творчество Бюхнера в революционную парадигму и ставит его на одну ступень с Г. Гейне и К. Тучковым, как представителями революционной литературы. Говоря о Ленце, автор справедливо отмечает, что специфика повествования данного произведения в том, что автор играет перспективой: то характеризует внешнее пространство, то внутренний мир героя3. Также автор, хотя и не анализирует текст подробно, замечает, что основными чувствами для Бюхнера были страдание и сострадание, которые он и изображал. И причины страдания Бюхнер видел не в метафизике, а в реальной действительности, как в «Ленце», так и в «Войцеке»4. Автор, опираясь на некоторые суждения других исследователей (X. Майера, К. Виётора, Й. Шредера) о месте комедии «Леоне и Лена» в творчестве Бюхнера, делает вывод, что ее нужно рассматривать как хитрую маскировку Бюхнера, который излагает в ней социальную проблематику своего «Гессенского сельского вестника», но только на языке комедии5. Говоря о «Войцеке», X. Пошман затрагивает прежде всего текстологические проблемы и проблемы структурирования тех отрывков, которые до нас дошли. Он уделяет особое внимание проблеме морали в пьесе и с этой
1 Mayer Н. Georg Biichner und seine Zeit. Frankfurt, 1972. S. 257-263.
2 Poschmann H. Georg Biichner. Dichtung de Revolution und Revolution der Dichtung. BrI., 1983. S. 91.
3Ebd.,S.168.
4Ebd.,S. 176. 5 Ebd.,S. 183-185.
позиции рассматривает образ Марии и Войцека, а также социальной основе драмы, которая детерминирует характер главного персонажа.
В книге Герхарда Баумана «Георг Бюхнер. Драматическое выражение мира»1 чувствуется герменевтическая установка исследователя, что объясняет построение работы как комментирование сцен произведений Бюхнера. Соответственно книга распадается на четыре смысловых блока, каждый из которых посвящен одному из произведений Бюхнера («Смерть Дантона», «Леоне и Лена», «Ленц», «Войцек»). Наиболее любопытным является заключение книги, где Бауман, делая выводы, дает перспективный обзор общности этих произведений, хотя нельзя сказать, что он учитывает все уровни текста и их элементы.
Также существует в немецком литературоведении целый ряд работ, посвященных одному или нескольким аспектам творчества писателя. Это работы Л. Бютнера, М.К. Абутилле, X. Фишера, Й. Сисса, А. Шмидта и др. В кни-ге Л. Бютнера «Образ человека у Бюхнера» акцент делается собственно на образах, встречающихся в творчестве Бюхнера. Однако подход к разбору образов сводится к содержательному пересказу, прояснению сути указанных образов, которые в данном случае не соотносятся ни с биографией, как это было в работах X. Майера, Й.-К. Хаусшильда и пр., ни с политической идеологией, как у X. Пошмана.
Неожиданный поворот находит творчество Бюхнера в книге А. Шмидта3. В работе затрагиваются вопросы подзаголовка драмы Бюхнера «Смерть Дантона» Драматические картины террора во Франции, от которого по просьбе Гуцкова вынужден был отказаться писатель. Исследователь выводит три его основные функции: акцент на художественности формы, претензия на достоверность и широту охвата действительности, указание на разрыв с традицией драматургии характеров. Другие аспекты работы А. Шмидта нам представляются несколько натянутыми и тяготеют скорее к
1 Baumann G. Georg BUchner. Die dramatische Ausdriickwelt. GOttingen, 1961.
2 BUttner L. Biichners Bild von Mensch. Nurnberg, 1967.
3 Schmidt A. Tropen den Kunst. Zur Bildlichkeit der Poetik bei Georg Biichner. Wien, 1991.
культурологическому, а не литературоведческому анализу. Так, например, исследователь предлагает теорию Лессинга, высказанную в «Лаокооне», применить к творчеству Бюхнера, при этом каких-либо аргументов в целесообразности подобного соотношения автор не приводит. Кроме того, анализ произведений Бюхнера с позиций двух метафор «голова Медузы» и «статуя Пигмалиона», на наш взгляд, приводит к явному искажению в интерпретации текстов писателя. Также в работе уделяется внимание «технике монтажа», как одному из основных приемов создания произведений Бюхнера, и метафоре автоматизма, которая в контексте романтической традиции интерпретируется как метафора бездушности.
М.К. Абутилле рассматривает творчество Бюхнера в аспекте психолого-онтологическом, как он сам его обозначает, и выделяет две категории, определяющие отношения персонажей в произведениях писателя — страх и цинизм1. М.К. Абутилле включает творчество Бюхнера в парадигму экзистенциальной философии: непосредственно разговору о произведениях предшествует описание философских теорий Кьеркегора, Фрейда, Хайдегге-ра, Тиллиха. Однако автор оговаривает, что для Бюхнера вопросы личностного существования не являются собственно данью какой-либо теории: «Выявленная зависимость [человека, персонажа] от страха, отчаянья и цинизма узнается в бюхнеровском поэтическом творчестве; тем не менее, она только указывает на основную схему взаимоотношений. Она, при всех расхождениях, обозначается как объединяющее начало при интерпретации единичных произведений и образов. Бюхнер же оформляет эту тему не на основе какой-нибудь филологической или психологической теории, но на основе глубокого поэтического познания, которое не названо, но только в своем способе выражения может быть изображено и истолковано»2. Соответственно выбранному аспекту, М.К. Абутилле рассматривает убеждения самого Бюхнера (в разделе, посвященном его биографии) и его героев только с двух указанных
1 Abutille М.С. Angst und Zynismus bei Georg Biichner. Berlin, 1969. 2Ebd.,S.21.
позиций. Однако автор все же рассматривает каждое произведение отдельно, не проводя параллелей, несмотря на то что узость избранного аспекта анализа могла бы этому способствовать.
Диссертация Й. Сисса посвящена исследованию приема скрытого или явного цитирования и функционированию заимствованных цитат в произведениях Бюхнера «Смерть Дантона» и «Леоне и Лена». Как нам представляется, первая часть диссертации удачнее второй. В ней автор рассматривает некоторые примеры игры слов в первой пьесе Бюхнера, направленной на актуализацию сразу двух смыслов, один из которых обращен в политическую сферу, другой — в сферу сексуального. Во второй части, посвященной функционированию цитат в комедии Бюхнера, Й. Сисе непропорционально много внимания уделяет анализу цитат в оригинальных текстах, позже использованных писателем. Создается не вполне корректный контекст для истолкования заимствований, тем более это заметно, когда речь идет о цитатах из «Гамлета»: исследователь интерпретирует цитату сначала в контексте произведения Шекспира, а затем, не учитывая ее функциональной нагрузки в комедийном жанре, пытается ее интерпретировать в «Леонсе и Лене», оставаясь на позициях «серьезного», содержательного аспекта. Это заставляет исследователя приходить к выводам о первостепенности социальных отношений персонажей в комедии, что несколько противоречит, во-первых, комедийной традиции, которой следует Бюхнер, во-вторых, форме воплощения подобных отношений.
Другой угол зрения находим в диссертации Хайнца Фишера «Апатия и пейзаж в драмах Георга Бюхнера»1. Автор очень широко определяет слово «пейзаж» (die Landschaft): от местности до «пейзажа души», то есть как внешнюю и внутреннюю картину мира. X. Фишер описывает в своей работе картину мира отдельного персонажа, указывая на совпадения и различия этих «картин». Также в диссертации разбирается внешний пейзаж: сюда вошли такие аспекты как театральные эффекты пейзажа, одним из которых в
1 Fischer Н. Acedia und Landschaft in den Dramen Georg Biichner. Munchen, 1958.
частности он называет реплику Войцека, которая является переложением и реминисценцией библейского эпизода пожара Содома и Гоморры; география ландшафта (имена, упоминания о воде, лесе, животных); образы неба, времена года, цвета, звуки, температура и т.д. Вывод, к которому приходит исследователь, сводится к тому, что пейзаж (die Landschaft) в «Смерти Дантона» выражает внутренний мир персонажей, в «Леонсе и Лене» — ближе к действительности, в «Войцеке» — графический и резко очерченный, «божествен-но-апокалиптичный и все же в высшей степени связанный с явлениями действительности»1.
Немалое количество монографий и статей посвящено отдельным произведениям Бюхнера и их аспектам.
Среди наиболее интересных и обстоятельных работ нужно называть работу А. Бермана и И. Вольлебена . В исследовании проводятся детальные портреты исторических деятелей, которые становятся персонажами пьесы Бюхнера, историческая ситуация, а также рассматривается связь драмы с основными источниками, которыми пользуется писатель, и соответственно затрагивается вопрос о функционировании данного материала. Авторы делают вывод о том, что даже цитированный материал становится знаком «двойного речевого действия», направленного на две сферы — политическую и частную: «Ни в одной сцене драмы нет ничего случайного»3. Прежде чем приступить к анализу сцен, авторы книги затрагивают общие вопросы жанра, подзаголовка, афиши и обозначений в ней действующих лиц, связи сцен драмы. Кроме того, дается подробный разбор социального конфликта и противопоставления в драме разных социальных групп, даже непосредственно не участвующих в конфликте; уделяется внимание форме драмы и разведения классической (закрытой) и открытой драмы, которая становится определяющей для литературы XX века. Наконец, описываются три мотива драмы: смерть, секс, театр.
1 Fischer Н. Acedia und Landschaft in den Dramen Georg Buchner. MOnchen, 1958. S. 129-130.
2 Behrmann A., Wohlleben J. Btichner: Dantons Tod. Eine Dramenanalyse. Stuttgart, 1980.
3Ebd.,S.49.
М. Фогес рассматривает драму Бюхнера «Смерть Дантона» с социально-исторической точки зрения, под влиянием марксистской идеологии. Он в основном уделяет внимание проблемам, решаемым самой Французской революцией, например: классовое противостояние бедных и богатых, политическая некомпетентность Робеспьера, который вместо решения проблем пытается их нейтрализовать. Автор также считает, что обращение к исторической тематике обусловлено актуальностью революционных взглядов эпохи, в том числе политических столкновений в 1830-е годы в Германии.
М. Фогес не подвергает сомнению метод Бюхнера, который определяет как «реализм», хотя не разъясняет свое понимание этого термина. Основой, на которой строит М. Фогес свою концепцию реализма, — история, противоречия которой составили сюжетную и структурную канву пьесы. Исследователь соотносит «реалистическое искусство» Бюхнера с «театральной метафорой», воплощающей собой противопоставление «чужой воли» (истории) и индивидуальной воли субъекта. М. Фогес отмечает в драме большое количество реминисценций античности, видя в основе поведения вождей революции собирательный образ римского республиканца. Он указывает на значимость фигуры суфлера Симона, который предваряет появление Робеспьера и своим поведением предвосхищает его театральные жесты и патетику речи, нейтрализуя их эффект. Театральная метафора через образ Дантона раскрывает и еще один аспект драмы — снятие границ игры и реальности.
М. Фогес говорит об относительности значения личности в историческом процессе, о ее изменчивости, и фигура Дантона предстает как отражение кризиса самого Бюхнера. Автор рассматривает историю в «Смерти Дантона» на трех уровнях: 1) исторический Дантон отражает личный кризис Бюхнера; 2) критика идеалистической теории развития истории и идеалистического искусства; 3) на уровне безысходности политических действий, трансцендентно направленного анализа истории — попытки понять условия человеческих поступков в историческом пространстве. М. Фогес пишет так-
1 Voges М. Dantons Tod II Interpretationen Georg Biichner. Stuttgart, 1990.
же о соотношении политической и частных сфер, об очевидной антитезе этих двух областей и в то же время о взаимовыраженности их друг через друга.
В 2001 году в Стокгольме Л. Верге защитила диссертацию «У меня нет ни крика боли, ни ликования радости...» О метафорике и толковании драмы «Смерть Дантона»1 Бюхнера». В ней исследовательница классифицирует и рассматривает различного рода метафоры, используемые Бюхнером в драме. Так, она выделяет два основных блока: это метафоры культуры (ее артефактов) и метафоры природы (ее элементов и тел). Л. Верге проводит подробный лингвистический анализ метафор, поясняет их лексический смысл в том или ином контексте, сближает разные метафоры на основе их лексического значения, однако работа ограничивается только уровнем языка. Таким образом, важнейший элемент художественного мира Бюхнера, выраженный в метафоре «мир-театр», которая тоже рассматривается Л. Верге, описана только в одном, довольно узком аспекте.
Актуальность работы определяется отсутствием до настоящего времени комплексного изучения всего корпуса текстов Георга Бюхнера, что препятствует созданию довольно четкого представления о месте писателя в развитии немецкой литературы XIX века. Системный подход к изучению творчества писателя, куда входит понятие «художественный мир автора» дает возможность как для обобщения изученных аспектов, так и для анализа глубинных процессов творчества писателя, на которые ранее не было обращено внимания.
Научная новизна. В данной работе каждый текст анализируется во взаимосвязи с другими текстами писателя, что ранее отсутствовало в отечественном литературоведении. Подобный взгляд на творчество автора позволяет соединить две непримиримые ранее в критике ипостаси писателя — активного общественного деятеля и художника, и посмотреть, как опыт Бюх-нера-человека преломился в его художественном творчестве.
1 Werge L. „Ich habe keine Schrei flir den Schmerz, kein Jauchzen fur die Freude". Zur Metaphorik und Deutung des Dramas „Dantons Tod" von Georg BUchner. Stockholm, 2000.
Объектом исследования становятся все тексты писателя: пьесы, черновики, письма, статьи, фрагменты, стихотворения, смыслосодержащие элементы поэтики данных текстов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что анализ исследуемого материала может быть использован в преподавании курса «История зарубежной литературы XIX века», а также включен в программы спецкурсов и спецсеминаров по немецкой литературе для студентов филологических факультетов высших учебных заведений.
Цель и задачи исследования: 1) определить понятие «художественный мир»; 2) обозначив место писателя, уточнить литературную ситуацию 1830-х годов; 3) обратившись к биографии Бюхнера, выявить возможные источники отдельных элементов художественного мира писателя; 4) выделить основные элементы художественного мира писателя и 5) описать их.
На защиту выносятся следующие положения. 1. Понятие «художественный мир» как единая система, элементы которой находятся в неразрывном единстве, когда из любого элемента этой системы можно развернуть систему в целом.
2. Мотивное ядро художественного мира Бюхнера обладает яркой спецификой, связанно с идеями существования и бытия человека. Мотивы одиночества, богооставленности, отчуждения, пустоты, самоубийства и вины составляют систему и определяют картину мира писателя. Данные мотивы присутствуют на разных уровнях текста: как на самом нижнем (языковом), так и на более высоком (идейном и пространственно-временном).
Время и пространство у писателя отражают мироощущение героев, тем самым создается несколько индивидуальных пространственно-временных плоскостей, которые приходят в столкновение, что выявляет мысль писателя о ценности каждой личности, фокусирует внимание на проблеме экзистенции.
Метафора «мир-театр» в художественном мире Бюхнера актуализирует оппозицию свобода/несвобода, что приводит к созданию антитезы двух
метафор «мир-театр» и «мир-кукольный театр». Если на уровне ощущения персонажей возможны обе метафоры, то поэтика произведений писателя подчинена созданию модели мира как кукольного театра, которая отражает представление писателя о железной детерминированности человеческой жизни.
5. Творчество Г. Бюхнера в литературном процессе 1830-х годов представляет собой самобытное и уникальное явление, связывающее литературу XIX и XX веков.
Методологической основой исследования являются современные представления о художественной целостности литературного творчества (работы Г.В.Ф. Гегеля, В. фон Гумбольдта, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева, Ф.П. Федорова, а также зарубежных ученых и философов — Й. Хейзинги, К.-Г. Юнга, Г.-Г. Гадамера).
Основные цели и поставленные в работе задачи определили выбор комплексного метода исследования, включающего элементы историко-теоретического, типологического, культурно-исторического, биографического, а также лингвистического анализа текста.
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в публикациях, апробированы в докладах на Пуришевских чтениях Московского педагогического государственного университета, в выступлениях на кафедре всемирной литературы Московского педагогического государственного университета, при чтении лекций студентам Московского гуманитарного педагогического института.
Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии. Библиография насчитывает 220 наименований. Общий объем работы 204 страницы.
Постановка проблемы: теоретическое осмысление термина «художественный мир»
Словосочетание «художественный мир» в отечественном литературоведении последних десятилетий все более актуализируется, но употребляется в различных значениях и контекстах. Во-первых, оно употребляется как метафора или перифраза словам «произведение», «художественный текст». В этом случае словосочетание «художественный мир» не несет никакой дополнительной семантической нагрузки и не является в строгом смысле термином. Однако совершенно иначе дело обстоит с этим же словосочетанием, когда имеется в виду комплексный подход к анализу текстов писателя через категорию «художественный мир».
Понятие «мир произведения» («художественный мир») появилось еще у философов XIX века. В своих работах В. фон Гумбольдт и Г.В.Ф. Гегель1 выделяют черту, которая у Гумбольдта, однако, получает более емкое обозначение — «целостность». В немецком языке слово Totalitat — это «цельность, совокупность, тотальность». В этом определении соединены разные аспекты тех черт, которые в совокупности и составят представление о художественном мире произведения, а именно: замкнутость, полноту внутри этой замкнутой системы, равнозначность и равноценность элементов (точек) системы (как пишет В.Г. Зусман2, «художественный мир» способен разворачиваться из любой точки»),
Г.Ф.В. Гегель в «Эстетике», отмечая одну из особенностей как поэтического, так и прозаического текста, пишет: «... и всеобщее, составляющее содержание человеческих чувств и поступков, должно предстать как нечто самостоятельное, совершенно законченное и как замкнутый мир сам по се бе» . Он также указывает еще на одну важную особенность художественного произведения: «... завершенность и замкнутость в поэзии мы должны понимать одновременно и как развитие, членение и, следовательно, как такое единство, которое, по существу исходит из самого себя, чтобы прийти к действительному обособлению своих различных сторон и частей»2.
В этом значении термин «художественный мир» имеет синонимы — «поэтический мир», «внутренний мир художественного произведения». Интерес к проблеме художественного мира в отечественном литературоведении был на новом витке вызван статьей Д.С. Лихачева «Внутренний мир художе-ственного произведения» . В этой статье Д.С. Лихачев, критикуя некоторые тенденции литературоведения, выделяет наиболее продуктивное направление в анализе художественного текста. Первое, на что указывает автор — это на художественную целостность внутреннего мира произведения, который предстает как система определенных элементов, спаянных по определенным законам. «Внутренний мир художественного произведения имеет свои собственные взаимосвязанные закономерности, собственные измерения и собственный смысл, как система»4. Для литературоведа, по мнению Д.С. Лихачева, важно постоянно иметь в виду то, что произведение содержит в себе одновременно отражение и искажение действительности, что и является необходимым условием для выявления художественных особенностей текста. Далее он выделяет основные элементы любого текста и предлагает посмотреть на них именно как на отражение своеобразия каждого художественного произведения. Прежде всего, нужно анализировать особенности пространства и характер течения времени (Ю.М. Лотман: «Бытие всегда есть бытие в пространстве и времени»5); в этом Д.С. Лихачев следует за теорией хронотопа М.М. Бахтина6, разработанной в 1930-е годы. Далее автор статьи выделяет психологический аспект произведения, в котором проявляются не общие законы психологии, но, напротив, законы собственного психологического мира героев (автора). Также он отмечает необходимость обратить внимание на социальное, историческое и нравственное устройство художественного мира, которое имеет «конструирующее» значение.
Наиболее интересно в данном случае в статье Лихачева то, что в ней автор, теоретически обосновывая понятие «внутренний мир художественного произведения» приводит примеры, которые отражают несколько иное направление развития термина. В первом примере Лихачев рассматривает как «художественный мир» не произведение, а жанр — жанр народной сказки (с опорой на труды В.Л. Проппа1), во втором — все творчество Ф.М. Достоевского.
Работа М.М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности» полностью построена на определении понятия «эстетическое», которое подразумевает, по мнению ученого, такое положение автора или зрителя (читателя), при котором он, заняв позицию вненаходимости по отношению к герою (произведению), может его целостно завершить. И, следовательно, когда речь идет об архитектонике художественного текста, Бахтин говорит о том, что она «как воззрительно-интуитивно необходимое, не случайное расположение и связь конкретных, единственных частей и моментов в завершенное целое — возможна только вокруг данного человека — героя».
Культурно-исторический контекст художественного мира Георга Бюхнера
Главным организующим началом художественного мира писателя, как отмечалось в предыдущем параграфе, является сознание самого автора, которое преломляет реалии действительности и создает вторую реальность. Художественное произведение создается именно на границе некоего объективного мира и субъективного его ощущения. Таким образом, перед тем как рассмотреть эту вторую реальность — художественный мир, — необходимо, во-первых, обратить внимание на сам предмет изображения, то есть на мир первичный, а во-вторых, на личность творящего, на его биографию, как внешнюю, так и внутреннюю, которая приоткроет завесу субъективного мировосприятия автора.
Карл Георг Бюхнер родился 17 октября 1813 года, в один из дней, когда под Лейпцигом в «битве народов» решалась дальнейшая судьба Европы. Как писал Вильгельм Шульц, день рождения Бюхнера был «днем, когда была убита свобода»1. Поражение Наполеона действительно определило возвращение монархии и с ней эпоху Реставрации.
Характер 1820-1830-х годов определяется как общественно-политической жизнью Европы в целом и Германии в частности, так и культурной жизнью эпохи. На облик обоих десятилетий в Германии в сфере политической и социальной жизни повлияло два центральных события. Первое из них — это покушение аптекарского ученика Ленинга на министра Иберия 1 июля 1819 года, причем было очевидно, что подобные акции становятся симптоматичными, ведь годом раньше Карл Занд убил А. Коцебу. Через месяц (август 1819 г.) в Карловых Варах Меттерних вынес постановление о введении полицейского террора и особого контроля над университетами, которые были очагами растущего в стране либерализма. Второе событие, по духу тесно связанное с Июльской революцией во Франции, произошло 27 мая 1832 года в Гамбахе. В этот день был организован праздник, который неожиданно для устроителей вылился в стихийные выступления против системы реставрации с требованием объединения Германии и установления республики. Многие активные участники этого восстания были арестованы, а реакция властей последовала ровно через месяц, когда на Союзном сейме была отменена свобода печати, собраний и союзов.
Радикальные выступления этого времени в Германии в большинстве случаев исходили из студенческих кругов. С одной стороны, лозунг, который поддерживался ими — объединение Германии, говорит о прогрессивности их взглядов, с другой стороны, все студенческие выступления имели характер импульсивных вспышек, которые потенциально не могли привести к изменениям и лишь провоцировали власти на ужесточение режима. Собственно Георг Бюхнер, будучи студентом, тоже оказался в кругу тех, кто принимал активное участие в политической жизни страны. Возникает вопрос, чем объяснить столь резкий всплеск политического интереса, который возникает в это время в Германии. Чтобы понять этот феномен, стоит обратиться к культурной и духовной жизни эпохи.
В 1820-1830 годы в духовной жизни происходит стремительная девальвация ценностей, когда романтические идеалы утрачивают свое значение и не могут больше удовлетворять духовный потенциал интеллигенции Германии. Однако сложность данного периода не столько в самом факте низвержения прежних идеалов и ценностей, а в том, что на смену им еще не пришли другие, которые могли бы заполнить нишу образовавшейся пустоты. Если вспомнить о возникновении романтизма, то мы увидим, что он уходит своими истоками в программу и литературу штюрмеров, деятели романтизма опирались на богатый опыт предшествующей литературы, в которой они находили элементы романтической поэтики. Кроме того, данное направление возникает на волне нового оптимизма и веры в безграничные возможности творческой личности. В двадцатых годах — время ученичества Бюхнера — литературная ситуация складывается противоположным образом. Первое свидетельство кризиса романтизма — возросшее число произведений эпигонской литературы таких авторов, как А. Мюльнер, Э.К. Хоувальд, Ш. Бирх-Пфайфер, Г. Клаурен, А. Кун, Ф. Круг фон Нидд, Т. Хелль, Ф. Кинд. В своем драматическом творчестве Карл Иммерман, писатель более значительный, тоже оказывается эпигоном. Его позиция отражена в романе «Эпигоны», создаваемый им образ времени и поколения отражается в местоиме ний wir (мы): «Несчастий людских было довольно во все времена; но проклятье нынешнего поколения заключается в том, что оно несчастно без какого-либо особого страдания ... Если выразить всю плачевность положения одним словом, то мы — эпигоны, мы влачим бремя, доставшееся в удел всем наследникам и последышам. Великие открытия в области духа, сделанные нашими отцами в их скромных хижинах и закутках, обогатили нас бесчисленными сокровищами, ныне выставленными на продажу на всех рынках».
Несмотря на то, что Иммерман в своей программной статье «О бешеном Аяксе Софокла» говорит о необходимости реформы немецкого театра и драматургии, все его собственное драматическое творчество 1820-х годов носит явно подражательный характер. Иммерман пытается найти собственный стиль, пробуя писать в манере Л. Тика, К. Брентано, Ф. Шиллера, Й.В. Гете, отдавая дань «трагедии рока» и «мещанской драме». Попытки драматурга преодолеть шаблоны как романтической, так и эпигонской литературы художественно неубедительны и слабы. Об этом свидетельствует драма «Карденио и Целинда», где в почти романтическую коллизию врывается морально-этическая установка автора осудить преступный характер страсти и элементы мистики, или «Тирольская трагедия», в которой автор пытается создать контрастный романтическому индивидуалисту образ национального героя. Однако главный персонаж трагедии Андреас Хофер выходит по своему исключительным героем; он одинок, отличается высокими нравственными качествами, раздираем противоречием: решает, подчиниться ли приказу императора и оказаться предателем в глазах своих друзей или, напротив, оказаться предателем государя. Воплощение же данных противоречий выражено в довольно условных фигурах-антиподах, обнажающих мелодраматический характер произведения, и христианской символике.
Система экзистенциальных мотивов
В рассмотрении мотивики в произведениях Бюхнера мы опирались на определение лейтмотива Б.М. Гаспарова, который ученый не разделяет с понятием «мотива». «В роли мотива может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» — событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т.д.; единственное, что определяет мотив, — это его репродукция в тексте»1. Гаспаров рассматривает мотив в парадигме «текст-смысл», что определяет мотив как смысловой повтор в тексте. Отсюда особая роль отводится именно мотивным связям, которые организуют некое единое смысловое пространство. Данное определение также интересно в том смысле, что может быть применено на более широком материале, чем эпический род литературы. Данный подход позволяет контамини-ровать различный опыт анализа лирического и эпического произведения.
В произведениях Бюхнера можно выделить целое ядро мотивов, очень тесно связанных между собой, — это мотивы смерти, вины, отчаянья, одиночества, отчуждения, самоубийства, свободы, страха (тревоги), пустоты. В произведениях Бюхнера прослеживается повторяемость каждого их них, но главное, что они присутствуют в его творчестве именно в своей совокупности, а это позволяет нам говорить о системе данных мотивов, которая в свою очередь является одним из элементов художественного мира Бюхнера.
Наше определение этих мотивов как мотивов экзистенциальных основано именно на том, что они приобретают определенную специфику только в своей совокупности. Безусловно, что каждый их них в отдельности встречался в предшествующей литературе, сообразуясь с мироощущением эпохи или отдельного автора. Так, например, мотив смерти — один из ведущих в литературе средневековья и барокко. Выбор и вина — не столько мотивы, сколь ко структурные элементы драматического произведения, особенно жанра трагедии. Мотив опустошенности и одиночества присутствует в литературе романтизма во многих ее национальных вариантах. Но все эти мотивы не были закономерностью поэтической системы в своей совокупности. Именно у писателей XX века Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Ануя эти мотивы станут неделимой составляющей не только их философских сочинений, но и поэтики художественных текстов. Таким образом, прилагательное «экзистенциальный» не обозначает в данном случае принадлежности автора к философскому направлению, это было бы анахронизмом, но скорее указывает на специфику мироощущения автора, которая выявляет доминанту и организует данные мотивы в систему, определяющую художественный мир Бюхнера.
В данном случае нецелесообразно говорить и о философских предпосылках экзистенциализма. В наследии Бюхнера не сохранилось явных высказываний и критических работ, посвященных философии Г.В.Ф. Гегеля. Однако из косвенных источников, а именно художественных текстов и некоторых писем, становится понятно, что он не принадлежал к числу его последователей. Бюхнер категорически не принимал идею Гегеля о Мировом духе (Weltgeist). Гегель воспринимал мировой дух как трансцендентальный субъект, в подчинении которого находится мир, и который, следовательно, безразличен к индивидам, так как мыслит в мировом масштабе. На этом Гегель выстроил свою философию истории: история — «прогресс духа в сознании свободы», который развертывается через «дух» отдельных народов, сменяющих друг друга в историческом процессе по мере выполнения своей миссии. Идея объективной закономерности, прокладывающей себе дорогу независимо от желаний отдельных лиц, была категорически не принята Бюхнером. Писатель осознавал фатальность исторического процесса, но именно эта осознанность «принципом от противного» приближала его к отдельному человеку, к отдельной личности.
В «Смерти Дантона» Бюхнер вкладывает в уста жестокого и холодного Сен-Жюста следующую фразу: «Мировой дух (Der Weltgeist) пользуется в сфере духовной нашими руками так же, как в физической он использует вулканы и наводнения. Что с того, умирают ли они от эпидемии или от революции? Шаги человечества медленны, их можно считать только тысячелетиями; за каждым возвышаются гробы поколений. Достижения простых изобретений и принципов куплены миллионами жизней тех, кто умер на этом пути. Что может быть проще: в то время, когда ускорился ход истории, больше людей запыхалось (auch mehr Menschen aufier Atem kommen)»1. Известно, что исторический Сен-Жюст требовал смерти Дантона, так как считал его реальной угрозой революции, и не оправдывал ее философской необходимостью. Бюхнер в этом эпизоде допускает сознательный анахронизм и таким образом подчеркивает свою антигегельянскую позицию.
Среди сохранившихся бумаг Бюхнера до нас дошли его конспекты и размышления о философии Декарта и Спинозы. В связи с Гегелем наиболее любопытным оказывается размышление о требовании Спинозы принять идею необходимости, так как она исходит из природы, то есть суммы проявлений вездесущего божества. Бюхнер воспринимал ее как аналог гегелевского примирения с «железным законом» и тоже не принимал. Кроме этих моментов тексты Бюхнера более не дают возможности нам говорить о его критике Гегеля и тем более не позволяют говорить о принадлежности Бюхнера какому-то определенному философскому направлению.
Стоит также исключить и наличие типологической параллели между философией С. Кьеркегора и мироощущением Бюхнера. Данию и Германию связывали тесные культурные отношения эпохи романтизма, основанные на органичном обмене опытом: немецкие живописцы испытали огромное влияние Датской Академии искусств, тогда как литература Дании опиралась на философию Ф. Шеллинга и Й.Г. Фихте, опыт братьев Гримм в собирании фольклора. Несмотря на это, романтическое направление на датской почве благодаря разным факторам оставалось продуктивным вплоть до середины века, тогда как в Германии романтизм вырождается в эпигонство уже в конце 1820-х годов, а в следующее десятилетие этот процесс достигает своего апогея.
Биографы и исследователи творчества Кьеркегора, пытаясь определить первопричину его философии, приходят к выводу, что не критика Гегеля, а его индивидуальный склад личности, его судьба и отношения с окружающим миром лежат в основе кьеркегоровского экзистенциализма. Георг Брандес отмечал, что вплоть до 1870-х годов скандинавы видели в Кьеркегоре исключительно писателя-психолога, но никак не основоположника новой философии1. Таким образом, у Кьеркегора «экзистенциализм» в XIX веке осознавался скорее как мироощущение, чем философское учение. Сам Кьеркегор писал, что экзистенциализм нельзя уложить в систему, «система экзистенциального бытия» — абсурд, так как бытие несоизмеримо с системой и всегда незавершено, всегда открыто, тогда как система подразумевает завершенность. Более того, если иметь в виду то разделение на атеистический и христианский экзистенциализм, которое обозначится в XX веке, и Кьеркегора будут причислять к последнему, то в случае с Бюхнером предпосылкой возникновения системы данных мотивов было скорее сомнение в существовании Бога, ощущение его отсутствия, что, безусловно, ближе атеистическому экзистенциализму.