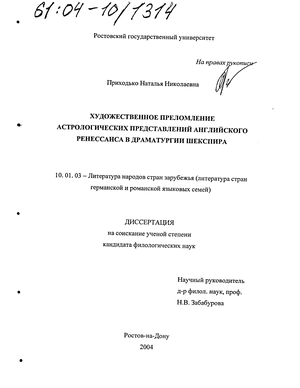Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Художественный универсум шекспировского театра в контексте астрологических представлений английского Ренессанса 25
Глава 2. Астральные мифологемы и образы в комедиях
2.1. Специфика преломления астрологических представлений английского Ренессанса в художественном мире шекспировских комедий 49
2.2. Роль солярных мифологем и образов в комедиях 53
2.3. Особенности функционирования лунарных мифологем и образов в комедиях 85
2.4. Художественное своеобразие юпитерианских мифологем и образов в комедиях 100
Глава 3. Трагическое в «Ромео и Джульетте» сквозь призму астрологических представлений английского Ренессанса.
3.1. Совпадение противоположностей как основа построения ранней трагедии 111
3.2. Астрально-ассоциативная характеристика героев трагедии 116
3.3. Сюжетные функции астральных образов в трагедии 124
Глава 4. Функции лунарных мифологем в художественном мире шекспировских трагедий («Гамлет», «Отелло»).
4.1. Лунарные мифологемы в контексте топоса Theatrum Mundi 149
4.2. Основной конфликт трагедий на уровне астральных мифологем и этапы его развития 160
Заключение 231
Библиография 237
- Художественный универсум шекспировского театра в контексте астрологических представлений английского Ренессанса
- Специфика преломления астрологических представлений английского Ренессанса в художественном мире шекспировских комедий
- Совпадение противоположностей как основа построения ранней трагедии
Введение к работе
Актуальность темы. В последнее десятилетие в отечественной гуманитарной науке укрепляется мысль о невозможности адекватного осмысления эпохи Возрождения без учета ее герметической, магико-астрологической составляющей. Появился ряд работ, где астрология получает научное осмысление как необходимый культурно-исторический феномен, без учета которого невозможно понимание многих явлений, в частности в культуре Возрождения, как итальянского, так и европейского [31, 195, 32, 50, 51, 67, 99, 101, 102].
Современное отечественное шекспироведение отмечено интересом к речевой природе шекспировского слова, к его культурному резонансу и связи с различными контекстами эпохи [8, 14, 197, 198 и др.]. Между тем пока не существует комплексного исследования, в котором бы учитывалась и получала освещение и толкование связь шекспировского слова с астрологическими представлениями его времени.
Фундаментальные шекспироведческие труды, большинство переводов и постановок пьес Шекспира в нашей стране были осуществлены в такой социокультурной ситуации, когда учет магико-астрологического культурного фактора был отчасти невозможен, отчасти неактуален. Да и сейчас, в современной ситуации, когда отечественное шекспироведение проявляет повышенный интерес к культурному контексту, а астрология, как в шекспировские времена, стала достоянием широкой публики, нельзя сказать, что роль современных Шекспиру астрологических представлений в художественной ткани его бессмертных творений получила достаточное освещение. Необходимость такого исследования имеет двустороннюю обусловленность - фактографическими данными о шекспировской эпохе, с одной стороны, и спецификой создаваемой им сценической реальности — с другой.
Ренессанс представляет собой крайне важный и интересный период в истории науки и культуры. Это убедительно показано в работах ученых разных профилей: филологов, историков, философов, культурологов, физиков. В книге Б.Г. Кузнецова «Идеи и образы Возрождения» утверждается уникальное единство идеи и образа и, в силу этого, особая роль художественного творчества в эту эпоху. По мнению исследователя, Ренессанс явился началом формирования современной картины мира, современных представлений о времени и пространстве. При этом живопись и поэзия «рассматриваются как компоненты единого необратимого процесса, который привел уже за пределами Возрождения к веку гениев науки — к веку Галилея, Кеплера, Декарта и Ньютона» [71, 167]. Искания ученых, художников и поэтов шли, таким образом, в едином направлении — в поисках осознания роли человека, открывшегося во всей своей неисчерпаемой индивидуальности, и его места во Вселенной, а также познания самой Вселенной, ее устройства, законов ее существования.
Но синтез идеи и образа был не единственным специфически ренессансным синтезом. Самым удивительным и, возможно, малопонятным для современного человека представляется сплав научных представлений с представлениями мистическими, который для человека эпохи Возрождения был абсолютно органичным и само собой разумеющимся. «В контексте идей XVI века сложно отделить одну научную дисциплину от другой. Нет четкой грани между комплексом научных дисциплин, с одной стороны, и умозрительными магико-астрологичекими рассуждениями, с другой. Магия и медицина, алхимия и естественные науки и даже астрология и астрономия взаимодействуют в тесном симбиозе» [102, 57].
Очень показательной в этом отношении является жизнь и деятельность, типичного представителя Ренессанса и типичного елизаветинца Джона Ди. Он был не только ученым, философом, придворным астрологом, наставником ремесленников и поэтов, но и универсальной личностью, своего рода
ренессансным магом. В библиотеке Джона Ди, по словам Ф.А. Иейтс, «обосновался весь Ренессанс» [192, 12]. Его предисловие к английскому переводу Эвклида, сделанному Г. Билисингслеем в 1570 году, явилось, по мнению исследовательницы, не менее важным для развития науки трудом, чем сочинения Бэкона. Ф.А. Иейтс доказывает, что Ди еще до Бэкона предъявил науке критерий утилитарности, который реализовал на практике: его предисловие к Эвклиду было написано для ремесленников. Ди стремился, чтобы знание математических законов приносило реальную пользу, и поэтому учил мореплавателей, оружейников, изготовителей инструментов и т.п.
Однако научная репутация Ди пострадала, и его достижения не были в должной степени оценены последующими веками, в значительной степени благодаря другой, не менее известной книге ученого. Речь идет о «Духовных дневниках», где Ди рассказывает о своих попытках вызвать ангелов при помощи кабалистической нумерологии. Но это разительное, на первый взгляд, несоответствие между научной и ненаучной деятельностью одного и того же человека становится легко объяснимым, если прочесть одну из книг, содержащихся в знаменитой библиотеке Джона Ди, - «Оккультную философию» Корнелия Агриппы. Эта работа была впервые опубликована в 1533 году. Она неоднократно переиздавалась в эпоху Возрождения и содержала в себе эклектично и сжато изложенный свод герметической традиции.
В первой главе своего труда Агриппа пишет: «Существует три вида миров, а именно, элементарный, небесный и интеллектуальный» [7,3]. Поэтому маг в каждом из этих миров действует в соответствии с его законами. Так, свойства элементарного мира он открывает «посредством медицины и натуральной философии, используя различные смеси естественных вещей», небесные свойства познает «через лучи и влияние небесного мира, следуя правилам и дисциплине астрологов и математиков» [7, 3]. Наконец «укрепляет и утверждает эти вещи некоторыми святыми религиозными церемониями и могуществом различных духов» [7, 3]. Поэтому, будучи истинно ренессансным
6 магом, Ди действовал вполне последовательно, и когда описывал математические законы, и когда ставил химические опыты, и когда составлял гороскопы, и когда вызывал духов.
Следует сказать, что сам статус оккультных наук, в том числе магии и астрологии, существенно меняется, по сравнению со средневековьем. Ф.А. Йейтс пишет: «Запрет средневековой церкви на магию загнал ее в темные дыры и углы, где маг тайно занимался отвратительным ремеслом ... А ренессансная магия, то есть магия реформированная и ученая, ... нередко была атрибутом уважаемого ренессансного философа» [51, 22]. Средневековая магия, которая носила, в основном, прикладной характер была преобразована в философскую, а маг «из средневекового мастерового ... превратился в спутника государей» [51,703].
Магико-астрологические знания как «первичного», итальянского, Возрождения, так и Возрождения в других странах, восходят, главным образом, к «Corpus Hermeticum» - компилятивному сочинению, которое было составлено в эпоху поздней античности и приписывалось Гермесу Трисмегисту. Свидетельством авторитетности и значимости герметических текстов является следующий исторический факт. Когда около 1460 года греческий монах, состоявший на службе у Козимо де Медичи среди других агентов, которые занимались сбором манускриптов, привез во Флоренцию из поездки по Македонии греческую рукопись, содержащую список герметического свода, Козимо приказал Фичино отложить рукопись Платона и заняться переводом вновь привезенной. Герметический свод текстов, в подлинности которого гуманисты не сомневались, оказал довольно значительное влияние на космологию итальянского неоплатонизма, постулирующего одушевленность и иерархичность универсума, присутствие в человеке божественного начала. Следует подчеркнуть, что картина мира, принятая в герметических текстах, всегда является астрологической: материя подчиняется власти звезд и семи
планет. Соответственно, человек не может достичь могущества, не познав законов, по которым звезды управляют миром.
Астрологические идеи в том или ином виде можно найти у таких философов, как Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Джованни Понтано, Пьетро Помпонацци, Томазо Кампанелла и др. [20, 35, 51, 101, 102, 133, 180]. Самым парадоксальным, на наш взгляд, представляется тот факт, что их поддерживали ученые, заложившие основы астрономии и укрепившие представление о гелиоцентрической системе мироздания. Так, известно, что Коперник был не только астрономом, но также занимался медициной, используя при этом теорию влияния звезд. Кеплер в свою очередь хорошо знал «Corpus Hermeticum». Составленные им гороскопы пользовались большой популярностью. Галилей также составлял гороскопы для двора Медичи.
Но не только Италия оказалась под чарами астрологии. Начиная с XIV века в Европе наблюдается наивысший подъем интереса к этой древней науке. Астрологи работали при дворах большинства европейских монархов и являлись при этом очень влиятельными фигурами. В ряде европейских университетов астрология преподавалась как научная дисциплина, более того, наблюдалась тенденция связывать с астрологией все остальные науки: ведь ее цель заключалась не только в том, чтобы получить знания о будущем, но и сделать человека более сильным посредством этих знаний.
Англия Эпохи Возрождения не осталась в стороне от общеевропейского интереса к астрологии. Е.М. Тильярд констатирует: «Несмотря на открытия Коперника и на широкое распространение его теорий в виде популярных справочников, средний образованный елизаветинец мыслил Вселенную как геоцентрическую» [184, 57]. Центром Вселенной являлась естественно, Земля. Затем следовали сферы подвижных планет, или «блуждающих звезд», далее — сфера неподвижных звезд, а за ней - сфера primum mobile, которая управляла движением всех сфер, находящихся ниже нее. Таким образом, вокруг Земли, каждая по своей орбите, диаметр которой возрастает от Луны до Сатурна,
двигалось семь планет. Эти планеты, по своей сути, мыслились как посредники между неподвижной вечностью и земной подвижностью. Изучением их влияния на земную жизнь, а также характера этого влияния и занималась астрология.
Отличительной чертой интереса к оккультизму, в том числе и к астрологии в Англии была вовлеченность в него всех слоев населения. К. Кларк в своей монографии «Шекспир и сверхъестественное» пишет: «В шекспировской Англии почти всеобщая вера в присутствие и власть невидимого затронула все стороны национальной жизни.... Все классы были под властью ее чар, начиная с придворных и заканчивая бродягами» [141, 19]. «Аристократы и плебеи одинаково верили во влияние планет. Многие придворные заказывали гороскопы. Все были одинаково восприимчивы к небесным явлениям» [141, 21]. Д.К. Аллен подчеркивает, что «ренессансная публика была так же близко знакома с астрологическими теориями и астрологическим жаргоном, как современная публика (современная Д.К. Аллену американская публика - Н.П.) — с методами и языком психоанализа» [133,25].
Такое социальное единодушие в увлечении астрологией, на наш взгляд, является одним из проявлений специфики английского Ренессанса: английский гуманизм никогда не был абсолютно замкнутым и исключительно аристократическим. Напротив, его представители стремились к контакту со средним классом, к широкому распространению различных знаний, но при этом, как это ни парадоксально, они все-таки сохраняли свою элитарность. Так Джон Ди, с одной стороны, являлся наставником кружка придворных поэтов, возглавляемого королевой Елизаветой, с другой - учил ремесленников. Однако эти ремесленники, которые осваивали Эвклида под его руководством, вряд ли смогли бы понять его же «Иероглифическую Монаду». Подобно этому, и широкое распространение астрологических знаний не лишало последних их
эзотерического ядра, доступного только посвященным, что, на наш взгляд, делало их еще более заманчивым материалом для художника слова.
Говоря о бытовании астрологических представлений, важно отметить, что вокруг астрологии всегда велись дискуссии. Споры об астрологии среди гуманистов ренессансной Англии, как и многие другие явления ренессансной культуры, восходили к итальянскому Возрождению. Представителями флорентийской академии активно дискутировался вопрос о влиянии звезд на судьбу и характер человека. Марсилио Фичино в своем трактате «De vita», не отрицая астрологии, высказывал, однако, мнение, о том, что звезды могут быть только знаками, но не причинами явлений. Он утверждал, что хоть мир и управляется Богом, живущим в нем людям позволено использовать свою свободную волю. Пико дела Мирандолла в трактате «Oratio de hominis dignitae» писал, что человек заключает в себе всю вселенную, а потому ничто во вселенной, в том числе и планеты, не может на него влиять. Взгляды этого гуманиста со временем приобрели еще большую радикальность под влиянием религии. Он написал трактат «Disputationes adversus atrologia», из которого черпали свои аргументы континентальные и английские оппоненты астрологии. Основу аргументации противников астрологии составляет идея о том, что планеты и звезды действуют на людей посредством света и движения — и это очевидно для всех. Никакого же тайного влияния звезд не существует. Пико настаивал на том, что астрология делает людей рабами и лишает их возможности добиваться успеха. Известно, что Лука Белланти по звездам предсказал Пико раннюю смерть. Возможно, именно это обстоятельство сделало его выступления против астрологии столь страстными.
Первый прямой ответ на выступление Пико последовал от самого Белланти. В своем трактате «Liber de astrologia veritate» он писал о том, что астрологические силы, секретное влияние звезд все-таки существуют. Более того, астрологические законы более доступны для человеческого понимания, чем физические, потому что они сами по себе сродни человеческому уму.
После смерти Пико (которая действительно наступила очень рано - ему был всего 31 год) выступил Джиованни Понтано. Он утверждал, что звезды влияют на темперамент человека порождая определенную сумму склонностей, которую можно назвать характером. Отсюда вытекает важность составления и использования гороскопа. Но Понтано был далеко не фаталистом. В трактате «De prudentia» он рассуждал о понятии «доблестный муж» и пришел к выводу, что таковым является человек, умеющий определять разумное соотношение между предопределением, которое ему дали звезды, и возможностями изменения этого предопределения. В трактате «De fortuna», рассматривая соотношение между характером и волей, он приходит к утверждению, что хоть Бог, создав звезды, дал им власть над человеком, воля человека может быть сильнее любых их влияний. Таким образом, очевидно, что интерес к астрологии имел философский характер и приобретал формы сознательной рефлексии, не только о самой астрологии, но и о воле человека, степени ее свободы и ее соотношении с силами предопределения, оформляясь в виде философского дискурса.
Свободное бытование астрологических представлений в широкой социокультурной среде нашло отражение и в литературе ренессансной Англии: английские писатели XVI-XVII веков активно использовали в своих произведениях астрологические понятия. Причем, как отмечает Аллен, наличие астрологической терминологии в произведении того или иного автора отнюдь не делает его ортодоксальным приверженцем астрологических представлений и даже не свидетельствует о том, что автор сознательно выбирает эту лексику. Сам контекст, получив четкое закрепление в языке, проявляет себя в произведении.
Таким образом, астрологические представления являются весьма своеобразным культурным феноменом. С одной стороны, они представляют собой часть унаследованной от средневековья, традиционной картины мира, которая как раз в эпоху Возрождения приходит в движение, приведшее
11 впоследствии к новому, принципиально иному этапу развития европейской науки, как считают одни ученые, или к ее возникновению, как считают другие. С другой стороны, именно в эпоху Возрождения, когда эта традиционная картина мира рушится и происходит смена парадигмы, они приобретают особую актуальность. На наш взгляд, это связано с тем, что астрологические представления воплощают мифологический способ мировосприятия, который имеет обыкновение актуализироваться в моменты глобальной смены культурных парадигм. Л. Баткин, рассматривающий Ренессанс как «последнюю целостную культурную систему [курсив автора], построенную на архетипах, то есть на мифе» [22, 116], справедливо отмечает, что «сложная амальгама мифологических мотивов, характерная для Ренессанса, не утратила именно «жизнестроительной» интенсивности и органичности. Все дело в том, что люди Возрождения воспринимали Мадонн и Младенцев, Венер и Гераклов, граций и нимф, сивилл и святых мудрецов, гороскопы и кабалистику, выражая себя (курсив Л. Баткина. - Н.П.) в готовом духовном материале с небывалой экзальтацией и мощью» [22,116].
Астрологические представления не только сами по себе выражали мифологический способ мировосприятия, но и были связаны с другими мифологическими комплексами эпохи. Особого внимания в этом отношение заслуживает тот факт, что традиционные «действующие лица» астрологии -планеты - имеют античные названия.
Немецкий исследователь истории науки Б. Ван-дер-Ваден в своей книге «Рождение науки И. Пробуждение астрономии» отмечает, что «божественные имена планет» являются общепринятой традицией: «До настоящего времени мы называем планеты именами богов. Точно так же греки называли планеты по именам богов Кроноса, Зевса и т.д. Мы находим божественные имена планет также в эллинистическом Египте, Сирии, Малой Азии, Армении, Вавилонии, Персии и других местах» [32, 194]. Что касается Греции, как указывает названный выше исследователь, «в диалоге «Послезаконие», написанном
Платоном или его учеником Филиппом Опунтским, сказано, что божественные звезды не имеют имен, а только прозвища: они названы по именам богов Афродиты, Гермеса, Кроноса, Зевса и Ареса. По мнению автора, эти названия появились, благодаря «варварам», которые первые наблюдали «космических богов». В «Послезаконии» многозначительно упоминаются страны Египет и Сирия, в которых производились эти наблюдения» [32, 194-195]. Далее, как указывают Б. Ван-дер-Ваден в названной выше работе и Ю.А. Карпенко в исследовании «Названия звездного неба», в IV в. до н. э. греческие астрономы называли планеты именами, связанными со светом, огнем, сиянием: Файнон, Фаэтон, Пиройэс, Фосфор, Стилбон. «После 200 г. до н.э. они постепенно выходят из употребления и заменяются более простыми наименованиями Кронос, Зевс и т.д.» [58, 73]. Римляне после отождествления своего мифологического пантеона с греческим и после заимствования греческих астрономических достижений просто заменили в названиях планет имена греческих богов на имена соответствующих римских: Гермес стал Меркурием, Зевс - Юпитером, Арес - Марсом, Афродита - Венерой, Крон - Сатурном. В свою очередь «римские обозначения пяти издавна известных планет уже без перевода разошлись по всему миру, став общепринятыми их научными обозначениями» [58, 76].
Ренессансный пиетет по отношению к античности как к некоему «времени первотворения», помимо прочего, влек за собой повышенный интерес к античной мифологии. Хотя, как пишет Л. Баткин, «античная мифология, мертвая сама по себе (курсив Л. Баткина. - //./7.), включалась в некий сплав (христианство, гротеск, магия, рыцарская легенда), который в целом был еще мифологической реальностью мышления, его разумом, а не предрассудком, кровью культуры, а не реминисценцией» [22, 118], человек эпохи Возрождения уже не мог воспринимать античный миф так, как воспринимал его человек античности, то есть буквально, как правду. Влияния же планет, носящих имена основных представителей античного пантеона, являлись для человека той эпохи
вполне реальными и ощутимыми. Поэтому интерес к античности и, в частности, к античной мифологии, с одной стороны, определенным образом провоцировал интерес к астрологии, с другой - придавал астрологическим представлениям дополнительное мифологическое измерение.
Еще одним фактором влияния на астрологические представления в шекспировскую эпоху была античная литература, которая, помимо мифологического, давала также и концептуальный материал для осмысления астрологии. Как отмечает Д.К. Аллен, такой авторитет, как Цицерон, в своем трактате «De divinatione» осуждал только одну форму астрологии — ее халдейский вариант. Отношение Цицерона к астрологии стало поводом для постоянных споров между ее противниками и сторонниками. Произведения Вергилия, Овидия и Платона давали повод видеть в них сторонников астрологии.
Необходимо также учитывать связь астрологических представлений с мифологическим комплексом христианства. Д.К. Аллен справедливо отмечает, что, хотя идеи астрологии противоречили ортодоксальному христианству, сам текст Священного Писания не был однозначным в этом отношении - даже рождению Христа предшествовало появление новой звезды.
Помимо античного и христианского мифологических комплексов, астрологические представления были органично связаны с «ренессансным мифом о человека» (Л. Баткин). Р.В. Броль, автор диссертации «Астрология как историко-культурный феномен», в качестве одного из основных принципов астрологического мироощущения выделяет принцип аналогии (а также развивающий и уточняющий его принцип целостности). В пространственном аспекте он представляет собой принцип подобия микрокосма и макрокосма: всякая сущность подобна миру в целом. Эта идея, как известно, лежит в основе антропологических представлений Ренессанса. Кроме того, астрология, как бы она ни понималась тем или иным гуманистом, представлялась реальным способом познания предопределенности, матрицы событий, влияющих на
судьбу человека, а значит, и способом «приручить» эту предопределенность, расширить границы жизнетворчества как формируя свою личность, так и используя наиболее благоприятное время для тех или иных поступков - обе эти возможности предоставляет астрология, и обе они имеют непосредственное отношение к той стороне ренессансной культуры, которую С. Гринблатт определил как self-fashioning [43].
Способность астрологических представлений органично коррелировать с культурно-мифологическими комплексами эпохи Возрождения придает несомненную эвристическую ценность изучению их художественного преломления в эстетической реальности шекспировского театра, с одной стороны, с другой - помещает данное исследование в рамки мифопоэтической литературоведческой традиции.
Хотя шекспироведы лишены возможности точно определить культурный кругозор Барда, текст его произведений позволяет производить реконструкции, обладающие не менее высокой степенью достоверности, чем прямые биографические данные, о чем свидетельствуют многочисленные работы, посвященные отражению в шекспировских произведениях той или иной области знаний.
Что касается астрологии, то текст шекспировских произведений предоставляет нам свидетельства того, что его ориентация на астрологические представления эпохи была вполне сознательной и учитывала дискуссионность и идеологичность их бытования. Более того, астрологические представления составляли важнейший элемент художественного мышления Шекспира, поскольку были связаны в его сознании с топосом Theatrum Mundi (этот аспект будет подробнее рассмотрен в первой главе). Так, например, в 15-м сонете автор говорит о мире как о «huge stage presenteth naught but shows / Whereon the stars in secret influence comment». Являясь художником, в драматическом творчестве которого топос Theatrum Mundi нашел наиболее полное философско-эстетическое воплощение, Шекспир, создавая свою сценическую
реальность, учитывал (сознательно или бессознательно) максимально возможное количество «параметров», характеристик той реальности, в которой жил он и его современники. Поэтому астрологические представления, как неотъемлемая, лежащая на поверхности составляющая картины мира англичанина эпохи Ренессанса, становятся необходимым онтологическим условием создания художественной реальности его драматургии. Следует также сказать, что система воплощения астрологических представлений в художественном мире шекспировского театра является уникальным проявлением его творческой индивидуальности и зачастую перекрещивается с тем слоем художественной реальности, который Л.В. Карасев называет онтологическим [53, 55 и др.], в силу чего наш подход к шекспировским текстам будет также опираться на достижения онтологической поэтики.
Объект исследования определяется необходимостью комплексного анализа воплощения астрологических представлений в художественной реальности шекспировского театра. Астрологические представления английского Ренессанса преломляются в шекспировской драматургии в виде целостного слоя астральных мифологем, образов и ряда связанных с ней мотивов. Специфика этого художественного слоя, связанная с особенностями философского и эстетического мышления эпохи, обусловила особую технику его использования драматургом. Эта техника также будет объектом данного исследования. Тесная связь интересующего нас художественного слоя с драматическим механизмом комедий и трагедий позволяет говорить о преломлении, а не об отражении астрологических представлений в драматических произведениях Шекспира. Таким образом, в центре нашего внимания оказывается специфика художественного преломления астрологических представлений английского Ренессанса в драматургии Шекспира.
Предметом исследования являются те произведения Шекспира, в которых наиболее ярко манифестируются различные аспекты интересующей
16 нас образности: комедии «Комедия ошибок», «Два веронца», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Виндзорские насмешницы», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь»; трагедии «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло».
Состояние научной разработанности темы.
Исследование астральных образов в западном шекспироведении отражает историю изучения словесных образов Шекспира вообще. Отсчет этой традиции принято начинать с появившихся в XVIII в. критических работ Уолтера Уитера, построившего свой анализ шекспировских пьес, с опорой на теорию ассоциативных связей Джона Локка. Представляется целесообразным, не вдаваясь в подробную историю вопроса, выделить несколько основных подходов при исследовании интересующей нас группы образов.
Во-первых, астральные образы анализируются как некая статическая группа, изучая которую можно составить представление о личности автора, о его познаниях и эрудиции. В шекспироведении вообще существует большое количество подобных работ (Джессика Керр «Цветы у Шекспира» [163], Алан Дент «Мир шекспировских зверей и монстров» [146] и др.). Традиции такого подхода восходят к работе Кэролайн Сперджен «Образность Шекспира, и о чем она нам говорит» [181]. В своей работе исследовательница использует метод поиска ассоциативных связей, восходящий к теории Джона Локка и впервые примененный в XVIII веке Уолтером Уитером. Свою задачу она видит прежде всего в том, чтобы рассмотреть в шекспировских образах отпечаток личности их творца, свойств его характера, темперамента, восстановить его картину мира. В связи с нашей темой интересен ее вывод о том, что астральные образы в произведениях Шекспира свидетельствуют о том, что он придерживается геоцентрической точки зрения на мироздание. Исследовательница пишет, что «представление о звездах, движущихся по своим фиксированным сферам и отклоняющимся от них только как знак или результат большого нарушения или
несчастья, было одной из самых постоянных астрономических идей в сознании Шекспира» [181,22].
Этому утверждению противоречит вывод автора новейшего американского исследования, профессора астрономии Петера Ашера. Анализ «Гамлета» позволил ему прийти к выводу о том, что ко времени написания великой трагедии Шекспир был хорошо осведомлен о коперниканском перевороте в науке и поэтически воплотил новую идею мироздания в своем произведении [187]. Это убедительно доказанное утверждение, казалось бы, должно было предостеречь нас от поисков астрологических механизмов в произведениях, написанных, по крайней мере, после «Гамлета». Ведь астрология придерживается геоцентрической картины мира. Но опасения впасть в противоречие в данном случае основательны только на первый взгляд: мы помним, что сам зачинатель переворота, не говоря уже о его предшественниках и последователях, отдавал дань этой древней науке.
Важными для нашего исследования являются те работы, в которых особый акцент сделан на магико-астрологическом содержании астральных образов в творчестве Шекспира. Таковы, например, монографии Д.К. Алена, П. Арнольд, К. Кларка, Ф. А. Йейтс [133, 134, 140, 141, 190, 191]. Они, однако, либо носят, в основном, констатирующий характер и не входят в детальный анализ драматического механизма, неотъемлемой частью которого являются астральные образы, либо сосредоточиваются только на одной астрологической коннотации астральных образов, тогда как не менее важными для их понимания являются другие культурно-исторические и мифопоэтические составляющие.
К такого рода работам примыкают, в частности, статьи отечественного исследователя В.И. Силецкого [106, 107], утверждающего, что в произведениях Шекспира присутствует астрологическая подоплека, причем «во всех пьесах с астрологической подоплекой использованы диаметральные оппозиции — самые опасные. Ключи указываются обычно в начале и середине пьесы...» [107, 134].
Исследования В.И. Сил едкого свидетельствуют об очень близком, можно сказать, профессиональном знакомстве автора с астрологией. Видимо, именно поэтому предлагаемые им «ключи», на наш взгляд, вряд ли могут быть рассчитаны на восприятие и сотворчество широкой публики, являющееся необходимой составляющей эстетики шекспировского театра. Учитывая сказанное выше о совмещении массовости и элитарности в устремлениях английского гуманизма, такое прочтение шекспировских пьес исключить нельзя. Однако автору диссертации видится более интересным рассмотрение преломления астрологических представлений в произведениях Шекспира с точки зрения их высокого коммуникативного потенциала, исследование возможностей сотворчества драматурга со зрителем именно через этот художественный слой. Поэтому наш подход и, соответственно, результаты исследования принципиально отличается от предложенных И.В. Силецким.
Астральные образы попадают в орбиту исследовательского интереса тех шекспироведов, которые занимаются анализом какой-либо отдельной темы или мотива в произведениях Шекспира. Так, в монографии М.В. Грабера «Сны у Шекспира» [156], затронуты некоторые функциональные аспекты темы сновидений в произведениях Шекспира, пересекающиеся с нашей темой. В книге Дж. Бентли «Шекспир и новая болезнь. Драматическая функция сифилиса в «Троиле и Крессиде», «Мере за меру» и «Тимоне Афинском» [137] содержатся интересные сведения о бытовавшей в эпоху Возрождения астрологической теории происхождении сифилиса. Монография П.С. Дж. Милворда «Библейские аллюзии в великих трагедиях Шекспира» [172] освещает различные скрытые и явные заимствования из Библии в тексте трагедий и в том числе эсхатологическую библейскую окраску некоторых астральных образов.
Особый интерес представляют для нас те работы, в которых шекспировская образность рассматривается в ее динамическом аспекте, то есть в связи с драматическим механизмом шекспировских пьес. Ярким явлением
шекспироведения стала книга Вольфгана Клемена «Эволюция шекспировской образности» [143], явившаяся своеобразным ответом на упомянутую выше монографию К. Сперджен. Исследователя интересует образ не сам по себе, а в его органической связи с «ситуацией», «характером» и «атмосферой». В монографии содержится ряд тонких и интересных наблюдений, касающихся функционирования «астральных» образов. Но некоторую ограниченность этой работе, на наш взгляд, придает эволюционный, а не жанровый подход при оценке шекспировской образности в произведениях разных периодов, приводящий к недооценке ранней шекспировской комедии.
В книге Э.Ханкинза «Производные образы у Шекспира» содержится глава, посвященная астральным образам, в которой он делает вывод о том, что Шекспир использует образы комет как знаки грядущих несчастий, «в то время как планеты и другие звезды являются активными инструментами доброй или злой фортуны» [167, 264]. Некоторые важные наблюдения, касающиеся нашей темы, содержатся в монографиях У. Эллис-Фермор «Шекспировская драма» [148], Дж. Э.Говард «Шекспировское искусство оркестровки» [162].
В отечественном шекспироведении до определенного времени исследование, в котором бы в полной мере учитывалась магикоастрологическая составляющая, что является необходимым при анализе астральных образов, было невозможно по известным идеологическим причинам. Тем не менее, в некоторых работах различных периодов затронута тема астральных образов [28, 29, 82, 83, 63, 64, 91, 93 и др.]. Особенно важными и интересными для нас оказались отдельные наблюдения Л. Пинского в его монографиях «Шекспир. Основные начала драматургии» [93], и в статье «Комедии и комическое у Шекспира» [91], а также статьи Н. Я. Берковского «Отелло» трагедия Шекспира» [28] и «Ромео и Джульетта» [29]. В работе Е. И. Степановой «Английское народное песенное творчество и драматургия Шекспира» [197] содержатся интересные наблюдения относительно связи творчества Шекспира с народным творчеством и народными праздниками и обрядами. Мысль об
отсутствии поляризации между фольклорным и литературным началом в Англии эпохи Возрождения убедительно доказана здесь на конкретном материале.
В диссертации А.А. Гениушаса «Фольклорно-мифологический субстрат поэтики Шекспира» сделана интересная попытка «определить сущность и своеобразие поэтического воплощения фольклорно-ритуально-мифологической символики в жизнеутверждающем творчестве Шекспира» [196, 2]. В поле зрение автора попадают некоторые астральные образы, однако он не ставил своей целью всесторонний учет такого культурно-исторического фактора, как астрологическая обусловленность этих образов. Тем не менее, нам оказался очень полезен ряд наблюдений этого автора.
Из новейших работ нам особенно интересна диссертация Е.В. Харитоновой «Драматическая функция метафоры в произведениях Шекспира (трагедия «Гамлет», комедия «Сон в летнюю ночь») [194, 198]. Исследуя метафору яда в названных произведениях, автор уделяет большое внимание образу Луны, который попадает в семантическое поле метафоры, и отмечает исключительную важность этого образа в названных пьесах Шекспира.
Таким образом, можно сказать, что слой астральной образности не получил абсолютно исчерпывающего освещения во всей полноте ее ассоциативного богатства, в аспекте связи с драматическим механизмом пьес Шекспира и в аспекте их жанровой специфики. Это дает нам право на проведение настоящего исследования.
Основной целью данной диссертационной работы является определение специфики преломления современных Шекспиру астрологических представлений, формирующих особый слой в художественной ткани его произведений; поиск и исследование новых интерпретационных возможностей, которые открываются в связи с анализом данного слоя. Для нас была актуальна исследовательская установка Л.В. Карасева, изложенная в его книге «Вещество литературы»: «В поздних мыслях Юнг писал о том, что считает архетип
действенным до тех пор, пока он пригоден в качестве рабочего инструмента, независимо от того, ясна его природа или нет. В случае с гипотезой об энергийной основе текста или о телесной интервенции автора (лежащих в основе методологии автора цитируемой книги. - Н.П.) ситуация примерно такая же. До тех пор пока подобные конструкты позволяют видеть в тексте то, что в нем прежде не просматривалось, пренебрегать ими не стоит» [53,15].
Выполнение обозначенной цели обусловило постановку следующих исследовательских задач:
Теоретически осмыслить специфику художественного преломления астрологических представлениями английского Ренессанса в драматургии Шекспира;
Рассмотреть мифологемы, образы и мотивы, связанные с астрологическими представлениями, как целостный художественный слой в драматургии Шекспира, учитывая не только их астрологическую, но и иные культурные коннотации;
Интерпретировать драматические произведения Шекспира в том ракурсе, который позволяет открыть анализ данного художественного слоя;
Выявить его жанровую роль;
Определить место этих мифологем, образов и мотивов в обеспечении коммуникации между сценой и зрительным залом; .
Показать эстетическую необходимость учета всех нюансов этого слоя при чтении, переводе и режиссерском переосмыслении произведений Шекспира.
Структуру диссертации определила логика разрешения поставленных исследовательских задач, а также своеобразие исследуемого материала. Основная часть состоит из четырех глав. В первой главе определяется художественная специфика преломления астрологических представлений в ткани шекспировских драматических произведений в культурно-историческом, мифопоэтическом, онтологическом и коммуникативном аспектах. Во второй —
рассматриваются названные выше комедии Шекспира. Глава состоит из нескольких разделов, посвященных отдельным астральным образам.
В третьей главе анализируется ранняя трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» как произведение, воплотившее двойственную жанровую установку автора, нашедшую яркое выражение на уровне астральной образности, анализ которой позволяет наглядно выявить прорастание трагического начала данного произведения из почвы комического.
В четвертой главе предлагается типологический анализ двух великих трагедий («Гамлет» и «Отелло»), в основе которого лежит рассмотрение воплощения механизма лунных влияний, имеющего специфически трагедийный характер и выполняющего сюжетостроительную функцию.
В «Заключении» делаются выводы, обобщающие наблюдения, зафиксированные в главах основной части.
Новизна исследования. Предлагаемый в исследовании подход к анализу слоя астральной образности предоставляет возможность увидеть шекспировские произведения в новом ракурсе. Это, с одной стороны, позволяет проверить устоявшиеся в шекспироведении положения, с другой - обнаружить в этих произведениях нечто не замеченное доселе.
Астральные образы насыщены смыслами, имеющими непосредственное отношение к картине мира человека эпохи английского Ренессанса. Поэтому исследование данного слоя образности в произведениях величайшего представителя эпохи позволяет не просто увидеть Шекспира в культурно-историческом контексте, но и проследить сам процесс трансформации, перетекания элементов картины мира в элементы театрального универсума. А поскольку границы создаваемых Шекспиром художественных реальностей в качестве необходимого условия своего возникновения включают воспринимающее сознание, то и увидеть на конкретном материале реальность сотворчества драматурга и актеров, с одной стороны и зрителя - с другой.
В основе методологии исследования лежит микроанализ текста,
опирающийся, в силу специфики астральных образов, определяющейся как их
архетипической сущностью, так и конкретно-историческим
функционированием, на закономерности, выработанные отечественной и зарубежной мифопоэтикой (Е.М. Мелетинский, В.Н. Топоров, Г. Башляр, Н. Фрай), исторической поэтикой (А.Н. Веселовский, О.М. Фрейденберг), онтологической поэтикой (Л.В. Карасев, Н.А. Шогенцукова) а также отечественной теорией драмы (В.Е. Хализев, Г.Д. Гачев, Ю.М. Лотман и др.)
Исследование может быть практически полезным для преподавателей истории литературы и истории театра, спецкурсов по творчеству Шекспира, а также для переводчиков и работников театра.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры теории и истории мировой литературы Ростовского государственного университета. По результатам исследования делались доклады на научноых конференциях: «Шекспировские чтения» /ВГПУ, 2000, 2002; Конференция аспирантов факультета филологии и журналистики» / РГУ, 2001; «Пуришевские чтения» / МПГУ, 2002; «Перспективы высшей школы в негосударственном секторе образования» / РИНЯЗ, 2003/.
Основное содержание диссертации отражено в следующих работах:
Приходько Н.Н. «Антропоморфная Луна» в трагедии Шекспира «Отелло» // Шекспировские чтения. - М. - Владимир, 2000. - С. 12.
Приходько Н.Н. Своеобразие и функции образа Луны в трагедии Шекспира «Отелло» // Материалы конференции аспирантов факультета филологии и журналистики. - Ростов н/Д., 2001. - С. 38-39.
Приходько Н.Н. Астральные образы шекспировской драматургии в контексте культуры английского Ренессанса // Путь в науку. Молодые ученые об актуальных проблемах социальных и гуманитарных наук.- Ростов н/Д., 2001.-С. 94-96.
Приходько Н.Н. Функции образа Луны в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» // ANGLISTICA. Вып. 9. - М. - Тамбов, 2002. - С. 72-80.
Приходько Н.Н. Драматургическая функция астрологического механизма лунных влияний в трагедии Шекспира «Гамлет» // XIV Пуришевские чтения: Всемирная литература в контексте культуры. - М, 2002. - С. 286 -287.
Приходько Н.Н. Борьба «двух Лун» в трагедии Шекспира «Гамлет» // Шекспировские чтения. - М. - Владимир, 2002. — С. 30-31.
Приходько Н.Н. Астрологический механизм лунных влияний в трагедии Шекспира «Гамлет»: борьба двух «Лун» // Рубикон: Сборник научных работ молодых ученых. Вып. 17. - Ростов н/Д., 2002. - С. 30-37.
Приходько Н.Н. Мотив безумия в трагедии У. Шекспира «Гамлет» // Перспективы высшей школы в негосударственном секторе образования. -Ростов н/Д., 2003. - С. 96-102.
Художественный универсум шекспировского театра в контексте астрологических представлений английского Ренессанса
Художественное преломление астрологических представлений английского Ренессанса в драматургии Шекспира обусловлено особенностями мировоззрения и эстетического восприятия современников Шекспира, с одной стороны, и неповторимой творческой манерой Барда, его собственной драматургической техникой, с другой.
По словам М.М. Бахтина, Шекспир «космичен, пределен и топографичен; поэтому его образы, топографичные по природе своей - способны развить такую необычайную силу и жизненность в топографическом и сплошь проакцентуированном пространстве» [24, 241]. На наш взгляд, это вообще связано с тем, что ренессансная картина мира структурна, математична, иерархична, и Шекспир, в принципе, не выходит за рамки такой картины. Во-первых, важно еще раз подчеркнуть, что Возрождение мыслит мироздание как иерархическую систему взаимосвязанных миров. Человеку в этой системе отводится особое место: ему принадлежит низший мир, мир земли, и высокий мир небесных светил, являющихся вершиной иерархии. Каждый мир иерархичен в свою очередь, и главная роль в небе принадлежит Солнцу. Поэтому в произведениях елизаветинцев оно часто ассоциируется с правителем. «Наряду с этой, можно сказать, вертикальной связью, существует связь горизонтальная. Высшее в каждом царстве соответствует друг другу, и точно также соотносятся друг с другом низшие элементы каждой из сфер» [10, 13]. Согласно М. Фуко, человек Ренессанса находится в рамках картины, которая мыслит подобиями. Один из видов подобия базируется на аналогии. «Человек - особая точка, он находится в пропорциональном соотношении с небом, как и с животными, и растениями, как и с землей, металлами, сталактитами или бурями. Возвышаясь среди различных ликов мира, человек соотносится с небесным сводом (его лицо так относится к его телу, как лик небес к эфиру, биение пульса в его венах подобно круговращению светил, семь отверстий на его лице соответствуют семи планетам)» [116, 59]. М. Фуко выделяет также принцип соперничества. Объясняя его, он пишет: «В соперничестве есть что-то от отражения в зеркале: посредством соперничества вещи, рассеянные в мире, вступают между собой в перекличку. Издавна человеческое лицо соперничало с небом...Глаза, с их ограниченным сиянием, отражают великий свет, распространяемый в мире Солнцем» [116,56].
Исследователями давно отмечено, что театр английского Ренессанса представляет собой уникальное философско-эстетическое явление. Одним из аспектов этой уникальности является его универсальность, космичность заключающаяся в том, что театр сам по себе, самим своим устройством, своими пропорциями являет уменьшенную копию вселенной. Топос Theatrum Mundi отразился во множестве дискурсов эпохи и стал своеобразной предпосылкой творчества драматургов, найдя наиболее концентрированное и разностороннее выражение в драматургии Шекспира. «В эпоху Возрождения и, в особенности, в творчестве Шекспира и его современников театральность выступила как принцип не только поэтический, но и мировоззренческий. Идея «мир-театр» выражала в эту эпоху вначале оптимистические представления об условности всего, что казалось незыблемым и безусловным, о ролевом характере человеческого поведения, о веселой динамике жизни. В то же время театр представлялся аналогией действительности - не столько потому, что он воспроизводит в художественных образах эту действительность, сколько потому, что в его основе лежит игра» [89, 42].
Шекспироведами неоднократно отмечен тот факт, что каждое драматическое произведение Барда — это не воспроизведение фрагментов реальности, а заново сконструированная, самодостаточная вселенная. Однако эта самодостаточность выходит за пределы сцены и как необходимое условие своего существования предполагает наличие активно воспринимающей аудитории. Как отмечает М. Пейн, «Шекспир неоднократно говорит о важности активного восприятия зрителя (или читателя в Сонетах) как о необходимом элементе, вызывающем его творчество к жизни. Его пьесы не являются закрытыми и самодостаточными» [176, 26]. Хрестоматийным примером, иллюстрирующим то, как должен зритель воспринимать шекспировское произведение, является пролог к исторической хронике «Генрих V»: «can this cockpit hold / The vasty fields of France? Or may we cram / Within this wooden О the very casques / That did affright the air at Agincourt?/ O, pardon! Since a crooked figure may /Attest in little place a million; /And let us ciphers to this great accompt, /On your imasinary forces work. /Suppose within the girdle of these walls/ Are now confined two mighty monarchies.../ Think, when we talk of horses, that you see them.../For tis your thoughts that now must deck our kings, / Carry them here and there; jumping o er times, / Turning th acomplishment of many years /Into an hour-glass...» [Prologue; 11 - 31]. Шекспировская аудитория, воспитанная на скупом оформлении спектаклей, привыкшая, повинуясь указаниям драматурга, воображать то, о чем ей говорят, позволяла и, возможно, даже провоцировала создание именно таких художественных вселенных, которые предполагают ее обязательное присутствие в качестве активного субъекта.
Имея в виду обозначенные особенности, постараемся определить место и роль астрологических представлений английского Ренессанса в универсуме шекспировского театра. Итак, великий драматург в каждой из своих пьес создавал вселенную. Но в каком отношении эта его художественная вселенная находилась к реально существующей, той, в которой он жил как англичанин эпохи Возрождения? Человеку, воспитанному современном искусстве, это может показаться парадоксальным, но та вселенная, которую автор создает силой своего воображения и воображения своей публики, является зеркалом реальности, в которой он живет. Театр как зеркало эпохи - именно такой
Специфика преломления астрологических представлений английского Ренессанса в художественном мире шекспировских комедий
Характеризуя специфику комедии, С. Лангер пишет: «Чувство комедии -это обостренное чувство жизни, вызывающего ума и воли, которые вовлечены в великую игру со случаем» [165, 119]. Действительно, художественная реальность шекспировских комедий характеризуется отсутствием жесткой предопределенности. Возвращаясь к философской стороне топоса Theatrum Mundi, актуальной для Шекспира, можно сказать, что представленный посредством комедий мир-театр - это такой мир, в котором нет ничего однозначно фатального, поскольку основными «режиссерами» в нем выступают воля к жизни, присущая подавляющему большинству персонажей, и смех, имеющий ярко выраженные ритуальные, карнавально-праздничные, корни, что не раз отмечали отечественные и западные исследователи [18, 19, 26, 46, 154, 182, 196 и др.]. Л. Пинский пишет: «Жизнь изображается в комедиях Шекспира не в повседневном будничном своем течении; как в карнавалах, она схвачена в необычайном праздничном своем периоде, в «веселом месяце мая», ознаменованном в существовании героев важным событием (внешне новый период обозначается в сюжете переездом героя в другой город, уходом в лес, неожиданным знакомством и т.п.). В Англии, как и в других странах, к карнавальным дням приурочивались свадьбы - отсюда веселые многосвадебные финалы шекспировских комедий, такие же неизменные, как и множество трупов в конце трагедий» [91, 174]. «Во всех случаях комическое у Шекспира однородно с фамильярно-эротическим смехом карнавала, где царила атмосфера всеобщей свободы духа» [91,175].
Зло порой очень весомо вторгается в комедийный мир, настолько весомо, что даже финальное пиршество оставляет горьковатый привкус (особенно это касается поздних комедий). Тем не менее, любой шум обязательно превращается в гармонию, и все разнонаправленные силы оборачиваются финальным балансом, суть которого очень хорошо выражает предложенное Фраем понятие identity, которое целесообразно рассматривать не только в социальном, но и в космическом измерении.
В другой своей работе, посвященной комедии, Фрай справедливо говорит о том, что комедия — чрезвычайно устойчивый и консервативный жанр. Ее сюжетную структуру, по словам исследователя, составляет то, что «молодой мужчина желает молодую женщину и что его желаниям препятствует некая оппозиция, обычно родительская, и что к концу пьесы некий поворот сюжета позволяет герою осуществить свою волю» [153, 14J]. Применительно к шекспировской комедии, рассматриваемой сквозь призму астральной образности, эту структуру можно немного уточнить, добавив два акцента. Соединение двух любящих героев действительно приобретает очень большое значение. Возможно, именно комедии стали для Шекспира тем миром, где осуществилась заветная мечта лирического героя его сонетов — склонить своего друга к браку, который позволит ему продлиться в потомках. Именно в пристальном внимании драматурга к теме любви, которая актуализируется здесь как наивысшее приятие жизни, главным образом и реализуется гуманизм комедий Шекспира.
Итак, гармоничное соединение женского и мужского начала лежит в основе мироздания. И все, что препятствует этой метафизической формуле, обнаруживает в комедиях свою относительность и подлежит карнавальной «обработке» и «переплавке». Как отмечает Фрай, осуществляемое в комедиях движение «от общества, контролируемого обычаем, ритуальными рамками, деспотическим законом и героями старшего возраста, к обществу, контролируемому молодостью и прагматической свободой, является также и движением от иллюзии к реальности» [153, 147]. Важно подчеркнуть, что в художественной реальности шекспировских комедий препятствиями на пути к этой заветной цели оказываются не только внешние случайности или действия группы blocking characters, но и первоначальные установки или неблагоразумное поведение самих героев. В этом тоже видится определенная связь с сонетами, ведь их герой тоже не вступает в брак, скорее всего, по внутренним причинам.
В создании такого движения комедии важную роль играют астральные мифологемы. Именно в комедиях особенно ярко реализуется астрально-ассоциативная характеристика героев. Это связано, с одной стороны, со спецификой жанра, с его сосредоточенностью, главным образом, на действии, на интриге, а не на индивидуальных проявлениях противоречивой личности позднего Ренессанса, с другой — на индивидуальности Шекспира-драматурга. Возможность типизации героев с помощью астрально-ассоциативной характеристики позволяет Шекспиру максимально сосредоточиться на достижении всех уровней identity, хотя и в рамках астрально-ассоциативной характеристики достигается определенный уровень индивидуализации героев, что будет показано на конкретном анализе произведений. Заметим, что Л. Пинский, анализируя шекспировские комедии совсем в другом ракурсе, также приходит к выводу о том, что «все характеры комедийного мира внутренне родственны» (имеется в виду комедийный мир Шекспира) [91,169].
Совпадение противоположностей как основа построения ранней трагедии
Наряду с Солнцем и Луной значительную роль в комедиях Шекспира играет образ Юпитера. В мировой астрологии Юпитер фигурирует как планета удачи, отвечает за правосудие и справедливость. Агриппа пишет, что «признаки предметов ... Юпитера» наделяются «радостью и почестями» [7,37]. В современном английском языке существует прилагательное jovial восходящее к Jove и означающее «веселый, радостный». Как пишет В. Шумакер, в эпоху Ренессанса считалось, что «самым сильным благоприятным влиянием обладает Солнце, однако его влияние нуждалось в смягчении более умеренным Юпитером или Венерой ... Влияния Юпитера, поскольку они напоминали влияния Солнца, но при этом не грозили избыточностью, были, однако, самыми благосклонными» [180, 6]. Эти представления послужили основой для астрологических мифологем Юпитера в комедиях Шекспира, где этот образ, наряду с Солнцем, выступает как гармонизирующее и приводящее к равновесию начало.
Приступая к анализу мифологем Юпитера, необходимо отметить, что в исследуемых произведениях Шекспира (включая трагедии) практически не было обнаружено случаев, где Юпитер не имел бы античных пластических ассоциаций. Хотя при этом, с другой стороны, в комедиях, где обнаруживаются мифологемы Юпитера, как и во всех остальных драмах, античные ассоциации, связанные с семью планетами, имеют астрологическую обусловленность, связанную с астрологической подосновой сюжета.
Одной из конструктивно важных мифологем является противостояние Юпитера и Сатурна. С образом Сатурна связано наиболее явное внедрение злого начала в мир шекспировской комедии. В комедии «Много шума из ничего», где этот образ реализует свою сюжетную функцию, мы впервые встречаем настоящих злодеев, которые поступают дурно не в силу бессознательной «игры Природы» (Л. Пинский), а совершенно сознательно и целенаправленно. Враждебность комедийному сообществу, ненависть к нему прочно укоренена в самой природе персонажей-злодеев - Дона Хуана и его сообщников Конрада и Бораччо. Потому в данной комедии возникает максимально опасная для восстановления гармонии ситуация, трагический финал предельно вероятен. Не случайно исследователи говорят о полифоничности этой комедии, переплетении «мажорного с минорным» [91, 160]. А. А. Аникст даже пишет о том, что «художественная структура пьесы не безупречна» [10,290].
Зло в астрологической подоснове данной комедии порождено недобрым вмешательством Сатурна, который формирует астрально-ассоциативную характеристику Дона Хуана и его приближенных Конрада и Бораччо. Д.К. Аллен пишет: «Для эпохи Ренессанса Сатурн, под которым родились Фичино и Бартон, был планетой, внушавшей наибольший трепет (the most awe-inspiring of all the planets), поскольку, согласно представлениям эпохи, он вызывал разлитие черной желчи и порождал в людях двойную меланхолию, которая при одних обстоятельствах делала из них ученых или поэтов, а при других - злодеев или сумасшедших» [133, 172]. Однако при этом Сатурн не был планетой, «которой нельзя было противостоять» [133, 172]. Так, его жесткое влияние могли смягчать такие планеты, как Венера и Юпитер. Как пишет Агриппа, «когда опасаются Сатурна и Марса, им нужно противопоставлять Венеру и Юпитер» [7, 102] На последней закономерности, видимо, и основана сюжетная роль Юпитера и Сатурна в комедии «Много шума из ничего».
Сначала следует рассмотреть, как формируется астрально-ассоциативная характеристика злодеев. Самый яркий ее элемент зафиксирован в диалоге Дона Хуана и Конрада. Последний спрашивает своего господина о причине мрачного настроения и советует умерить его, послушавшись доводов рассудка. Дон Хуан отвечает на это: «I wonder that thou, being (as thou say st thou art) born under Saturn, goest about о apply a moral medecine to a mortifying mischief. I cannot hide what I am» (I; III; 11-14). Из этого высказывания становится ясно, что «под Сатурном» родился не только Конрад, но и сам дон Хуан. В этой же сцене он прямо говорит о ненависти к своему брату и называет себя «откровенным негодяем» (plain-dealing villain).
В третьей сцене третьего акта фигурирует метонимический атрибут Сатурна, связывающий сообщников Дона Хуана. Бораччо и Конрад обмениваются каламбурными репликами: «Borachio. Conrad, I say! Conrad. Here, man. I am at thy elbow. Borachio. Mass, and my elbow itched; I thought there would a scab follow» (III; III; 103-106). Scab — «парша, чесотка, короста»: дурно расположенный Сатурн порождает болезни кожи.
Следует учесть, однако, что при всем этом, зло в данной комедии амбивалентно, поскольку оно связано с карнавальным подтекстом. Как известно, древний Сатурн находится у истоков ежегодного праздника сатурналий, яркого карнавального действа, еще живого в эпоху Шекспира. Бораччо по-испански означает «пьяница» (boracho) (о значении пиршественных образов говорилось выше). Функции Солнца, служащего в комедиях Шекспира маркером карнавального смеха, взял на себя, как отмечалось выше, фонарик ночных сторожей, комических персонажей, разоблачивших зло.