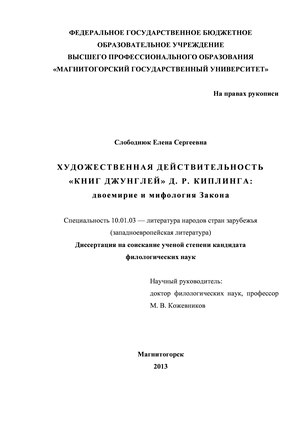Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Своеобразие художественной действительности Киплинга и романтическая традиция .25
1.1. Баллада, библейское слово и поэзия долга 25
1.2. «Чужое небо», вопрос о двоемирии и бремя «пути» 46
Глава II. Художественная действительность «Книг Джунглей» в ее отношении к Закону 79
11.1. «Рукх», «Единственный Сын» и история Галаци-волка: на подступах к Закону 79
11.2. Закон, герой и парные миры 106
Глава III. Мифы и миры «Книг Джунглей» 131
111.1. Мессианская идея, Закон Джунглей и закон Завета.. 131
111.2. «Отраженные» миры, искушение Маугли и Закон как Путь ...157
Заключение.. 177
Литература. 184
- «Чужое небо», вопрос о двоемирии и бремя «пути»
- «Рукх», «Единственный Сын» и история Галаци-волка: на подступах к Закону
- Закон, герой и парные миры
- «Отраженные» миры, искушение Маугли и Закон как Путь
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Джозеф Редьярд Киплинг — одна из наиболее заметных фигур в английской литературе рубежа XIX-XX вв. Его творчество до сих пор является предметом оживленных дискуссий в литературоведческих кругах как на Западе, так и в России. Каждый исследователь видит Киплинга по-своему: сказочник, мифотворец, автор приключенческих рассказов, «бард империализма», поэт-новатор. Однако критический анализ работ, посвященных Киплингу, наводит на мысль о том, что сегодня киплинговедение вряд ли может претендовать на звание окончательно сформировавшейся литературоведческой дисциплины: особенности творческого метода описаны подробно, но фрагментарно; природа авторского художественного сознания осмыслена далеко не полностью. И даже в вопросе о том, какое место следует отвести «железному Редьярду» в мировом литературном процессе, литературоведы до сих пор не пришли к единому мнению. Творчество Киплинга относят то к чистому романтизму, то неоромантизму, то к реализму, то к декадансу; либо просто возводят в статус уникального культурного явления, находящегося вне каких-либо течений. Подобное положение дел изначально обусловливает актуальность любого исследования, в котором будет предпринята попытка дать непротиворечивую картину творческих исканий последнего барда Британской империи. И все же нам представляется, что основные проблемы современного киплинговедения в большей степени связаны с «онтологической» лакуной, которая нарушает целостную картину художественного универсума Киплинга и не позволяет дать объективную оценку авторского вклада в мировой литературный процесс. Чтобы представить более весомые аргументы в пользу того, что наследие Киплинга нуждается в современном осмыслении, рассмотрим степень разработанности проблемы, вынесенной в заглавие диссертации..
Творческая деятельность Киплинга начиналась в сложное для литературы время. Реализм сдавал свои позиции, и массовый читатель все чаще делал выбор в пользу авантюрно-приключенческого романа, детективных, мистических и фантастических историй (Г. Хаггард, Р. Стивенсон, Д. Конрад, А. Конан-Дойл, О. Уайльд, Г. Уэллс). Однако в расплывчатом контексте эпохи Киплинг увидел «потребность в современном романтическом герое, в новом моральном кодексе, в новом мифе, который был бы созвучен дарвиновской теории эволюции с ее жесткой формулой: „Выживает сильнейший“». Данная точка зрения достаточно точно отражает основные тенденции киплинговедения ХХ-XXI столетий.
Так, соотечественники, признавая связь Киплинга с романтической идеей, отграничивали его творчество от собственно романтизма: Р. Т. Хопкинс писал о синтезе реалистического и романтического элементов; Д. Оруэлл отождествлял мировидение художника с невежеством и сентиментальной стороной империализма; Ч. Нортон и группа других исследователей утверждали, что Киплинг реалист, и реализм этот генетически связан с романтизмом; а Ч. Аллен в работе, посвященной индийскому этапу биографии нашего героя, доказывает, что уже в те годы Киплинг (хотя и «способный на чувства») все же был писателем с «холодным взглядом», реалистически подходившим к человеческой слабости. Помимо названных исследователей, вопрос о романтической составляющей творений Киплинга, поднимали также Р. Ле Галльенн и Б. Добрэ. Однако для первого достаточным доказательством близких «родственных» связей выступают приверженность поэта балладному жанру и использование им характерных поэтических приемов; а второй утверждал, что уже одной только баллады «Мой мальчик Джек» вполне достаточно, чтобы причислить Киплинга к лучшим поэтам-романтикам. Не менее интересен и взгляд Д. Палмера, утверждавшего, что, несмотря на присущую писателю страсть к конкретике, отнести его творчество к реалистической литературе невозможно. Но, отказав Киплингу в праве быть причастным реализму, Д. Палмер старательно обошел вопрос о том, к какому литературному направлению все-таки тяготел автор.
В сравнении с британским, отечественное киплинговедение представляет нам более широкий спектр воззрений. Постижение творчества Киплинга в России началось с критических отзывов писателей, которые первыми обратили внимание на молодого английского автора. Правда, оценивали Киплинга неоднозначно. Так, Л. Толстой сразу отказал ему в «истинном художественном даре», а К. Паустовский, десятилетия спустя, увидел в его жизни трагический пример того, «как гений может погубить себя» чрезмерной политизированностью и шовинизмом. Однако большинство русских писателей, в том числе Куприн и даже желчный Бунин, признавали незаурядность таланта Киплинга. Разумеется, либерально настроенные Горький и Куприн делали оговорки по поводу «проповеди империализма» и «узости идеалов», «стесненных слепым национализмом». Зато И. Бабель, Э. Багрицкий, Н. Тихонов, Ю. Олеша, К. Симонов любили Киплинга безоговорочно и признавали одним из своих учителей.
Впрочем, отечественное киплинговедение интересно не только парадоксами писательского восприятия. Десятилетиями советские авторы были вынуждены заниматься исключительно идеологическими аспектами наследия Киплинга. И поэтому для Т. Левита его произведения были выражением идеологии «сподвижников британского империализма», а Р. Миллер- Будницкая, подчеркивала, что творчество Киплинга особо интересно именно постольку, поскольку являет собой «законченное, высокохудожественное воплощение идей и настроений нашего врага».
В послевоенном СССР одной из первых серьезных работ о Киплинге стала статья Т. Мотылевой. Традиционная политическая риторика здесь начинает сочетаться с попытками объективного осмысления: «Место Киплинга внутри литературы декаданса было своеобразным», поскольку «он утверждал культ энергии и грубой силы», «сознательно обращался к широкой публике и связывал свое творчество с практическими потребностями идеологической политики». Т. Мотылева, также пишет о романтике риска в романах писателя, а солдатские стихи определяет как «псевдореализм», продвигающий идею беспрекословного служения Империи. Написанная в 1960-е гг. статья Р. Самарина звучит уже менее воинственно, однако и здесь доминирует идеологический момент, причем особо подчеркивается, что Киплинг «возглавил империалистическое направление в английской литературе, именовавшееся в тогдашней критике „неоромантическим“».
Именно вопрос о Киплинге-романтике/неоромантике в последующие годы неоднократно оказывается в центре внимания. Так, Е. Гениева писала: «Романтическое видение мира возвысило и отчасти облагородило даже шовинистические идейные посылки Киплинга, выдвинув на передний план идеи патриотизма и верности долгу». Однако более всего исследовательницу занимает вопрос о роли романтизма и неоромантизма в творческом методе автора. При этом позиция Е. Гениевой неоднозначна. С одной стороны, в своих работах она пишет о романтическом миросозерцании Киплинга; с другой — сводит сами романтические каноны к героической атрибутике и романтике; но при этом особо подчеркивает, что Киплингу «был чужд стилизованный авантюрный роман» Стивенсона и Хаггарда.
Своеобразный взгляд на творчество Киплинга представлен у В. Бетаки, который утверждает: «Киплинг романтический писатель, но философски сам он как личность никаким романтиком <…> никогда и не был», — и полагает, что автор использовал романтизм и романтику дальних странствий лишь как средство психологического влияния на детей и юношество, склонных воспринимать литературу «более или менее романтически». Столь же оригинальна точка зрения Ю. Кагарлицкого, согласно которой Киплинг «писал о людях, и похожих и непохожих на своих предполагаемых земляков, да к тому же живущих в чужой стране, так что иначе как неоромантиком его было не назвать».
Тенденция к исследованию наследия Киплинга в сравнении с романтизмом либо неоромантизмом постепенно укоренилась в отечественном литературоведении. Потребовались годы, чтобы стало очевидным: творения «железного Редьярда» совершенно невозможно однозначно оценить ни в романтическом, ни в неоромантическом ракурсе (Н. А. Анастасьев, Н. А.Вишневская, Е. П. Зыкова, М. Б. Ладыгин, Б. М. Проскурнин, Д. М. Урнов). Но поскольку тема киплинговского неоромантизма звучала несколько громче романтической, со временем утвердилось мнение о том, что Киплинг по типу своего художественного сознания, безусловно, принадлежал английскому неоромантизму и вместе с ним активно противостоял бездуховной прозе жизни, оставшейся без подлинного героя.
В сущности, именно оппозиция героя/не-героя оказывается исходной точкой и основным аргументом в рассуждениях, тех, кто принял идею киплинговского неоромантизма. Так, по С. А. Богомолову, «имперская система ценностей поздневикторианской Британии» ярко и полно выразилась в «новом романтизме» Стивенсона, Киплинга и др., воплотившем «моральное кредо долга и самопожертвования, дисциплины и веры, гармоничного единства силы духа и физической мощи». А Н. Садомская доказывает, что стараниями Хаггарда и Киплинга «другим героем неоромантической прозы стал представитель коренного населения колоний», явившийся миру «в неповторимом своеобразии своей национальной культуры и традиций и в то же время как представитель человеческого рода». Однако нам представляется, что герой-абориген Хаггарда и Киплинга ведет свой род, скорее, от естественного человека Руссо и евангельской идеи равенства перед божеством, и его связь с этнографическими пристрастиями авторов вторична.
В таком контексте достаточно интересна позиция Л. Романчук, которая исследует формальную сторону отношений Киплинга с романтической традицией: «Романтизм Киплинга проявляется» в «метафизической символике его текстов; биполярном противопоставлении и в то же время своеобразном соединении противоречивых текстуальных конструкций». Правда, при этом автор утверждает, что неоромантизм Киплинга был реакцией на засилье позитивизма. На подобные терминологические нестыковки можно было бы не обращать внимания, но в сочетании с формализованным подходом к романтической поэтике и преувеличением роли экзотического элемента они искажают объективную картину творимой автором действительности.
Впрочем, последний момент мало занимает литературоведов, и это странно: рассуждать о романтизме и романтической традиции, обходя стороной художественно-онтологическую проблематику и даже идею двоемирия, по меньшей мере, нелегко. Однако подобная фигура умолчания вряд ли случайна, ведь редукция бытийного компонента дает полную свободу в решении вопроса о романтических либо неоромантических пристрастиях Киплинга.
Таким образом, анализ источников показывает, что для киплинговедения творчество Киплинга прежде всего являет собой: а) идеологический феномен Британской империи; б) культурный феномен западной цивилизации, вдохновляемый дыханием «чужого неба»; в) литературный феномен, который соединил в себе основные черты романтизма, реализма и неоромантизма. Вопросы двоемирия, особенностей авторской мифологии и Закона стоят при этом даже не на втором плане. Кроме того, существует и терминологическая проблема, так как «неоромантизм» отечественного литературоведения сильно отличается от английского «неоромантизма», чей ареал обитания ограничен изобразительным искусством, музыкой и архитектурой; в области же литературы, более употребительны термины «модернизм» и «поздний романтизм» (late-Romanticism).
Таким образом, избранный ракурс решения проблемы соответствует задачам современного литературоведения, поскольку дает возможность выявить новые особенности творческого метода Киплинга и уточнить его место в художественных исканиях «промежутка». С учетом названных обстоятельств мы помещаем в центр нашего исследования «Книги Джунглей», которые с полным правом могут считаться вершиной миросозидающих исканий автора.
Объект исследования — художественная действительность «Книг Джунг-
лей»( «The Jungle Book»; «The Second Jungle Book»).
Предмет исследования — двоемирие и мифология Закона в системе художественной действительности дилогии.
Основной материал исследования — «The Jungle Book» (1894) и «The Second Jungle Book» (1895). Однако для выявления концептуально значимых связей дилогии с другими творениями художника привлекается ряд программных произведений: «The Ballad of East and West» (1889); «The Gipsy trail» (1892); «The Only Son» (1893); «In the Rukh» (1893); «The White Man’s Burden» (1899). Кроме того, при решении конкретных задач (эволюция темы долга; связь с романтической традицией) используются как ранние, так и более поздние тексты: «The City of Dreadful Night» (1885), «The Sons of Martha» (1907); «My boy Jack» (1915). Везде, кроме оговоренных случаев, подстрочный перевод наш.
Цель исследования — установить роль двоемирия, мифологии как таковой и мифологии Закона в формировании, становлении и развитии художественной действительности «Книг Джунглей».
Достижение обозначенной цели предполагает решение системы задач, которая включает в себя: 1) аналитический обзор литературоведческих работ (для уточнения основных тенденций киплинговедения); 2) определение характера отношений художественной действительности, творимой Киплингом, с мирами романтической традиции; 3) выявление атрибутов двоемирия Киплинга, специфических приемов авторской поэтики и определение их функции в создании художественной действительности «Книг Джунглей» и других программных произведений; 4) осмысление феномена Закона в его системной взаимосвязи с библейской и индийской мифологией, а также с авторским мифотворчеством; 5) аналитическое описание художественной действительности «Книг Джунглей» в ее взаимосвязи с мифологией Закона.
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 1) выявлены сущностные характеристики творимой художественной действительности Р. Киплинга; 2) установлен базовый принцип творческой «онтологии» автора: двоемирие как гармоничный союз самодостаточных миров; 3) уточнены основания нравственного идеала автора: следование долгу обязательно, поскольку он есть воплощение Закона, данного высшей силой, которая в каждом из миров своя; 4) определены границы применения полученных результатов в литературоведческих исследованиях.
Практическая значимость работы: материалы и результаты исследования могут найти применение в исследованиях наследия Киплинга, литературного процесса рубежа XIX-XX вв., при подготовке специальных курсов по зарубежной литературе, теории литературы, а также теории и практике перевода.
Новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем впервые предпринята попытка рассмотреть «Книги Джунглей» как оригинальный опыт создания полноценной художественной действительности, которая обладает собственной мифологией, собственным Законом, собственными пророками и «Мессией», но при этом гармонично сосуществует с реальностью.
Теоретическую основу работы составили: 1) работы зарубежных литературоведов: J. Adams, Ch. Allen, R. Baldi, Ch. Carrington, B. Dobre, E. Dowden, R. Durand, T. S. Eliot, R. L.Green, R. T.Hopkins, , S. Islam, P. Keating, S. Kemp, R. Le Gallienne, A. Lycett, J. McGivering, C. E. Norton, M. Paffard, W. B. Parker, H. Ricketts, W. W. Robson, M. Seymour-Smith, V. A. Shahane, E. Strokes, S. Walsh, A. Wilson; 2) труды отечественных исследователей, посвященные: а) английской литературе (А. А. Бельский, С. А. Богомолов, Л. В. Потураева, Н. Д. Садомская, О. Г. Сидорова); б) творчеству Киплинга (Е. Ю. Гениева, А. А. Долинин, Н. Я. Дьяконова, Г. Э. Ионкис, Н. И. Конева); в) проблемам авторского мифотворчества в зарубежной литературе (Т. А. Шарыпина) и художественно-философском тексте (Л. Н. Воеводина, Е. В. Лейбель).
Наше понимание художественной действительности опирается на фундаментальные положения, сформулированные А. Ф. Лосевым и Д. С. Лихачевым. Это дает нам возможность постулировать тезисы, задающие общее направление исследования: а) художественная действительность, создаваемая Киплингом, реальна и «совершенно самостоятельна», б) ее развитие строго подчинено определенным принципам, что обеспечивает системное единство всех уровней творимого бытия. Таким образом, в рамках нашего исследования художественная действительность есть объективно существующая в пределах авторского текста реальность, и ее существование есть результат закономерного развития сотворенных художником «природы», «общества» и «духовной культуры».
Методологическая основа исследования. Базовым методом работы выступает историко-литературный метод, позволяющий получить объективную картину творческих исканий автора. При необходимости используются биографический и сопоставительный метод, а также элементы концептуального анализа.
Апробация работы проводилась на теоретических семинарах кафедры культурологии и зарубежной литературы Магнитогорского государственного университета (2011-2012 гг.); на Международной научно-практической конференции «Студент и наука» (Магнитогорск, 2011 г.), на XV Международной научно-практической конференции «Взаимодействие национальных культур в искусстве» (Магнитогорск, 2011 г.); на XVI и XVII Международных конференциях «Пушкинские чтения» (Санкт-Петербург, 2011 и 2012 гг.); на VIII Международной научно-практическая конференции «Язык и культура» (Новосибирск, 2013 г.); на Международной научно-практической конференции «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики (Елабуга, 2013 г.), а также на VII Международной научной конференции «Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность» (Ростов-на-Дону, 2013 г.).
Структура работы: введение; три главы, включающие по 2 раздела; заключение (основной текст занимает 183 с.); список использованной литературы (199 наименований).
«Чужое небо», вопрос о двоемирии и бремя «пути»
Данные, полученные в предыдущем разделе, заставляют задать вопрос: «Может быть, Киплинг неоромантик; или вообще декадент?». Ведь и те, и другие были склонны к парадоксальному переосмыслению традиции, дерзкой, а порой и кощунственной, игре устоявшимися ценностями.
С декадансом все решается достаточно легко, поскольку вся работа уже проделана Дж. Адамсом, который в статье «Киплинг — империалист-постдекадент» писал: «Киплинг презирал этих „длинноволосых“ [декадентов — Е. С.], которые говорили о своих душах, но это не значит, что у него самого не было ничего общего с ними. … Декаденты были всерьез заинтересованы в понимании Киплинга. „Простые истории с гор“ получили сомнительные комплименты от Уайльда; Джонсон превозносил „Казарменные баллады“; Ричард Ле Галльенн с некоторым сарказмом написал о Киплинге как об „истинном декаденте“, а Бирбом был восхищенным критиком Киплинга. … Я бы расценивал Киплинга как писателя пост-декадента, который опирался на империю, но скомпрометировал себя ее исследованием и критикой вместо наслаждения ею»26. Звучащая в финальном тезисе приставка «пост» достаточно красноречива, и мы позволим себе не тратить на нее время.
Если же говорить о неоромантизме, то здесь все гораздо сложнее. Для английского литературоведения, как мы уже знаем, неоромантизм и существует, и не существует. Скажем, в «Encyclopdia Britannica» отдельной статьи о неоромантизме просто нет, а само понятие мельком упоминается в статьях «Постромантическая музыка», «Датская литература» и «История Европы». В последней, заметим, неоромантизм рассматривается как смесь символизма, натурализма и импрессионизма и «культурное настроение, которым закончился 19 век»27. В «Merriam-Websters Encyclopedia of Literature» неоромантизм представлен именами Й. Йонассона (Исландия), Т. Андерсена (Норвегия), Б. Келлермана (Германия), Л. Стафорда и К. Иржиковски (Польша), С. Клауссена (Дания). А упоминания об английских неоромантиках, впрочем, как и объяснение самого термина, как нетрудно заметить, полностью отсутствуют.
Немного исправить положение позволяют источники 1870-1900-х гг. Так, Г. Бирс, отталкиваясь от высказывания Э. Стедмана28 предлагает вниманию читателей следующее рассуждение: «Иногда [неоромантизм — Е. С.] напоминает о себе через какой-нибудь оборот или поэтический прием; но бо- лее явно он проявляется в выборе темы или в общем отношении поэта к искусству и жизни, отношении, которое можно в общих чертах описать как „эстетику“. Даже более определенно, чем у Суинберна, английский романтизм в лице этих поздних представителей очевидно придерживается французского направления. Он показывает влияние не только Гюго и Готье, но и более поздних представителей школы „декадентов“, которые демонстрируют французский романтизм на стадии его исчезания (например, в произведениях писателей Теодора де Банвилля и Шарля Бодлера; книгах „Ночной Гаспар“ Алоизиуса Бертрана). Болезненные состояния страсти; приступы чахоточной лихорадки; пьянящие ароматы Востока и тропиков; горько-сладкое цветение любви; ненастоящие фрукты из теплиц (serres chaudes); сверкание искусственных водоемов; грибковые колонии на гнили — таковы некоторые из избитых метафор, которые передают общее впечатление о неромантической поэзии»29 (курсив наш — Е. С.). Как видим, искомый термин в финальной части рассуждения, действительно, присутствует. Но нельзя не обратить внимание и на то, что исследователь склонен рассматривать неоромантизм как «общее отношение художника к искусству и жизни», определенную «эстетику», а вовсе не как состоявшуюся литературную школу. Об этом говорит и тот факт, что вместо сухих научных определений Бирс предлагает читателю набор метафор, которые, по его мнению, наилучшим образом позволяют решить вопрос о принадлежности писателя к неоромантизму, хотя «пьянящие ароматы Востока и тропиков», «горько-сладкое цветение любви», «приступы чахоточной лихорадки»30 встречаются в произведениях, которые старше неоромантизма не на одну сотню лет.
В работах других английских литературоведов нам также не удается найти формализованных на необходимом уровне атрибутов неоромантической литературы. Так, Р. Самюэль и Р. Хинтон Томас отмечали, что неоромантизму присущи «предавание впечатлениям, анализ душевных состояний, увлеченность историей, легендами и сказками и отсутствие определенной программы на будущее … культ иррационального, изображение мира грез, использование символов и доведение эмоционального воздействия до верхней точки»31. Однако все это может быть в равной степени отнесено и к романтизму Гофмана, и даже к софийному символизму Андрея Белого.
Подобное положение дел сохраняется и в наши дни. Так, М. Уоллакот, предлагает следующие характеристики неоромантизма: «Выражение сильных эмоций, таких как ужас, благоговение, страх и любовь. Движение искало возрождения романтизма и медиевизма, стимулируя силу воображения, продвигая экзотическое и неизвестное. Другие его характеристики включают в себя использование и интерес к архетипам Юнга, привлечение сверхъестественного опыта, и полумистические трюки с домом и народом»32 и т. д.
«Рукх», «Единственный Сын» и история Галаци-волка: на подступах к Закону
«Книги Джунглей», любимые многими поколениями читателей и литературоведов, как ни странно, могут с полным правом претендовать на звание самого непрочитанного творения Киплинга. Собрание рассказов и стихотворений про жизнь животных и людей в массовом сознании давно превратилось в занимательную повесть о мальчике, воспитанном волками. Однако даже беглое знакомство с киплинговской дилогией наводит на мысль о том, что причудливый узор, в который складываются истории о Сионийской стае, погонщиках слонов, морских котиках, мальчике-инуите и т.д., вряд ли предназначен только для детской аудитории. Квалифицированный читатель сразу обращает внимание и на мнимо линейную композицию, осложненную песнями, разделяющими прозаические разделы; и на эпиграфы, каждый из которых, по сути, представляет собой самостоятельное произведение; и на «говорящие» иллюстрации, предваряющие каждую из глав1. С первыми проблемами исследователь сталкивается уже на этапе знакомства с историей создания дилогии, главный герой которой был представлен читателю в рассказе «In the Rukh» («Рукх»), опубликованном в 1893 году в сборнике «Many Inventions» («Много выдумок»).
История начинается с трагического, хотя и обыденного для джунглей происшествия: тигр, прозванный «Красным» (Red One), убил человека, и лесничий Гисборн отправляется на охоту, чтобы отомстить и предотвратить новые убийства. Но привычный порядок событий на этот раз нарушается появлением нового действующего лица: «По высохшему руслу ручья шел человек, абсолютно нагой, лишь в набедренной повязке, но в венке из белого вьюна. Он настолько бесшумно шел по гальке, что даже Гисборн, привыкший к тихим шагам охотников, вздрогнул. … Его голос был чистым, похожим на звон колокола, совершенно непохожим на привычную хныкающую речь туземца; а когда он поднял освещенное солнцем лицо, показалось, что это заблудившийся в лесу ангел»2. Маугли помогает лесничему найти Красного, а затем изъявляет желание прийти в гости, поскольку «никогда не был в доме белого человека». Осмотрев дом, он уходит в джунгли, но через некоторое время неожиданно навещает Гисборна, объясняя свой визит тем, что «в рукхе нет людей, с которыми можно было бы поговорить» [Rukh, с. 231-233].
Чем больше длится знакомство, тем больше удивление лесничего — Маугли неведомым образом узнает обо всем, что происходит в рукхе (у края джунглей), он может оседлать оленя, найти общий язык с любым животным и т.п.. По прошествии некоторого времени с пришельцем знакомится начальник всего Северного Лесного Заповедника Мюллер, человек умный, властный, и, что немаловажно, ироничный: «Ah! said Muller at the end, with a sigh of satisfaction as he lighted a cheroot and dropped into his much worn campchair. When I am making reports I am Freethinker und Atheist, but here in der rukh I am more dan Christian. I am Bagan also. He rolled the cheroot-butt luxuriously under his tongue, dropped his hands on his knees, and stared before him into the dim shifting heart of the rukh, full of stealthy noises, the snapping of twigs like the snapping of the fire behind him, the sigh and rustle of a heat-bended branch recovering her straightness in the cool night; the incessant mutter of the Kanye stream, and the undernote of the many-peopled grass uplands out of sight beyond a swell of hill. He blew out a thick puff of smoke, and began to quote Heine to himself. Yes, it is very goot. Very goot. “Yes, I work miracles, and, by Gott, dey come off too.” I remember when dere was no rukh more big than your knee, from here to der plough-lands, and in droughtime der cattle ate bones of dead cattle up аnd down. Now der trees haf come back. Dey were planted by a Freethinker, be — 81 — cause he know just de cause dot made der effect. But der trees dey had der cult of der old gods. “Und der Christian gods howl loudly.” Dey could not live in der rukh, Gisborne. A shadow moved in one of the bridle-paths — moved and came out into the starlight. I haf said true. Hush! Here is Faunus himself come to see der Inspecdor– General. Himmel, he is der god! Look! » [Rukh, с. 248-249]. После проверки удивительных способностей Маугли Мюллер предлагает ему должность лесничего. Маугли соглашается, но выдвигает не совсем обычное условие — он будет работать только в этом районе и только с Гисборном. Казалось бы, перед нами типичная колониальная история о туземце, отдающем «в распоряжение белого „сахиба“ все свое богатейшее знание местной природы»3. Однако сахиб Гисборн француз, а его начальник — немец. Таким образом, мы сталкиваемся со схемой, где англичанам почему-то не нашлось места… Манера общения Маугли с белыми тоже весьма примечательна. Социальное положение собеседника для него не имеет никакого значения. Таинственному обитателю джунглей важно только одно — какова в его понимании внутренняя сущность другого человека. Он, конечно, называет Гисборна «сахибом», но только потому, что так принято: «Имей немного терпения, Сахиб, и однажды я покажу тебе все, если ты захочешь, однажды мы вместе оседлаем оленя. В этом нет никакой дьявольщины. Только я знаю рукх так, как человек знает кухню в своем доме. Маугли говорил с ним, как с нетерпеливым ребенком» [Rukh, с. 245]. Поступки Маугли также продиктованы исключительно его собственными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Да, он помогает лесничему найти и уничтожить тигра-человекоубийцу, но в первую очередь потому, что сам ненавидит все тигриное племя: «I hate all tigers, said Mowgli curtly» [Rukh, с. 231]. А позволив Абдул-Гафуру, попытавшемуся оклеветать «парию из джунглей», обворовать хозяина, он потом, чтобы проучить недруга, напускает на него волков, пугающих беднягу до полусмерти. Одним словом, Маугли живет так, как считает нужным, но он не природный бунтарь и не изгой. Хотя причину ухода из джунглей он все же объясняет не слишком внятно: «I was a wolf among wolves none the less till a time came when Those of the jungle bade me go because I was a man. Who bade thee go? That is not like a true man s talk. The very beasts themselves. Little one, thou wouldst never believe that telling, but so it was. The beasts of the jungle bade me go, but these four followed me because I was their brother» [Rukh, с. 258]. — С одной стороны, ему то ли предложено, то ли настоятельно рекомендовано покинуть звериный мир по причине его человеческого происхождения. С другой стороны, четверо волков преданно следуют за своим «братом», и связь Маугли с дикой природой не обрывается. Возможно, именно поэтому он так и не смог прижиться ни в одной из индийских деревень?.. Да и своим домом он по-прежнему считает джунгли, которые называет словами «house» и «home»4.
Закон, герой и парные миры
Тому, кто только взял дилогию в руки, автор предлагает первый из рассказов о лесном человеке — «Братья Маугли». Название главы играет важную роль в организации дальнейшего повествования. Киплинг четко обозначает приоритеты — перед нами история о том, как маленький человек обрел семью в чужом для него мире тропического леса. Не менее важную роль играет и эпиграф («Ночная Песня Джунглей»), поскольку именно здесь мы впервые узнаем о существовании Закона. Now Rann, the Kite, brings home the night That Mang, the Bat, sets free — The herds are shut in byre and hut, For loosed till dawn are we. This is the hour of pride and power, Talon and tush and claw. Oh, hear the call! — Good hunting all That keep the Jungle Law! JB, с. 1. Теперь Ранн, коршун, приносит домой ночь, Которую освобождает Манг, Нетопырь — Стада заперты в коровниках и сараях, Потому что до рассвета свободны мы. Это час гордости и мощи, Когтя, клыка и лапы. О, слушайте клич! — Доброй охоты всем, Кто чтит Закон Джунглей! Значение «Ночной Песни…» в структуре дилогии трудно переоценить. Это своеобразные пролегомены, призванные подготовить читателя к знакомству с новым миром, где каждому отведено свое место51 (ночь принадлежит Джунглям, день принадлежит домашним животным), и идет добрая охота для всех, кто соблюдает Закон Джунглей. Киплинг однажды сказал: «Когда я открыл Закон Джунглей, остальное было легким!)»52. Мы думаем, что это высказывание — своеобразный ключ для расшифровки авторской тайнописи. Ведь если у истоков творимой Киплингом действительности в самом деле лежит некий Закон, мы имеем право предположить, что Джунгли есть мир, организованный так же, как и человеческое общество.
Как становится ясно по мере прочтения книги, Закон регулирует все сферы жизни Народа Джунглей; те, кто не знает Закона, становятся отверженными, как стало отверженным Обезьянье племя. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что Закону Джунглей в той или иной мере присущи практически все черты человеческого закона. По ходу повествования мы узнаем, что он был создан обладателем законодательной власти и адресован соответствующим субъектам права; он регулирует самые важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой и т. д. Об источнике Закона Киплинг рассказывает в главе «Как страх пришел в Джунгли», которые были сотворены как безукоризненно гармоничный мир. Но первый правитель пролил первую кровь, второй правитель принес в Джунгли позор, и тогда Первый из Слонов Тха дал Народу Джунглей Закон и он познал Страх. Аналогия с библейской историей здесь достаточно прозрачна. Однако Закон Киплинга не просто часть «божественного» права. В мире Джунглей присутствует как право «божественное» (оно же в данном случае — естественное), так и право позитивное, то есть созданное «человеком». Об этом прямо говорится в строках, утверждающих право вожака стаи принимать новые законы и правила в ситуациях, которых нет в Законе: Because of his age and his cunning, because of his gripe and his paw, In all that the Law leaveth open, the word of the Head Wolf is Law53. Из-за возраста и знаний, из-за его хватки и его лапы, Во всем, чего не коснулся закон, слово Главного Волка Закон. Имеет ли это отношение к двоемирию? По нашему мнению, несомненно. Закон, дарованный Тха, и закон, который создается Волком, взаимодействуют друг с другом так же, как взаимодействуют миры «Рукха» и «Единородного Сына»: не противостояние, а взаимодополнение. В то же время Закон Джунглей во всей своей полноте противостоит беззаконию. При этом Киплинг особо подчеркивает, что в основе этого противостояния лежит весьма специфическая оппозиция. Как известно, для создания и осуществления закона необходима воля, разумная воля. Закон Джунглей не является исключением из правила. Об этом, к примеру, свидетельствует запрет на поедание человеческой плоти: «Закон Джунглей, ничего не предписывающий без причины, запрещает зверю есть Человека. … Истинная причина этого запрета кроется в том, что охота за человеком рано или поздно влечет за собой прибытие белых людей на слонах с ружьями и нескольких сотен темнокожих с барабанами, ракетами и факелами. Тут достается всем обитателям джунглей» [JB, с. 7]. И, наверное, вряд ли можно считать случайностью, что рядом с нарушителем Закона Шер-Ханом постоянно находится беспринципный Табаки, более других обитателей Джунглей склонный к бешенству, болезни, которая вызывает у Народа Джунглей панический страх, поскольку она «ужаснее всего на свете, что может постигнуть дикого зверя» [JB, с. 2].
Не удовлетворяясь общими замечаниями о сути Закона, Киплинг посвящает ему отдельную поэтическую главу, где отмечает, что законов в джунглях множество, но описывает самые простые и самые важные установления. Эти установления адресованы волкам и регулируют наиболее важные сферы отношений в стае, а также Стаи и Джунглей. Киплинг пишет о правилах охоты и правилах «общественных» отношений, о неприкосновенности жилища и даже, говоря казенным языком, об охране материнства и детства, превращая Закон Джунглей в инструмент для создания гармоничного общества. Часть правил, перечисленных в середине рассказа о Законе, имеет запретительный характер и прямо сопрягается с некоторыми из Десяти Заповедей, а именно — «не убивай» и «не укради»: Ye may kill for yourselves, and your mates, and your cubs as they need, and ye can; But kill not for pleasure of killing, and seven times never kill Man. … The Kill of the Pack is the meat of the Pack. Ye must eat where it lies; And no one may carry away of that meat to his lair, or he dies. 2JB, с. 31. Тебе можно убивать для себя и своих соплеменников, и для детенышей, когда они в этом нуждаются; Но не убивай для удовольствия от убийства и семь раз никогда не убивай Человека. … Добыча Стаи — мясо Стаи. Ты должен есть там, где оно лежит; И никому нельзя уносить мясо в логово, иначе — Смерть. Затем поэт, применяя к заповеди о любви к родителям известный нам прием обратного калькирования, создает «заповедь» о любви к «детям»: Cub-Right is the right of the Yearling. From all of his Pack he may claim Full-gorge when the killer has eaten; and none may refuse him the same. 2JB, с. 31. Право Щенка — право Первогодка. От всей своей Стаи он может требовать Полной пасти [еды], когда убивший добычу наелся; и никто не может отказать ему в этом же. Однако наиболее важные установления Закона Киплинг помещает в начало и конец стихотворения: Now this is the Law of the Jungle — as old and as true as the sky; And the Wolf that shall keep it may prosper, but the Wolf that shall break it must die. … Now these are the Laws of the Jungle, and many and mighty are they; But the head and the hoof of the Law and the haunch and the hump is — Obey! 2JB, с. 29, 32. Вот Закон Джунглей — такой же старый и верный, как небо; И Волк, который будет соблюдать его будет благоденствовать, но волк, который нарушит его должен умереть … Вот они, Законы Джунглей, их много и они могущественны; Но голова и основание Закона, и точка опоры, и высшая точка — Подчинение! Закон совечен небу, соблюдение Закона — залог благоденствия; нарушение Закона — смерть: это первая мудрость. А мудрость последняя, изложенная в финальной строфе, гласит, что Законов много и они могущественны, но голова и основание, и точка опоры — Подчинение! Так завершается стихотворение, каждой своей строкой внушающее: «Уважай стаю, будь вме сте со стаей, соблюдай ее правила и — подчиняйся Закону!». Стоит отметить, что на протяжении всего романа звери, говоря о Законе, используют именно глагол obey — подчиняться, четко определяя тем самым свои отношения с Законом Джунглей. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на один любопытный момент. В эпизоде, описывающем уход Маугли к людям, Балу говорит ему: «Keep the Law the Man-Pack make; keep the Law and go thy way», — т.е. соблюдай Закон Человеческой Стаи. Нет сомнения, замена «подчинения» «соблюдением» свидетельствует о приоритете Закона Джунглей. С другой стороны, слово «закон» по-прежнему написано с прописной буквы, и это дает нам основания полагать, что Народ Джунглей уважительно относится к закону любого общества.
Тема Закона играет важную роль не только в тех эпизодах, где мы сталкиваемся с описанием общественного устройства Джунглей. Она звучит в размышлениях автора о границах добра и зла, а также о воздаянии и возмездии, которые при ближайшем рассмотрении оказываются основой, опорой и одним из основополагающих принципов жизни Народа Джунглей.
В сущности, возмездие (revenge, punishment, avenge) как базовый принцип этической и, безусловно, правовой системы звериного мира у Киплинга оказывается немногим младше Закона, дарованного Джунглям демиургом Тха. Ведь когда первый правитель — Первый из Тигров — совершил первое убийство, произошло два чрезвычайно важных события: 1) убийца, несмотря на свой высокий статус, был немедленно наказан; 2) в некогда гармоничный мир вошли месть и смерть — «The trees and the creepers marked him, Little Brother, and made him the striped thing that we see. Never again would he eat their fruit; but from that day he revenged himself upon the deer, and the others, the Eaters of Grass. — Деревья и лианы пометили его, Маленький Брат, сделали его полосатым. Больше никогда не ел он их плодов; и с того дня начал мстить за себя оленям и другим Поедателям Травы» [2JB, с. 28]. В приведенном фрагменте обращает на себя внимание и ряд других нюансов. Прежде всего, это способ наказания первого убийцы в Джунглях (своеобразная каинова печать), а также его дальнейшая судьба, несомненно, вполне сопоставимая с судьбой Каина. Не менее интересно и то, что получивший свое воздаяние преступник одновременно сам становится исполнителем вечной мести по отношению к родственникам собственной жертвы. Явная парадоксальность этой ситуации определяется синтезом ветхозаветной традиции с авторским замыслом, в котором потомкам Первого Тигра отведена особая роль; и наконец тем, что мир Джунглей пока еще не знает человека.
Идея мщения звучит не только в истории о первом убийце. В стихотворении «Закон Джунглей» говорится: «But the wolf that shall break it must die — Но волк, нарушивший его [Закон — Е. С.], должен умереть» [2JB, с. 29]. Более того, запретительные заповеди Ветхого Завета у Киплинга становятся заповедями возмездия, обеспечивающими в первую очередь продолжение рода: «The cubs are free to run where they please, and until they have killed their first buck no excuse is accepted if a grown wolf of the Pack kills one of them. The punishment is death where the murderer can be found; and if you think for a minute you will see that this must be so — Детеныши вольны бегать, куда им вздумается, и, пока они не убьют своего первого оленя, нет прощенья взрослому волку Стаи, если он убьет одного из них» [JB, с. 14] . Как и в случае нарушения Закона, наказание только одно — смерть.
«Отраженные» миры, искушение Маугли и Закон как Путь
Согласно обыденной логике, пророческая тема, раскрывающая новые грани киплинговского двоемирия, должна была бы получить развитие уже в следующей главе. Однако Киплинг, обрывая повествование, предлагает читателю историю под названием «Гробовщики». Этот скачок в сторону от генеральной линии, на первый взгляд, кажется труднообъяснимым. Ведь предшествующие «Напуску Джунглей» главы («Как пришел страх» и «Чудо Пурун Бхагата») образуют с историей о свершившейся мести цельную конструкцию. В рассказе о страхе, пришедшем в Джунгли, мы узнаем, кто является истинным страхом Джунглей — Человек. В повествовании об уничтоженном селении мы видим, что Джунгли боятся Человека, но не человека, и в то же время готовы подчиниться Человеческому Детенышу, и сам Хатхи говорит ему: «Thy war shall be our war» [2JB, с. 102]. А в «Чуде Пурун Бхагата» Киплинг создает мир, зеркально симметричный миру первого Страха и современному миру, живущему законом возмездия. Литературоведы называют эту историю «самой лучшей из всех, когда-либо написанных Киплингом»19. По мнению В. Шахана, «Чудо Пурун Бхага-та» — подлинный шедевр, одно из вершинных достижений Киплинга. Характеризуя достоинства истории о Пурун Дассе, исследователь отмечает: «Она настолько великолепно выстроена, сжато написана … , что, казалось бы, разливающийся поток ее материала приобретает форму, форму которую видит читатель»20.
В этой главе нам открывается еще одна грань киплинговского двоеми-рия. Если ранее система включала в себя Джунгли и джунгли, мир человека и мир дикой природы, мир мифа и мир реальности, мир Закона (Джунглей) и мир другого Закона (человеческого), то теперь она осложняется классической оппозицией Запада и Востока. По мнению Э. Строукса, «Чудо Пурун Бхагата» — «одна из наиболее откровенных попыток Киплинга понять отношения между двумя мирами; она свободна от расового подтекста, подразумеваемого в противостоянии Запада и Востока. Потрясающий художественный эффект истории достигается благодаря формату безупречной сказки»21. Э. Лайсетт предлагает интерпретацию, согласно которой «Редьярд с одобрением пишет о свободных от предрассудков приоритетах сэра Пурун Дасса: он работал и пытался сделать мир лучше, пока не увидел свой религиозный долг. Наблюдения за американским обществом помогли Киплингу повернуться в другую сторону и увидеть иную перспективу. Отвращение писа теля к неумеренности сырьевого капитализма помогло ему уважать вновь найденный индийский путь — но лишь если тот основан на британских моральных критериях»22. Признавая обоснованность подобных точек зрения, мы все же возьмем на себя смелость предположить, что сюжетная линия истории скрывает в себе нечто большее, чем простая иллюстрация к известной балладе. Безусловно, в ней можно обнаружить отголоски этого стихотворения. Тем более что автор сам постоянно напоминает о нем читателю: «Даже в то время, когда его — знаменитость — носили в Лондоне на руках, Пурун Дасса не оставляла мечта о тишине и покое — он видел перед собой длинную белую пыльную дорогу со следами босых ног, по которой шло медленное, но непрерывное движение…» [2JB, с. 40]. Разве это не аллюзия первой строки — «East is East, and West is West»? Безусловно, да. А чтобы не возникало вопроса о противостоянии культур, Киплинг рассказывая о судьбе Пурун Дасса, сразу четко расставляет необходимые акценты. Пурун Дасс — выходец из касты брахманов, получивший блестящее европейское образование, премьер-министр «полунезависимого» княжества Мохинивала — на пике карьеры неожиданно отказывается от должности, титула, наград и становится странствующим нищим Пурун Бхагатом: «Next month, when the city had returned to its sunbaked quiet, he did a thing no Englishman would have dreamed of doing; for, so far as the worlds affairs went, he died. The jeweled order of his knighthood went back to the Indian Government, and a new Prime Minister was appointed to the charge of affairs, and a great game of General Post began in all the subordinate appointments. The priests knew what had happened and the people guessed; but India is the one place in the world where a man can do as he pleases and nobody asks why; and the fact that Dewan Sir Pu-run Dass, K. C. I. E., had resigned position, palace, and power, and taken up the begging-bowl and ocher-colored dress of a Sunnyasi or holy man, was considered nothing extraordinary. He had been, as the Old Law recommends, twenty years a youth, twenty years a fighter, — though he had never carried a weapon in his life, — and twenty years head of a house-hold. He had used his wealth and his power for what he knew both to be worth; he had taken honor when it came his way ; he had seen men and cities far and near, and men and cities had stood up and honored him. Now he would let these things go, as a man drops the cloak he no longer needs» [2JB, 38-39]. Дорога ведет его на север, и он идет по ней, не замечая ничего: «It was all one to Purun Dass — or Purun Bhagat, as he called himself now. Earth, people, and food were all one» [2JB, с. 41].
Но вот однажды… — «…till one day he saw the far line of the great Hi-malayas» [2JB, с. 41]. И тогда Пурун Бхагат вдруг улыбнулся: «Purun Bhagat smiled, for he remembered that his mother was of Rajput Brahmin birth, from Kulu way — a Hill-woman, always home-sick for the snows — and that the least touch of Hill blood draws a man at the end back to where he belongs» [2JB, с. 41]. Нетрудно увидеть, что в последнем предложении звучит мотив, игравший центральную роль в стихотворении «The Gipsy Trail», которое было опубликовано за два года до написания истории о Пурун Бхагате — родная кровь к родной крови.
В то же время цели тех, кто идет цыганской тропой, и цель Пурун Бха-гата разнятся, поскольку потомок браминов ищет знание, собственный Закон и покой [2JB, с. 41, 42, 45]. При этом Закон оставленного мира продолжает пользоваться у него тем же уважением, каким пользовался раньше: «Purun Bhagat … leaned on the rail of the Mall, watching that glorious view of the Plains spread out forty miles below, till a native Mohammedan policeman told him he was obstructing traffic; and Purun Bhagat salaamed reverently to the Law, because he knew the value of it, and was seeking for a Law of his own» [2JB, с. 42].